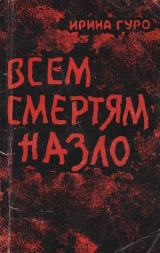
Текст книги "Всем смертям назло"
Автор книги: Ирина Гуро
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Сторож долго молчал. Потом сказал в раздумье:
– В классе-то их много было. И с беляками ушел не один. Не может того быть, чтобы вы только по одному этому заподозрили...
Шумилов прервал старика:
– Верно вы подметили. Не по одному этому. А по вашим словам об этом человеке, предавшем вашего сына... Вы сказали, что белые поймали его на чем-то, запугали и заставили выдать всех, кого он знал... Верно?
– Верно, – кивнул головой Пал Палыч.
– Так вот. Мне представляется, что человек, убитый в гостинице, тоже запутался, хотел высвободиться... Но не успел. Сообщники как-то узнали об его решении признаться властям. Узнали и...
– А это похоже на него. На Степку Ященко, – сказал Пал Палыч. – Трус он всегда был. Но подлецом я его раньше не знал. Нет, не знал.
Я записала все, что вспомнил Пал Палыч о соученике своего сына, Степане Ященко, его приметы, его характер, его знакомства. Но все обрывалось, как тропа, ведущая к реке: уйдя с белыми, Степан Ященко пропал из виду.
Утром следующего дня мы с большим трудом соединились по телефону с губернией. Перебивая хриплые голоса, докладывающие о ходе уборки огородных, Мотя Бойко кричал:
– Результаты экспертизы: автобиография в губоно написана безусловно не тем лицом, что предсмертная записка и «бланк приезжающего»...
Наш секретарь очень удивился, когда Шумилов сказал спокойно, что иначе и быть не могло.
Шумилов не мог объяснить по телефону то, что было уже известно нам: автобиографию в губоно писал настоящий Дмитрий Салаев. «Бланк приезжающего» и записку Люде – его двойник.
Конец дня принес нам новую неожиданность. Из села Воронки с попутной машиной приехал Салаев. Он был совершенно сбит с толку. С трудом удалось получить от него связный рассказ о посещении священника.
Некий отец Герасим, глубокий старик, проведший в Воронках последние двадцать лет, встретил Салаева в штыки:
– Что же это, молодой человек, вы будете терять метрики, а мы – выдавай да выдавай! Еще двух месяцев не прошло, как я выслал вам свидетельство.
Салаев отрицал факт получения свидетельства. Священник настаивал. В конце концов он развернул толстую книгу. На записи рождения Салаева стояла сделанная совсем недавно справка: «Выдано свидетельство». Сюда же было вложено письмо от имени Дмитрия Салаева с просьбой выслать ему копию метрической записи.
Письмо было из нашего города. Адрес указывался: «Почтовое отделение, до востребования, Дмитрию Салаеву»...
Было очевидно, что корреспонденцию двойник получал по тому самому фальшивому удостоверению личности‚ которое было обнаружено у убитого.
Когда Салаев сказал отцу Герасиму, что он стал жертвой обмана, священник растревожился.
– Дело не шуточное, – сказал он, – я должен заявить властям...
Соучастие священника в деле об убийстве казалось малоправдоподобным. Шумилов вдруг заторопился, заявил, что в Н-ске нам больше делать нечего. Ночью мы уехали.
На этот раз нас устроили в купе проводников. Мы были вдвоем, никто не мешал нам.
Мы положили перед собой лист бумаги и построили схему. Что нам известно?
1. Что в гостинице «Шато» убит неизвестный, присвоивший себе имя, метрику и удостоверение Дмитрия Салаева.
2. Что метрика добыта путем обмана священника и получена неизвестным лицом в почтовом отделении № 2 нашего города «до востребования», по всей вероятности, по липовому удостоверению на имя Салаева.
3. Что убитый написал письмо некой Люде – о ней уже ровно ничего неизвестно. Ничего, кроме содержания письма, выданного розовой промокашкой на пресс-папье. Набрасывая это письмо, двойник Салаева волновался, начинал и снова бросал писать.
4. Подлинное письмо Люде унесено убийцей, чтобы здать видимость самоубийства. На стол же положен один из вариантов письма, смятый и брошенный в корну под стол...
– Стойте! – воскликнула я. – Именно то, что письмо было смято и затем разглажено, вас навело на мысль...
– Верно. Не может быть, чтобы, обращаясь к любимой девушке с последним письмом, человек вытащил бы его из корзины, старательно разгладил и... все же не докончил его.
– И, конечно, убийца унес конверт с адресом Люды! – докончила я.
– Разумеется... Итак, – подытожил Шумилов, – нам не известно: 1. Кто убитый? 2. Кто убийца? 3. Кто сообщники? 4. Нам неизвестно полное имя единственного человека, который мог бы ответить хотя бы на один из этих вопросов.
Теперь сама собой напрашивалась догадка, что убийство совершено сообщниками убитого, чтобы помешать их разоблачению.
Удивительное дело, чем больше фактов мы выискивали, тем больше возникало перед нами загадок.
– Есть одна возможность, – сказал Шумилов.
– Какая? – удивилась я. – Ведь ясно, что мы зашли в тупик.
– Люда, – ответил Шумилов.
Поезд убегал в ночь, нетерпеливо стучали колеса, тайна оставалась позади нас, тайна ждала впереди.
– А ведь я сделал ошибку, – сказал Шумилов, – дав заметку в «Происшествия»...
– Конечно, – не без удовольствия отметила я. – Вы не хотели спугнуть убийцу. Но убийца знает о существовании настоящего Дмитрия Салаева. И теперь всполошится вдвойне...
– Возможно. А Люда?.. Она прочтет заметку и вероятнее всего реагировать как-то будет. Подождем.
Ближайшие дни принесли нам одни разочарования. В почтовом отделении никаких данных о получателе корреспонденции добыть не удалось.
В посланной нами в Н-ск фотографии ни Пал Палыч, ни Салаев не опознали Степана Ященко. Убитый был совершенно незнаком им.
Опять сплошные «не».
– Конечно, насчет Ященко это были одни только мои фантазии, – огорченно сказал Шумилов.
– Да, вы почему-то решили, что именно Пал Палыч нам поможет.
– Ну в этом я еще не ошибся. Будущее покажет, – ответил мой начальник.
И я вспомнила слова, которые слышала от Шумилова не раз, – слова о том, что в наших условиях правосудие имеет поддержку большинства населения. Поэтому надо искать этой помощи... Заводить больше «бытовых связей», прислушиваться к мнениям, которые могут, на первый взгляд, показаться случайными, а в итоге дать нить следствию.
Шумилов умел выражать свои мысли ненавязчиво, не крикливо. Он не высказывал их с той категоричностью и нетерпимостью к чужому мнению, какая отличала наши комсомольские споры.
И вместе с тем было в моем начальнике то, что его роднило с нами: некая одержимость. Но мы растекались, разбрасывались, а Иона Шумилов нацелен был точно. Он был очень профессионален, мой начальник.
Во время нашего отсутствия Мотя проявил самостоятельность. Это стало ясно, когда мы начали знакомиться с происшествиями минувших дней.
– Докладывайте, Мотя, – сказал Шумилов, – что тут без нас случилось.
– Слушаюсь! – Мотя умел-таки щегольнуть военным словцом, вытянуться, щелкнуть каблуками. В органах юстиции это, собственно, не полагалось, но в Красной Армии в те годы как раз вводилась сугубая подтянутость. Мотя собезьянничал у красных командиров даже походку: левой рукой вроде придерживал несуществующую шашку. – Разрешите доложить в первой серии: в доме пять по Колокольной обнаружен труп.
– Как это, «в серии»? – морщась, спросил Шумилов. – При чем тут «серия»? Кино это, что ли?
– Разрешите доложить, что еще почище кина бует, – не растерялся Мотя. И добавил таинственно: – Труп – жилец этого же дома!
– Оригинально! – заметил Шумилов без улыбки. – Что же это, самоубийство?
– К сожалению, – вздохнул Мотя.
– Почему к сожалению?
– Ну все-таки было бы интереснее, если бы... – Мотя спохватился и поспешно досказал: – Печально, Иона Петрович, когда молодой человек сам по себе кончает счеты с жизнью!
Довольный таким ответом, Мотя оглянулся на меня.
– А чем доказано, что это самоубийство?
– Всем, Иона Петрович. Опрос свидетелей, предсмертная записка, несчастная любовь... А главное – заключение экспертизы... – Мотя кашлянул и, вытянув шею, ткнул пальцем в лист дела: – Вот здесь, в деле, протокол осмотра трупа и места происшествия. Я писал. Шикарный протокол! – шепнул мне Мотя, пока Шумилов пробегал глазами документ.
Но Иона Петрович услышал.
– Действительно шикарный! – начальник громко прочел начало:
– «Лицо жертвы...» Позвольте, почему жертвы, если это самоубийство?
– Так я ж, когда писал протокол, еще не знал. Надеялся, гм... думал, что убийство. С «жертвой» как-то покрасивше, – признался Мотя, плутовские глазки его сверкнули.
Шумилов нахмурился и продолжал:
– «Лицо жертвы было покрыто смертельной бледностью и лошадиной попоной...» Блестящий стиль! А откуда попона?
– Не могу знать, Иона Петрович, накрыл, значит, кто-то чем пришлось.
– А это что? «Подлый убийца бросил на месте кошмарного преступления кулек, наполовину наполненный квасолью...»
– Детали, Иона Петрович, – пробормотал Мотя. – Вы же учили примечать детали и заносить в протокол осмотра.
Шумилов страшно рассердился:
– Чтоб вашего духу больше не было на месте «кошмарных преступлений»! – Шумилов не остыл, но взял себя в руки и уже спокойно спросил: – Слушайте, Мотя, почему бы вам не пойти учиться?
Учиться? Мотя изумился: он считал, что все знает и так. Успешная деятельность в камере нарследа 8 убедила его в этом.
– Почему бы вам не пойти на рабфак?
Разговор меня удивил. Меня сняли с учебы, чтобы я сидела здесь, а Мотю так легко отправляют учиться?
Я была убеждена, что из Мотиного ученья ничего не выйдет.
3
Не могу сказать, что именно из-за Шумилова я перестала писать стихи. Но все-таки в каком-то роде он был причиной этого.
Если бы он прямо сказал мне: «Стихи твои – ни к черту! Распрягай Пегаса, займись делом!» Если бы он так прямо сказал мне, я ни на минуту не усомнилась бы в своем таланте. Но Шумилов поступал иначе...
Машин в ту пору в городе было мало. А у нас с моим начальником не было даже «выезда», как у губернского прокурора.
Поэтому, как писал в инструкции судья Наливайко, «основным средством передвижения низовых работников юстиции являются так называемые ноги»...
И этими самыми ногами мы исхаживали город вдоль и поперек. Если было нужно для дела, мы отправлялись в путь в дальние городские районы, и эти хождения имели для меня особую приманчивость. Дело в том, что во время этих прогулок Шумилов рассказывал мне разные случаи из своей практики. Но иногда это были стихи... Да, он читал стихи Блока или Сергея Есенина, который совсем недавно стал нашим кумиром.
Ну, разумеется, я и сама читала стихи. И Блока, и Есенина. Но почему-то, когда Шумилов своим глуховатым голосом и чуть раздумчиво произносил: «Я – последний поэт деревни, скромен в песнях дощатый мост», строки эти казались мне прекрасными как никогда.
Но... Вот тут-то и была закавыка: собственные стихи представлялись мне не звучными, не содержательными, не... не...
И все чаще мне чудилось, что Пегас, крылатый конь поэзии, проносится мимо меня и кто-то другой заносит ногу в стремя и взлетает в седло, и мчится «синей, гулкой ранью...»
Однажды я подошла к Панкрату Железному. Это было в клубе Пролеткульта. Любимый поэт стоял у буфетной стойки и пил пиво «Новая Бавария».
Я храбро заявила, что пишу стихи и хотела бы прочесть ему.
– Про чего пишешь? – спросил Железный.
– Про молодежь с производства.
– Давай валяй.
Я прочла:
Наше детство! Ночами протяжный гудок,
Под ногами дрожащий дощатый мосток...
– Погодь! – остановил меня поэт, – гудок, гудок... производство какое? Чугунолитейный, сталепрокатный?
– Сахарный завод, – упавшим голосом произнесла я.
– Это хужее.
Он задумался. Но человек он был добрый и тотчас сказал:
– Я тебе сейчас черкну цидулку. Варвару Огневую знаешь?
Еще бы не знать! Я любовалась ею и завидовала ей, когда, окруженная молодыми поэтами в рубашках до колен, называемых «толстовками», она появлялась на литературных диспутах, красивая, авторитетная, тридцатилетняя...
Глядя на нее, я в полной мере сознавала собственное восемнадцатилетнее ничтожество.
Панкрат открыл свой замызганный портфель, вывернул на прилавок его содержимое: горбушку хлеба, учебник политграмоты, куски обоев с лесенками стихов на обороте, и на клочке тех же обоев начертал: «Варвара займис с этой девахой она товарищ с производства хотя и не индустриалного с комприветом обнимаю Панкрат».
Как мы все, Железный игнорировал не только твердый знак, но и мягкий – из протеста против старой орфографии. А заодно и знаки препинания. Пусть буржуи препинаются – им делать нечего!
И вот я иду к Варваре Огневой. Она живет на самой шикарной улице города, в Доме Советов – бывшей дворянской гимназии. С трепетом я звоню – да, на двери кнопка звонка, и он действует. Как при старом режиме.
Звонок действует, но никто не открывает. Хриплый бас кричит изнутри:
– Чего трезвонишь? Открыто!
В широком, словно в театре, коридоре, стоит на табуретке обладатель баса и выкручивает медные части из старинной люстры. На мой робкий вопрос он указывает куда-то в глубь коридора.
Дверь в комнату Варвары распахнута. Знаменитая поэтесса лежит на узкой железной кровати, положив грязные босые ноги на ее спинку. На животе у Варвары стопка книг. Варвара читает и курит самокрутку.
На мои шаги она отзывается быстрым взглядом умных карих глаз и столь же быстрым вопросом:
– Стихи, девочка?
Она пробегает глазами записку Панкрата и спрашивает деловито и отрывисто:
– Какое производство?
– Сахарный завод, – разочаровываю ее.
– Давай читай!
Я читаю:
Наше детство! Ночами протяжный гудок,
Под ногами дрожащий дощатый мосток...
Огонек фонаря и, до боли родной,
Слышу голос отца у двери проходной...
Варвара внимательно слушает и отбивает босой ногой ритм стиха.
Потом говорит, словно сделала бог знает какое открытие:
– Знаешь, в этом что-то есть.
Я хотела бы знать, что именно, но тут она вскакивает, роняя на пол книги, выхватывает у меня из рук листок с моими стихами, на минутку задумывается... И начинает быстро писать между строк. Лицо ее преображается, оно светится, оно лучится... Наконец, она отрывается от бумаги, откидывает назад гриву пепельных волос и читает нараспев, отбивая ритм ногой по полу:
Наше детство – у-у-у! – басило гудком,
Наливалось вымя рабочей силой...
– Вымя? – воскликнула я в ужасе.
– Ну да... Это ведь, кажется, у козы.
– И у коровы, – почему-то шепотом добавила я.
– Вот-вот. Тут, понимаешь, такой подтекст: темная крестьянская стихия приобщается к производству... Ну и все такое. Вымя – это образ. В общем, ты почитай, подумай. И помни: язык поэзии – самый краткий, лапидарный язык. В ХХ веке уже нельзя писать: «Ночами басовый гудок». Лучше всего просто дать самый гудок: У-у-у». Звучит? А?.. То-то. А вообще, слушай: поезжай на свой сахарный завод и присмотрись к рабочей жизни. Ищи острую ситуацию. И помни: поэзия – самый краткий язык...
Я хмуро объяснила, что не могу поехать домой: поссорилась с отцом.
Огневая удивилась:
– Так помирись!
– Не могу, – сказала я, – у нас принципиальные разногласия...
Варвара возразила быстро:
– Ради поэзии не то что помириться с отцом – убить отца можно!
Карие глаза ее загорелись янтарным блеском, как тогда, когда она писала строки про вымя.
Я стояла, растерянная, обескураженная: я чувствовала себя отсталой мещанкой со своими нелапидарными стихами.
Варвара сжалилась надо мной.
– Слушай-ка, девочка! – она трахнула меня по плечу своей большой, почти мужской рукой. – Приходи в среду на диспут в редакцию «Зори революции». Там будут молодые поэты из моей группы «Семперанте».
Последнего слова я не поняла и по простоте души предположила, что здесь нечто связанное с эсперанто – про этот универсальный язык я слыхала.
Потом оказалось, что семперанте значит «всегда вперед» – по-латыни. Так называлась поэтическая группа, состоявшая из трех человек: Варвары Огневой, юноши Саши и пожилого рабочего Осипа. Теперь я была там четвертой. Саша – тот самый, который орудовал над люстрой, длинный, сухой и нервный электромонтер, по наущению Варвары «посвятил всего себя» попыткам передачи характера электрического заряда в рифмованных строчках.
Осипа Варвара «готовила в самородки». Он был тихий, ласковый и застенчивый, смотрел с немым обожанием на Варвару. И в угоду ей писал ни на что непохожие поэмы про динозавров, называя их «дикозаврами», про пещерный век. Но «для себя» он втайне сочинял звучные, красивые стихи о своей родной деревне под Сумами. Иногда он мне читал их мягким, приятным голосом.
Все трое с такой страстью говорили о поэзии, как у нас говорили только о революции.
Я стала ходить на чтения этой группы, которые почему-то назывались «ступенями». Кажется, имелось в виду, что каждое такое чтение ведет с одной ступени творчества на другую.
Но меня эти ступени никуда не вели.
И чем глубже я входила в свою работу у Шумилова, тем меньше нравились мне и «ступени», и вся группа «Семперанте», и всего меньше – мои собственные стихи.
Пегас скакал от меня прочь с веселым ржанием. И я не пыталась его удержать. Я сама отпустила повод. Конь был не по мне.
4
Итак, выяснилось, что поп в Воронках послал метрику человеку, назвавшемуся Дмитрием Салаевым. Послал не злонамеренно, а поверив, что запрос сделал действительно Салаев. Да и почему ему было не поверить? Ведь проситель указал подробности, которые убеждали.
Все дело было в другом —в том, что мы не могли узнать, кто выдал себя за Салаева.
Единственное, что мы путем экспертизы установили, это то, что письмо с просьбой выслать метрику писало то же лицо, которое сделало записи в «бланке для приезжающих», то есть двойник Салаева.
Шумилов предложил «временную» версию: убийство молодого человека, назовем его Икс, было совершено убийцей, назовем его Игрек, чтобы помешать разоблачению Иксом какого-то преступления, совершенного ими совместно, возможно и с другими лицами.
Так юридически определялся мотив убийства.
Почему возникла мысль о виновности убитого? Не только по характеру письма к Люде, но и потому, что убитый получил обманным путем метрику Салаева и выдавал себя за него.
Когда Шумилов высказал эти соображения, я задала ему вопрос:
– Зачем Икс показывал дежурному именные часы, якобы принадлежавшие его отцу? Зачем он сдал метрику директору гостиницы? Видимо, это делалось для того, чтобы утвердить себя в роли Салаева? Верно?
– Правильно рассуждаете, – подтвердил Шумилов.
– Но для чего это было нужно Иксу, раз он решил заявить о своем преступлении?
– Вы невнимательны, – сказал Шумилов, – вы упускаете важные слова в записке, адресованной Люде. Там говорится, что «еще вчера» он не знал, что решит явиться с повинной.
Начальник был прав. Я промолчала. Но вопрос готов был слететь с моих губ, и Шумилов сжалился надо мной:
– Вы хотите знать, почему я ничего не предпринимаю? Есть положения, в которых лучше всего выждать.
– Выждать? Чего? Убийца заметет следы. Допросы служащих гостиницы ничего дать не могут: никто не видел ночного посетителя, никто не слышал выстрела, никто не имеет никаких подозрений. Игрек не оставил никаких следов, мы ничего о нем не знаем.
Я проговорила все это с такой горячностью, что она задела, наконец, Шумилова.
– Суета неуместна в нашем деле. Чего ждать? Постараюсь объяснить вам. Итак, существует – где, нам неизвестно, – некая Люда. Несомненно, убитый делился с ней самым затаенным. На это указывает характер письма. Люда знает, с чем должен был явиться ее друг в органы следствия. Зная это, она могла бы дать ключ к разгадке главной тайны: кто убийца? Все это так. Но давайте поразмыслим о положении Люды сейчас. Она прочла в газете о самоубийстве своего друга. И что же? Погоревала – и все! Но если это не самоубийство? В душе близкого человека должно родиться желание помочь отыскать убийцу...
– Если сама Люда... – перебила я.
– Да, если сама Люда не замешана в деле, – согласился Шумилов. – Вот на этот случай я дал такую заметку...
Иона Петрович развернул сегодняшнюю газету. В нескольких строках сообщалось, что данными следствия установлен факт убийства в гостинице «Шато», что следствие ведет следователь Шумилов...
Я прочла сообщение молча, но подумала, что мой начальник не очень последователен: сообщение спугнет убийцу.
Ночью мы с Шумиловым выезжали на большой пожар на химическом заводе. Еще не угасло на пожарище последнее пламя, сбитое водой, а мы уже работали: допрашивали свидетелей, сотрудников пожарной охраны, служащих, рабочих.
Закончилась эта работа ранним утром. Шумилов сказал, что пойдет прямо домой. Он жил в общежитии прокуратуры. Протоколы допросов он велел мне отнести в нашу камеру. После этого я могла идти спать.
Я отправилась. Идти было далеко. Я смертельно устала. И кроме того, надышалась гарью.
Я даже сразу не заметила, что в нашей камере кроме Моти Бойко есть еще человек. Это был маленький старичок в старомодном котелке, каких не носили даже нэпманы, и в черном пальто с шелковыми лацканами, засаленными и потертыми.
Я подумала, что старичок пришел по какому-то делу, спросила, что ему надо.
Он ничего не ответил, только растерянно поморгал редкими ресницами.
Но самое удивительное было то, что Мотя, нахальный, никогда не теряющийся Мотя, как-то странно встретил меня, словно застигнутый врасплох. Он пробормотал что-то невнятное, и поскорее выпроводил странного посетителя.
– Что это значит, Мотя? – спросила я строго.
– А я что, тебе отчет давать обязан? – огрызнулся он, и я узнала прежнего Мотю.
Но тут же я забыла об этом случае. Начисто исчез из моей памяти и таинственный старичок.
Мы возвратились к убийству в гостинице «Шато» довольно скоро.
Стремление укрепить государство, пресечь преступления, выявить все, что мешает строить новую жизнь, приводило к нам множество разных людей.
И по твердому убеждению Шумилова, не могло не привести Люду. Таинственную Люду, к которой были обращены горькие строки последнего письма неизвестного молодого человека.
Шумилов оказался почти прав. Это «почти» пришлось на нерешительность девушки, втянутой в сложные события. И еще в одном не ошибся мой начальник: Пал Палыч оказал нам немалую услугу. От него пришло письмо. Старомодным почерком, в витиеватых фразах сторож сообщал нам, что в Н-ск приезжала молодая девушка, Людмила Власова.
Она приходила на могилу своего дяди, недавно умершего. Так как у него не было никого из близких, девушка просила позаботиться о том, чтобы могила содержалась в порядке.
Девушка оказалась доверчивой и прямодушной: она рассказала о себе. Она училась в нашем городе, часто приезжала в Н-ск к дяде при его жизни.
Случайное совпадение имен побудило Пал Палыча завести с Людой разговор об убийстве в гостинице «Шато». Он попросту сказал, что прочел об этом происшествии в газете, и спросил, нет ли чего нового? Что говорят в городе?
Вопрос его вызвал у Люды странное волнение. Она растерялась и пробормотала, что не знает ни о каком убийстве в гостинице.
Пал Палыч писал, что Люда Власова, по его подозрению, как-то причастна к делу. Он сообщил нам ее адрес. Этот адрес просто жег мне руки, но Шумилов и теперь не разрешил вызвать Люду.
– Она явится сама, – упрямо твердил он, – если мы вызовем ее, она замкнется. Она должна прийти сама.
Однажды к нам позвонили по телефону. Я была одна: Шумилов выехал в командировку. Говорил мужчина, судя по голосу, молодой. Он хотел видеть следователя Шумилова. Я сказала, что он в отъезде, и назвала себя. Минута раздумья... Потом, словно вдруг решившись, незнакомец сказал:
– Тогда мне необходимо поговорить с вами. Это очень срочно.
– Сегодня вечером в восемь, – сказала я.
В ту пору стали часты явки с повинной, то есть приход преступника, желавшего сознаться в своей вине и получить должное наказание. Только бы быть чистым перед родиной и потом начать новую жизнь.
Являлись бандиты и воры, иногда даже бывшие белогвардейцы.
Суд учитывал в своем приговоре явку с повинной.
Этот взволнованный голос, эта поспешность подсказывали мне, что речь идет именно об этом. И, вероятно, о немаловажном преступлении.
Я никогда не могла оставаться спокойной, слушая исповедь человека, нашедшего в себе силу отдаться в руки правосудия. К сожалению, я не умела, как Шумиов, носить маску абсолютного спокойствия и холодной строгости. Почему я говорю «маску»? Потому, что много раз видела, как дрожат его руки, когда он берет чистый лист бумаги, чтобы писать протокол допроса. Только в этом, пожалуй, и сказывалось его волнение.
И вот я жду... Кто явится сейчас? Голос, безусловно, принадлежал человеку культурному, это чувствовалось по всему строю речи. Может быть, это один из тех юношей, которые запутались в сложной «нэповской» обстановке, попали в сети преступного мира...
Или, вернее всего, растратчик.
Опять же нэп, казино, бега, паштетные...
За окном стоял снежный зимний вечер, не очень морозный, по мягкому нашему климату, но ветреный. И сухие ветви деревьев у самого окна чертили по стеклу невнятный и тревожный рисунок.
Ровно в восемь в дверь постучали. Вошел молодой человек, высокий, худой, с умным, подвижным лицом, с пристальным взглядом темных глаз за стеклами очков.
Почему-то, несмотря на видимое волнение пришедшего‚ я сразу подумала, что это не явка с повинной.
– Прежде всего, прошу вас ничего не записывать, – сказал он с ходу, едва присев на предложенный мной стул.
Я успокоила его, сказав, что и не собиралась этого делать, не зная, в чем состоит дело.
– Мое дело состоит... – начал он. И осекся. – Это, собственно, совсем не мое дело. Хотя и близко меня касается. Это дело человека, которого я люблю. И покой которого мне дорог.
Это звучало несколько выспренне, но волнение его было неподдельным.
– Скажите, если человеку, молодой девушке, было известно о какой-то тайне... О преступлении. И она смолчала... Она будет отвечать перед законом? – вдруг просил он.
Я сказала, что если речь идет о преступлении государственном, если девушка стала участницей контрреволюционного заговора, например...
– Нет, нет, – взволнованно перебил юноша, – речь идет об убийстве...
«В нашем производстве», как это называлось на юридическом языке, было несколько дел об убийствах. Но, могу сказать с полной точностью, я ни на минуту не усомнилась в том, что речь пойдет об убийстве в гостинице «Шато».
– Успокойтесь и рассказывайте, – предложила я, – и прежде всего назовите себя.
Мой собеседник, студент Владимир Альтов, учился на 3-м курсе политехнического института.
В тот же институт на первый курс поступила Людмила Власова. Несколько месяцев назад с ней случилась странная история. Ее стал преследовать своими ухаживаниями молодой человек, с которым она познакомилась случайно на улице.
Людмила рассказывала, что это был в общем приятный парень, только несколько задумчивый и нервный. Но самое важное заключалось в том, что он назвал себя Дмитрием Салаевым из Н-ска.
Людмила, бывая в Н-ске, познакомилась с настоящим Дмитрием Салаевым. Об этом она не сказала новому знакомому.
В дальнейших разговорах она выяснила, что он полностью «присвоил» себе биографию Дмитрия Салаева. Она не могла понять, для чего ему это было нужно. По его словам, молодой человек недавно приехал с юга, устраивается здесь на работу и собирается одновременно учиться на рабфаке.
После нескольких встреч Людмила решила, что называется, «взять быка за рога» и заявила, что знает настоящего Дмитрия Салаева. Она потребовала объяснения.
Вероятно, молодой человек действительно искренне полюбил Людмилу, потому что после мучительных колебаний он выдал ей свою тайну.
Настоящее имя его было Олег Крайнов. Он жил в Краснодаре. Отец его служил в царской армии и пропал без вести в конце войны 1914 года. Подросток остался совсем один. Он служил рассыльным в торговой конторе. Перед тем как белые покинули Краснодар, Олега вызвали в контрразведку. Пожилой офицер, Иосаф Салаев, как он назвал себя, долго говорил с ним, ласково внушал ему, что он должен «послужить святой России», как служил его отец.
От Олега требовалось поселиться в нашем городе и, устроившись на работу в какое-нибудь советское учреждение, давать у себя дома приют людям, которых будут присылать в «большевистскую Россию» из-за границы, агентам белых.
Олег слабо разбирался в политике, перспектива показалась ему романтичной. Он дал письменное обязательство.
Ему было выдано удостоверение на имя Дмитрия Салаева, приличная сумма денег и именные часы. Офицер сказал, что эти часы подкрепят положение Олега, а удостоверение выдано на имя его племянника, Дмитрия Салаева, и «выдержит любые проверки»...
После взятия большевиками Краснодара Олег должен был выехать в наш город, но он не смог этого сделать сразу.
Олегу был дан один-единственный адрес. Он не назвал его, но сказал Людмиле, что ходил по этому адресу и что это оказалась мастерская счетных машин. В действительности в этой «мастерской» скупались краденые счетные машины, которые потом сбывались опытными комиссионерами. Здесь работал человек, который должен был помочь Олегу устроиться.
Олег уверял Людмилу, что не собирается работать для белых, что прошедший год многое изменил в его взглядах. Но он боится.
Как ни допытывалась Людмила, чего именно боится Олег и какие у него основания бояться, тот ничего не сказал.
Людмила настаивала, чтобы Олег явился в уголовный розыск и все рассказал. Молодой человек не мог на это решиться, но дал клятву, что ничего не предпримет без ведома Людмилы. И если к нему явятся «с той стороны», не будет более колебаться: заявит обо всем.
Последнее свидание молодых людей состоялось за несколько дней до того, как Людмила прочла в газете о самоубийстве в гостинице «Шато».
Она считала, что, исчезнув из жизни, ее друг оборвал нить. Она не знала адреса «мастерской» и ничем, как она думала, не могла помочь следствию...
Но сообщение о том, что в гостинице имело место убийство, не могло оставить ее спокойной. Она рассказала обо всем своему другу Владимиру Альтову...
Люда оказалась скромной, милой девушкой, страшно напуганной всей этой историей. Она мало что нового добавила к заявлению Альтова.
Она только мельком заметила, что, по словам Крайнова, «мастерская» использует все способы для продажи ворованных счетных машин, опасаясь скопления их.
Через несколько дней в «Торговой газете» появилось объявление: «Укркоопспилка» скупает счетные машины всех марок. С предложениями обращаться к торговому агенту в гостиницу «Красная», номер три, с 6 до 8 ежедневно».
Ежедневно в эти часы в гостинице дежурил Мотя Бойко, с успехом игравший роль «торгового агента» Украинского кооперативного союза.
Надо сказать, что это поручение было как раз по Моте.
И роль «торгового агента» Мотя сыграл блестяще. За несколько дней ему натаскали множество счетных машин, за которые он щедро расплачивался деньгами «Укркоопспилки», которой машины действительно были нужны.
В короткое время он свел дружбу с юрким молодым человеком из мастерской счетных машин у Горбатого моста. Молодой человек пригласил Мотю в ресторан и здесь без дураков предложил ему покупать машины без паспорта, то есть краденые. Мотя запросил неслыханную цену в качестве комиссионных и, поломавшись, согласился.








