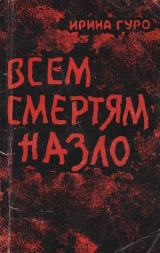
Текст книги "Всем смертям назло"
Автор книги: Ирина Гуро
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Что-то белело на дне оврага страшной, неестественной белизной. Володька побежал по склону, и я за ним, скользя по мокрой траве, оступаясь, руками цепляясь за мокрую и почему-то липкую траву.
Первым мы увидели мальчика, распростертого на дне оврага между крутых, травянистых берегов его. Совсем нагой и словно светящийся, лежал он в глубокой вечной своей купели, в такой страшной тишине, какая не могла и не должна была быть на этом свете.
Старик висел на дереве над сыном, едва не касаясь его пальцами вытянутых ног, словно в последней смертной судороге хотел дотянуться до родной плоти.
– Замолчи! Замолчи! Слышишь? Замолчи, а то вдарю! – кричал Володька, и тут я только заметила, что все время повторяю одни и те же слова: «Они увели ее. Они увели ее».
Мы бежали по оврагу и вдруг увидели Наташку... Она не была убита. Она была растерзана.
Четыре месяца гонялись мы за бандами. Четыре месяца почерневший и сухой, как уголь, Озол водил нас по лесам и полям, то зеленым, то заиндевевшим, под гудение проводов, под свист пуль, под стрекот пулеметов, под ржание коней.
Однажды как из-под земли поднялся впереди нас отряд богатырей. В длинных кавалерийских шинелях с «разговорами» – зелеными петлицами на груди, горяча шенкелями коней, покачивая пиками остроконечных шлемов, грозно и неотвратимо двигались они, негромко, слаженно ведя песню про «сынов батрацких», про «вильну Украину».
Это на смену нам двинули против банд отряд курсантов Высших военных курсов ВУЦИК имени Григория Ивановича Петровского.
Нас распустили. Мы уже не были «чоновцами». Мы опять стали штатскими юношами и девушками. Но прежними мы не стали.
Медленно, еле волоча ноги, словно старушка, подходила я к парикмахерскому салону «Ампир». Но что это? Вечно замазанные витрины были отмыты. За зеркальными окнами торчали гипсовые головки в причудливо завитых париках. Мужчины в белых халатах – мне почудилось было, что это санитары, – хлопотали около полулежащих в мягких креслах женщин. А женщины улыбались кощунственными, беспечными улыбками. Это и был «Ампир» в действии.
Потрясенная, я подымалась по знакомой лестнице, ступеньки которой, мне показалось, стали выше. Снизу я заметила Гришку-сахаринщика, стоявшего у двери с «гландами».
Он свесился вниз и закричал:
– Лелька вернулась! Ха! Вас вернулось, кажется, поменьше, чем ушло!
И вдруг как будто вернулся тот далеко позади оставшийся счастливый час, —я увидела отмель, залитую волной, и маленькие Наташкины ноги с розовыми ногтями и чешуйками песку.
Если бы я была безоружна, я бы вцепилась в Гришку зубами. Но я была вооружена. Я выхватила наган из кобуры и взвела курок к бою. Я нажала спусковой чок плавно, как нас учили. Или это показалось мне? Кто-то с силой ударил меня по руке. И я больше не видела Гришку.
Передо мной стоял незнакомый, высокий старик в рыжей кожаной куртке.
– Пойдем! – сказал он мне. И я пошла.
Мы поднялись на третий этаж. Он потянул незапертую дверь и ввел меня в почти пустую комнату. Над колченогим столом висел портрет Дзержинского.
– Ты думаешь, что революция – это беззаконие? – спросил он.
Я молчала.
– Зачем тебе дали оружие? – спросил он.
– Чтобы убивать этих гадов! – ответила я, стуча зубами.
– У нас есть законы. Это законы революции. Мы должны чтить и выполнять их.
Я молчала.
– Что ты думаешь делать?
– Не знаю, – сказала я. И я, правда, не знала.
– Пойдешь учиться, – сказал старик и, вырвав из блокнота листок, написал что-то на нем.
– Вот. Дашь ректору. Он зачислит тебя на первый курс юридического.
Это были незнакомые слова. Слова из какого-то нового мира: «ректор», «юридический»...
– Я не кончила школу, – пробормотала я.
– Ты уже прошла ее, – ответил старик.
И я прочла на листке печатный штамп: «Губернский Комитет КП(б) У».
Вечером пришел Володька.
– Что ты думаешь делать? – спросила я, невольно повторив вопрос, только что обращенный ко мне.
– Хватит в райкоме крутиться. Пусть уж другие. А я обратно – на транспорт, поезда водить.
Володя ушел и не являлся неделю. Он пришел в новенькой военной форме, в фуражке с малиновым околышем.
– Меня забрали в ДЕТО, – радостно сообщил он.
– Насчет детей? – удивилась я.
– Дура. Это транспортное ГПУ. Дорожно-транспортный отдел Объединенного государственного политического управления, – пояснил Володя.
Володя уходил от нас в поселок Южного узла, поближе к месту работы. Мы все грустно его проводили.
Все жители «Ампира» – кроме Гната Хвильового. Гната не было среди нас. Он перебрался в общежитие Военного трибунала. В трибунал его взяли на работу пока что курьером.
Часть вторая
1
Мое скромное положение практикантки обязывало меня приходить на службу раньше всех. Я выходила из дому вместе с подметальщиками улиц и почтальонами. Когда я шла через весь город – трамваи не ходили, автобусов не было, – он казался вымершим. И даже знаменитый Пречистенский базар – сокращенно Пречбаз – был пустынен и молчалив, как погост в моем родном поселке Лихово, недавно переименованном в Красный Кут.
Дворник Алпатыч, ушлый старик со старорежимной бородой, расчесанной на обе стороны, будто у генерал-губернатора какого, сидел на скамейке, на которой обычно дожидались вызова свидетели, и курил козью ножку. Уборщица Катерина Петровна надраивала медную доску на двери с надписью: «Губернский суд».
Между ними шла обычная перепалка. Дело в том, что Алпатыч достался губсуду в наследство от старого режима вместе со своей бородой и орлеными пуговицами па сюртуке. При царе он был тоже дворником, и тоже в суде, но, если ему верить, играл в деле правосудия огромную роль.
Не вникая в сущность происшедших перемен, Алпатыч считал себя ущемленным и, хотя не очень внятно, себе под нос, частенько повторял, что «за богом молитва, а за царем служба не пропадает».
– К чему бы эти слова, – спрашивала Катерина Петровна, нервно шаркая тряпкой по стеклу, – когда царя нету, а насчет бога в газетах пишут, что тоже большой вопрос?
Катерина Петровна была матерью народного судьи, всю жизнь промаялась в батрачках, и сетования Алпатыча выводили ее из себя.
Я не могла пройти мимо, поскольку тут происходило нечто вроде политического диспута. Я вмешалась:
– Вы, Алпатыч, что здесь контру разводите? За порогом пролетарский суд, а он – «царь, бог, молитвы»... Агитатор какой! Из партии «энбе»! – Я имела в виду «недорезанных буржуев».
– Лелька Смолокурова из Лихова – кандидат на судебную должность! – пробормотал орленый старик и, схватившись обеими руками за бороду, потянул ее половинки в разные стороны, словно хотел оторвать их напрочь. – О господи, пошто допустил, пошто взираешь, не разразишь на месте...
Как будто у господа только и дела было: допускать или не допускать меня на судебную должность!
Я прошла в длинный гулкий коридор. Губсуд помещался в здании бывшей монастырской гостиницы «Софийское подворье». Монастырь был тут же неподалеку.
Большие «купеческие» номера стали залами суда, а в архиерейском особнячке вела шумную жизнь коллегия защитников.
Я шла под сводчатым потолком в глубоком раздумье. Действительно, я была «кандидатом на судебную должность», если переводить на дореволюционный язык. Два месяца назад меня вызвали в губком комсомола и секретарь Сережка Ветров с завода «Свет шахтера» сказал мне сначала обыкновенным своим голосом:
– На юриста учишься? На третьем курсе? В точку! – Он набрал воздуху и уже другим, ораторским голосом закричал: – Старых юристов – на свалку истории! В суды бросим комсомол! Оздоровим органы юстиции! – И опять обыкновенно: – Мы бросаем тебя в губсуд. Путевку получишь в орготделе.
И вот уже два месяца меня «учит» народный следователь 1-го района Ольшанский. Хотя он и не носит орленых пуговиц и бороды на две стороны, а, наоборот, щеголяет во френче и галифе по моде сегодняшнего дня, чем-то он похож на Алпатыча.
При старом режиме Ольшанский не успел стать ни судьей, ни следователем, а окончив юридический факультет, был «кандидатом на судебную должность», то есть по всей форме – мой «коллега»!
«Но как велика разница между нами!» – сокрушалась я. Николай Эдуардович Ольшанский, представительный двадцатисемилетний блондин, говорил медленно и весомо, время от времени закрывая глаза, что придавало его словам особую значительность. И слова-то какие! Выражение «презумпция невиновности» звучало словно самый суровый приговор, хотя означало, наоборот, предположение невиновности человека. «Юрисдикция» – это выговаривалось с особым вкусом, почти как «я все могу». А слово «экстерриториальность» звенело и гремело медью и железом, как настоящая броня.
Николай Эдуардович любил употреблять латынь. Но эту его склонность члены губсуда, простые рабочие парни, – а один даже был матрос! – оценить не могли.
Я слышала разговор Олышанского с судьей об одном деле: обвинялся заведующий складом в том, что принял подарок от знакомого нэпмана. А нэпман не просто подарил ему какой-то крой на сапоги, а хотел выдурить наряд на кожтовары.
«Тимео данаос эт дона ферентес!» – произнес Ольшанский по этому поводу и тут же перевел: «Не верь данайцам и дары приносящим!»
– Судить этих ДАВАЙЦЕВ в первую очередь! – сердито сказал судья Наливайко.
Любимое изречение Николая Эдуардовича: «Омниа мекум порто» («Все свое ношу с собой») – почему-то всегда связывали с «портками» и глубокомысленно оглялывали диагоналевые брюки Ольшанского.
Нет, хоть и считались мы «коллегами», но до «нарследа 1» было мне, как до звезды на небе! Латынь теперь у нас на юридическом не проходили. Ростом я не вышла. И не то что диагоналевой, простой шерстяной юбки у меня не было.
А Ольшанский носил диагональ и в разговоре щеголял латынью. И все два месяца он дальше переписки бумаг меня не допускал.
Каждая из них начиналась неизменно ссылкой на ту или другую статью Уголовного кодекса, и следовали фразы одна другой тяжеловеснее: «Усматривая в оном Признаки состава преступления, предусмотренного статьей...» «В вышепоименованных действиях обвиняемого содержатся моменты, могущие, с применением статьи об аналогии, подпасть под содержание закона от...»
Даже простое предписание начальнику тюрьмы освободить человека из-под стражи звучало так зловеще, что освобожденный не знал, радоваться ему или пугаться.
Мучаясь над косноязычными постановлениями и протоколами, я мечтала попасть к «настоящему», то есть «теперешнему», следователю. «Теперешнему», и вместе с тем образованному, партийному, и вместе с тем юристу, законнику, но чтобы вполне с «пролетарским правосознанием», как говорилось в приговорах.
Но мои мечты ничего не стоили, потому что был только один следователь, соединявший эти качества: Иона Петрович Шумилов. И никаких практикантов ему не надо было. Он сам, собственноручно, подшивал дела, говоря: от того, как подшито дело, зависит, как судьи будут его читать; от того, как они будут его читать, зависит приговор. Он сам писал и переписывал все постановления, утверждая, что при этом «лучше схватывает суть».
Никому не приходило в голову, что практиканты нужны не только для подшивки дел и переписывания постановлений.
Никому, кроме Ионы Шумилова.
И я узнала об этом именно в описываемое утро.
Итак, я шла по коридору бывшего подворья и предавалась мрачным мыслям. Я привыкла к живой комсомольской работе среди шумной «братвы». У меня были особые причины избрать именно эту профессию. Но разрази меня гром, если бы я раньше знала про переписывание дурацких бумаг, силком меня сюда б не затащили!
Вот и наша «камера», так назывались комнаты, в которых работали следователи. Со вздохом отомкнула я дверь... И в эту минуту я услышала цоканье копыт и шуршание дутых шин по булыжнику двора.
В губсуде был только один «выезд». Он состоял из довольно игривой кобылки и «ландо», которое, если верить Алпатычу, служило еще губернатору. На этом основании Алпатыч внушал кучеру Петушку уважение к «ланду». Но комсомолец Петушок пренебрегал кучерским занятием в целом, ландо не мыл и кобылку не чистил.
Пользовался «выездом» исключительно губернскии прокурор, товарищ Самсонов. Он не замечал замызганного выезда, глубоко погруженный в государственные мысли.
В перерывах между «разведением контры» и уборкой двора – без особого рвения: поелозил немного метлой, и хорош! – Алпатыч рассказывал уборщицам всякие анекдоты из Библии.
Так как это происходило под моим окном, а я едва не засыпала с тоски над своими бумагами, то даже дремучие россказни Алпатыча освежали меня.
Была такая история про Самсона, удивительного богатыря, у которого вся сила сосредоточилась в волосах. Так у нашего Самсонова вся сила, наоборот, была в лысине. Он не принимал никакого решения, не потерев ее очень энергично обеими руками. Как только окружающие замечали этот жест, все умолкали: сейчас будет некое откровение!
Я Самсонова побаивалась. Мне казалось, что он презирает меня за то, что я не боролась с царизмом.
Самсонов никогда в такую рань в суде не появлялся, и я, с удивлением увидев перед собой его очень высокую и очень худую фигуру, как всегда, подумала: до чего же он похож на Дон-Кихота! Только вместо лат на нем – черная кожаная тужурка, а вместо меча – маузер в деревянном футляре на длинном ремне.
Я поздоровалась, но Самсонов, не отвечая мне, задумчиво и, как мне показалось, придирчиво оглядел меня с головы до пят каким-то странным взглядом. И тут же взялся за лысину. Я замерла. Своим глухим голосом прокурор произнес:
– Таиса Пахомовна, зайдите!
Если бы он назвал меня Далилой, – это была та дама, которая, по Библии, отрезала Самсону волосы, отняв всю его силу, – я бы так не удивилась! Никто еще никогда в жизни не называл меня по имени-отчеству.
Вообще-то все меня звали Лелькой. Это мне совсем не нравилось, и я ужасно злилась, когда моя мама длинно и нудно начинала рассказывать, как я, совсем маленькой, сама себя называла: «Лёла». Подумаешь, интерес какой! Мало кто что лопочет, когда и говорить-то еще не умеет! Но имя «Лелька» приклеилось ко мне, как бумажка к леденцу. Дело в том, что Таисой назвала меня бабушка, страшная богомолка, и папа кричал, что это поповское имя, и что он его не признает, и чтобы я звалась Еленой.
Поскольку паспортов не было, а в удостоверения вписывали кто чего хотел, я всюду называлась Еленой Но в комсомольском билете стояло настоящее имя: Таиса. Поэтому, когда меня так пышно назвал прокурор, я поняла, что разговор будет официальный и, наверное очень важный. Вернее всего, соображала я, Ольшанский на меня нажаловался, что я дерзкая. У нас с Ольшанским были стычки. Не затем же комсомол меня «бросил» в Губсуд, чтобы я стала «письмоводителем», ка это называлось в старое время. Я должна была раньше или позже получить самостоятельную работу. И к ней надо было готовиться. А от переписки бумаг я только тупела. Я даже как-то назвала Ольшанского «старым барином на вате». Он вызвал повесткой свидетеля, рабочего с производства, и давай его манежить в коридоре. А сам поставил перед собой шахматную доску и накручивает себе по телефону: с каким-то профессором играет! Я ему напоминаю, что, мол, ждет человек... А он опять: Б-2, Ф-3...
Ну тот свидетель тоже вскипел, вбежал в камеру и кричит:
– Долго я тут у вас штаны просиживать буду?
Николай Эдуардович закрыл ладонью трубку и вежливо говорит:
– Товарищ, не волнуйтесь. Вы получите формальную справку, что были вызваны в судебный орган для дачи соответствующих показаний. И вам беспрекословно будет полностью оплачен трудовой день.
Тут свидетель еще больше вызверился. Чихал, говорит, я на вашу справку! У меня, говорит, производство станет. Без меня такие, как вы, там брак погонят.
И они поругались. То есть рабочий-то ругался по-настоящему, а Ольшанский тонким голосом выкрикивал разные слова: «нонсенс» – глупость, значит; «суверенитет суда», то есть неограниченная власть, и тому подобное.
Видно было, что свидетель посчитал эти слова за какие-то особенные ругательства. В конце концов он убежал.
– Вот, – говорю я, – мы остались без свидетеля. Надо было его сразу допрашивать.
– Не велик барин, – отвечает Ольшанский и берется опять за телефонную трубку.
– Сами вы старый барин на вате, – сказала тогда я. Он посмотрел на меня диким взглядом и прошипел:
– Я вам это так не оставлю.
И теперь я вспомнила все это и, вздохнув, приготоась к худшему.
Самсонов все еще держался за лысину и смотрел на меня так, словно искал и не находил во мне чего-то совершенно необходимого.
Наконец он сказал:
– Конечно, народный следователь, а тем более судья должен бы, помимо всех прочих качеств, иметь солидный вид ...
Он сделал маленькую паузу, и я ворвалась в нее – ужасно злая, потому что он наступил на самое мое больное место.
– Держите тогда царских чиновников! – закричала я. – У них солидный вид! У них борода на две стороны. У их диагоналевые брюки! Они по-латыни шпарят!
Я совершенно забылась. Моя несдержанность, от которой в моей короткой жизни я уже имела неисчислимые беды, толкала меня под бок: «Давай, давай, хватит тебе воду возить!»
– Теперь я вижу, – сказал холодно губернский прокурор, – что вы слишком молоды для самостоятельной аботы.
– Наша власть тоже молодая! – возразила я. – И законы молодые, и правосознание. И молодость не может служить препятствием к государственной службе. Как бы я ни была молода – я совершеннолетняя! И могу по закону занимать любую должность! «Все равно уж!» – промелькнуло у меня в голове, и я добавила вызывающе: – Я к вам не просилась. Меня комсомол бросил.
Самсонов хотел было взяться за лысину, но на полпути опустил руку и вдруг улыбнулся. Я никогда не видела на его лице улыбки. Это было непривычно и как-то трогательно: как будто в мрачный подвал забрел солнечный луч и сам не знает, что ему тут делать. Улыбка тотчас запуталась в сетке морщин, заглохла в щетине небритых щек, словно вода, ушедшая в песок. Но она была. И она выбила у меня из рук оружие. Я молчала.
Он сказал раздраженно:
– Мало того, что вы невыдержанны, вы еще и невнимательны. Я сказал: «конечно, должен бы иметь солидный вид...» «Бы...» Но если нет вида, тут уж ничего не сделаешь... Авторитет суда, конечно, держится не на внешнем виде его работников.
Я молчала. Я все еще не могла прийти в себя.
– Через год, – продолжал прокурор, – вы должны получить самостоятельный участок работы. За этот год вы обязаны набраться опыта.
«Как раз. Наберешься», – подумала я, но решила промолчать.
– Так вот, – сказал Самсонов, закончив тереть лысину, – я принял решение: вы пройдете практику у народного следователя 1-го района Шумилова.... Вы свободны.
Он встал. Я встала тоже.
– До свидания, товарищ Самсонов!
– До свидания, товарищ Смолокурова!
В коридоре я с размаху налетела на Лешу Сахно, секретаря коллегии защитников.
Леша имел удивительное свойство: первым узнавать все новости.
– Тебя – к Шумилову! С тебя причитается!
Я схватила Лешу за рукав:
– Объясни ты, в чем дело. Шумилов же старший следователь.
Леша свистнул:
– Со вчерашнего дня – уже нет. Сам просился в народные, районные. Говорит, что в старших он отрывается от настоящей следственной работы.
– А Ольшанский?
– Что Ольшанский? Он в институт уходит, преподавать.
– Но Шумилов ведь против практикантов, – вспомнила я.
– Был. А теперь – за. Он сказал, что хочет подготовить себе смену...
Леша понесся дальше, а я осталась стоять с разинутым ртом. «Смена» – шутка сказать! И почему он думает о смене? Что ему, сто лет?
События развивались благоприятным для меня образом, если не считать одного. Шумилов просил дать практиканта, но не меня же... А вдруг он выставит меня?
Я видела Шумилова всегда издали. Он мне казался очень молодым, фигура у него была легкая, движения быстрые, что при небольшом росте создавало впечатление какой-то мальчишестости.
Но теперь, когда он сидел напротив меня и нас разделял только стол, я увидела, какие глубокие морщины рассекли его лоб и как блестят седые пряди в волосах, которые он носил, по моде того времени, гладко зачеанными назад.
Безусловно, он выглядел старше своих тридцати лет. Его длинный острый нос и немного вытянутая верхняя губа придавали ему сходство с какой-то хищной птицей. Серые глаза, круглые, с неприметными светлыми ресницами, близко посаженные, укрепляли это впечатление.
Это были глаза умной птицы, внимательные и немного усталые.
Шумилов не носил ни френча с галифе, как это было принято у «ответработников», ни кожаной куртки. На нем был костюм совершенно старорежимного вида. Пиджак с разрезом сзади. И хотя галстука он не носил – еще чего не хватало! – почему-то казалось, что галстук был бы тут уместен.
Конечно, мне хотелось бы, чтоб мой начальник и учитель был похож на Шерлока Холмса. Но чего не было, того не было. Шумилов не сосал трубку, не пронизывал взглядом и не кривил губы в иронической усмешке.
Нет, он не был Шерлоком Холмсом. Но зато он был Ионой Шумиловым.
В моих глазах это значило много больше. Кто такой Шерлок Холмс? Способный детектив, служащий капитализму.
А Иона Шумилов, блестящий советский следователь, стоял на страже завоеваний революции и охранял жизнь и покой граждан первой и единственной в мире Страны Советов.
И вот теперь, по крайней мере год, я буду вместе с ним каждый день и даже больше, потому что работа наша обычно продолжалась и ночью. Конечно, я не буду переписывать скучные бумаги. Кто будет их переписывать, меня мало заботило. Я буду выезжать на места кошмарных преступлений, распутывать нити сложных дел, высказывать гениальные догадки, поражающие самого Шумилова, и в итоге сражать преступников системой полновесных улик.
Мои мечты прервал будничный голос Шумилова:
– Мы примем часть района у нарследа 8-го участка, значит, и часть его дел.
Что же, это мне нравилось. Я не боялась работы. Лишь бы не побоялись мне ее доверить.
– И потом нам нужен расторопный секретарь.
Я внутренне возликовала, потому что терпеть не могла секретаря Ольшанского, Сонечку Лапину.
Целый день она с остервенением пудрила нос и звонила по телефону какому то Жоре:
«Аллё-у! Жёрочка, это вы? Это я. Что, вы хотите меня видеть? Вы, правда, хотите меня видеть?.. Хочу ли я вас видеть? Определенно да, определенно нет... Не надо слов. Пока».
Интересно, кого же возьмет в секретари Шумилов. Иона Петрович, конечно, выберет лучшего из секретарей.
Наша камера – я теперь с удовольствием говорила «наша» – помещалась в здании губсуда, наш район был самым бойким и теперь будет самым крупным.
Мы – это «мы» я тоже произносила охотно – могли «сманить» любого секретаря. Но кого надо сманивать?
– Мотю Бойко, – вдруг сказал Шумилов.
– Мотю Бойко?
Я едва удержалась, чтобы не рассмеяться. Не было в суде большего плута, чем Мотя Бойко. Пользуясь тем, что его начальник, народный следователь 8-го района старый большевик Ткачев, получивший чахотку в Якутской ссылке, часто отсутствовал, Мотя вершил все дела лично, да так, что о нем просто анекдоты ходили.
И вдруг его к нам в секретари!
Но так как я приняла твердое решение быть выдержанной и не соваться со своим мнением, когда меня не спрашивают, то я промолчала.
Шумилов заметил мои переживания и сказал:
– Мотя Бойко будет у нас вполне на месте...
– Да? – спросила я. Как раз в этом я не была уверена.
– Мы с вами не дадим ему особенно резвиться. Верно?
Я оценила это «мы с вами» и поспешила согласиться.
– Давайте пойдем в камеру нарследа восемь и посмотрим, как там произрастает Мотя Бойко.
Мы отправились, идти надо было – будь здоров!
Дорога шла мимо бывшего женского монастыря. У ворот сидели на лавочках бывшие монашки, ныне члены артели «Ручвяз». Это неблагозвучное название было стыдливо написано от руки на небольшом листе бумаги, наклеенном на заборе. Написано оно было смешными буквами, похожими на славянские. Кроме того, еще стояло в скобках: «на спицах и других инструментах».
– Интересно, что это за «другие инструменты», – заметил мой начальник.
Я ему тут же объяснила, что имеется ввиду крючок ручного вязания.
Все, что касается монашек, было мне прекрасно известно. Когда я училась в младших группах – тогда не было классов, а были группы, – папа меня определил на квартиру к монашкам, чтоб я «не баловалась». Так что мне были известны все их штучки-мучки. Как они маргарином спекулировали и «святой водой» торговали – из колонки!
В настоящий момент монашки «ручвязом» не заниались, а лузгали семечки и бойко переругивались.
Невдалеке, на паперти древней маленькой церкви, сидели слепцы и, яростно покручивая ручку цитры, дружно ныли на невероятной смеси украинского с русским:
Мимо рая прохожу,
Гирко плачу и тужу ...
Дальше – больше, со слезою в голосе:
Дней воскресных я не чтил,
Во грехах дни проводил...
Батька с матерью не чтил...
Ой лихо мени, лихо!
Великое лихо!
Душераздирающее мяуканье цитры как нельзя больше подходило к мрачному тексту.
Тут же, без перехода, звучно высморкавшись на паперть, слепцы весело заводили:
А у кума е бджо...
А у кума е бджо... Бджо-о-олы!
Дай мне, кум, ме-ме...
Дай мне, кум, ме-ме...
Ме-е-еду!
Закончив, они затягивали гнусаво:
Подайтэ, нэ минайтэ...
– А як ни, то нэ минэ вас лиха година... – добавляли они скороговоркой.
Мы шли браво, но мне страшно хотелось есть. Может, от того так хотелось есть, что нам все время попадались паштетные. В них сидели нэпманы. Многие из них были толстые, какими их рисовали в газетах и журналах. Но иные, наоборот, поражали худобой. На их тощих фигурах болтались пиджаки и визитки «лучших времен». «Вот до чего довела нас Советская власть», – как бы говорили они.
В большие зеркальные окна было видно, как нэпманы жрут мясо. И надо думать, это была не конина.
– Как вы думаете, это не конина?
– Где? – спросил Иона Петрович, как будто с неба свалился.
– Ну, там, в паштетной...
– А... не знаю. Меня это не интересует, – ответил Шумилов ледяным голосом, как будто не доел со мной сегодня утром последнюю воблу из пайка.
Конечно, Шумилов может жить одними интеллектуальными интересами. Это его особенность. А я не могу.
– Я не могу жить одними интеллектуальными интересами, – вызывающе сказала я.
– Да? – Шумилов презрительно прищурился. – Кто же тогда поэт? Я – поэт или вы – поэт?
Он меня сразил. Я замолчала и больше не смотрела в окна.
Замечание Шумилова уязвило меня больно. Со стихами вышло у меня нескладно. Я сочиняла стихи. Чаще всего на ходу. У меня не было времени. сидеть и писать за столом, как это делали поэты ушедшей эпохи. Собственно, не было и стола. Стихи должны были «идти от жизни» – это я твердо знала. Ну, а моя жизнь вся была на ходу: институт – кожзавод – губсуд. И, вероятно, от того, что они рождались в этой спешке, звучание моих стихов было похоже на шарканье деревянных подошв по асфальту.
Я теперь уже не бегала на спичечные фабричонки. Все эти «Этны» и «Везувии», и даже «Пожар Коммуны», не существовали. У частных владельцев их отобрали, и была теперь одна большая государственная спичечная фабрика.
А меня прикрепили к ячейке кожзавода, где, как мне зали в губкоме, «подняли голову троцкисты». Оказалось, поднял голову там только один Женька Шуляков. Других троцкистов на кожзаводе не обнаружилось. Но Женька Шуляков стоил целой троцкистской организации.
Он являлся на занятия моего кружка и пытался «сбивать» меня каверзными вопросами насчет «перманентной революции». Я вступала в спор с Женькой, и он так кричал, что на кружок прибегали даже из цехов.
В конце концов он ужасно надоел всем, и ребята не стали пускать его на занятия. Женька ушел с кожзавода и стал «кадровым» троцкистом, писал измененным почерком всякие пасквили и разбрасывал их по предприятиям. Мне рассказывали, что однажды рабочие поймали его за этим занятием и надавали ему по первое число.
Кожзавод занимал теперь в моей жизни значительное место, как некогда спичечные фабричонки.
Камера нарследа 8 помещалась в бывшем «доходном доме» баронессы Ган.
Мотя Бойко сидел за огромным письменным столом с фигурными ножками и с резными львиными мордами на ящиках. На Моте была вельветовая толстовка с голубым бантом под подбородком вместо галстука. Усы у него еще не росли, но на подбородке вился какой-то дымчатый пушок. Видно было, что Мотя его всячески холит.
Когда мы вошли, Мотя крутил ручку телефона и кричал в трубку:
– Уголовный розыск? Говорит нарслед восемь. Что там такое в доме 30 по Нетеченской? Женщина в сундуке? Не трогайте до моего приезда! Кого не трогать? Ни женщину, ни сундук не трогайте! Что, она живая? Так пусть вылезет из сундука. Уже вылезла? Так в чем же дело? Попытка удушения? Ведите дознание. Прибуду лично.
Мотя повесил трубку и тут только заметил нас.
Иона Петрович, стоя посреди комнаты в своем франтоватом сером костюме, с портфелем под мышкой, медленно проговорил:
– Я народный следователь 1-го района Шумилов. Это мой помощник Таиса Смолокурова.
В эту минуту я с восторгом поняла, что возврата к «Лельке» никогда не будет!
Мотя посмотрел на меня с глубочайшим презрением и с готовностью пододвинул Шумилову стул.
– Чем могу служить? – спросил он. Эта форма обращения мне понравилась. И я догадалась, что Мотя научился ей у старика Ткачева.
Шумилов подал мне стул, уселся сам и, к моему удивлению, даже не заикнулся о своем намерении взять Мотю к себе.
– По приказу председателя губсуда к моему району отходит участок от Пречбаза до Проточной, – начал он официальным тоном и оглянулся. На стенах карты района не было, но Мотя в одно мгновение извлек ее из ящика стола, и Шумилов отметил улицы, отходящие в наш район.
– Чудесно, – сказал Мотя, – я, – он сказал «я», – просто задыхаюсь от дел. И знаете, большинство преступлений совершено именно на этих...
– Отходящих к нам улицах? – вежливо осведомился Шумилов.
– Да, – не моргнув глазом, объявил Мотя.
– Странное совпадение! – сказал Шумилов.
– Очень странное, – со вздохом подтвердил Мотя и предложил приступить к делу.
Мы уселись за львиный стол. Мотя стал с треском распахивать дверцы канцелярских шкафов и в несколько минут накидал высокие кипы дел. Столб пыли поднялся кверху. Очевидно, Мотя не ставил себе целью разгрузить камеру за время болезни своего начальника.
– Значит, давайте так. Направо положим дела, которые отойдут к вам. Налево те, что останутся у нас.
– Давайте, – согласился Шумилов. Опять он ничего не сказал о предполагаемом Мотином переходе к нему. Я уже решила, что Шумилов передумал. И в самом деле: У Моти с этим его бантом был ужасно несолидный вид.
– Поехали! – объявил Мотя, словно играл в какую-то забавную игру, и взял дело, лежащее сверху:
– Труп неизвестной женщины. Обнаружен на Нетеченской улице. Ваше.
Шумилов кивком головы показал, что согласен.
– Кража со взломом в доме номер семь на Буровой...








