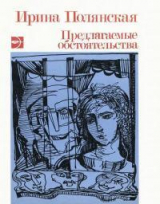
Текст книги "Предлагаемые обстоятельства"
Автор книги: Ирина Полянская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Но продолжать рассказ о Томке можно бесконечно, так что вернемся к точке, которую все же надо поставить, эта точка, вернее, восклицательный знак поставлен в конце Томкиной истории самой жизнью.
Однажды в хмурый ноябрьский день, когда туманный воздух особенно темен и тускл, Томка и Нюша совершали маршрут от Казанского вокзала к улице Яблочкова. Подошел троллейбус, и они занялись своим привычным делом. В салоне было тихо и свободно, измученные затяжной осенью пассажиры рассеянно смотрели сквозь текущий по стеклу дождь на мокрую Москву. И вдруг до нее долетел голос, который показался ей знакомым.
– Да я только что сам хотел...
– Хотел, да вспотел, – отрезала Нюша, – плати, сынок, штраф.
Томка оставила в покое женщину, отчаянно разыскивающую в двух сумках билет, и пошла на голос – еще не веря, только предполагая... Она сделала всего несколько шагов, кинула взгляд и сразу все поняла и увидела, ничуть не дрогнув и не удивившись. За считанные секунды она поняла, как далеко ушла от той девочки, которая, нащупывая в сумочке липкий пакетик изюма в шоколаде, бродила между спящими людьми на Казанском вокзале, от той, которая подглядела, как один парень схватил с жестяной тарелочки сайку, от той, которая торжественно отмечала лучший день своей юности в ресторане «Долина». Как далеко ушла она и от молодой женщины, катившей коляску по булыжной мостовой тенистого городка, которая нараспев читала стихи в маленьком зале литобъединения, которая ждала до глубокой ночи мужа, прислушиваясь к тарахтенью лифта и мечтая собрать все эти часы ожидания в год жизни и вычеркнуть из нее этот тягостный год, чтобы ожиданий не было и в помине, а Паша всегда был при ней. Рассказывая всем и каждому про свою судьбу, она рассказывала совсем другую историю, чем та, что произошла на самом деле, хотя ничего не присочиняла, никого не пыталась ввести в заблуждение, герои были те же, факты – те самые, но все представало в другом свете, пронизанное вовсе не той музыкой. Эту же повесть она никогда не вспоминала, и вот теперь она встала перед Томкой во весь свой рост, шелестя всеми своими страницами, когда она сделала несколько шагов к самому ее началу, к оглавлению, первому абзацу, и ноги у нее подкашивались от тяжести первого тома ее жизни, который должен был вот-вот захлопнуться. Вот она, первая иллюстрация, портрет человека с пририсованными ребяческой рукой усами, мускулами, эполетами...
– Нет у меня с собой денег, бабуль, – примирительно сказал Паша, – прости уж на первый случай за-ради бога...
– Бог, может, простит, а государство не прощает тем, кто его обманывает. Плати, сынок, штраф.
– Говорю тебе, нет у меня мелочи!
– Мне не мелочь нужна, рубиль подавай, а то в милицию поедем!
– Некогда мне в милицию, я и так опаздываю!
– Это твое дело, сынок, а вот я никуда не тороплюсь. Товарищ водитель, переднюю не открывай.
Томка подошла к Нюше, тронула ее за плечо.
– Возьми с меня, – протягивая ей бумажку, тихо сказала она, – у него правда нет денег.
Паша посмотрел на нее, и лицо у него вытянулось.
– Здравствуй, Тамара, – пробормотал он.
Нюша подозрительным взглядом посмотрела на Томку и, что-то поняв, отмахнулась от ее рубля и пошла к выходу.
Постарел Паша, постарел. Томка смотрела в него как в зеркало и видела себя. Это она жила чужой жизнью под чужой крышей, писала заимствованные стихи, думала не своей головой. Все на Паше (в этом-то она была уверена) было чужое: меховой полушубок, купленный не на заработанные деньги, пушистый длинный шарф, ондатровая шапка, и весь он раздобрел на чужих харчах и немного поседел от надуманных переживаний. Томка отвела взгляд, перевернув последнюю страницу, и двинулась следом за Нюшей. Паша вскочил и схватил ее за руку.
– Тома... – сказал он.
Томка повернула голову и равнодушно бросила:
– Брысь!
Что можно добавить еще? Что и обманутые наши надежды все же имеют какую-то высшую цель, что, несвершившиеся, они дополняют рисунок судьбы? Что они и не были бы обмануты, кабы можно было однажды, в самом начале остановить поток чувств и произвести в них ревизию – обязательно обнаружилась бы какая-то гниль, которая в дальнейшем разрастется как зуб, чуть тронутый кариесом. Что душа, прищемленная, отмирает только какой-то своей частью, но как ящерка восстанавливается другой? Главное, что Томка начала новую жизнь, которую уже не освещает яркая личность Паши. Томка возникает в моей памяти согнувшейся над швейной машинкой, все кому-то шьющей бесконечные платья, она видится мне с ногами устроившейся в глубоком кресле и зубрящей учебники по программе для поступающих или же с чашкой кофе в руке, разглагольствующей на те же темы, которые в эту минуту обсуждались в разных словоохотливых домах, – экологическая среда, онкологические заболевания, последняя вещь Вознесенского, самоусовершенствование, Россия, Лета, Лорелея... И я там был, мед-пиво пил, разговоры разговаривал...
Так кто же она, спросит терпеливый читатель: жена? мать? швея? поэтесса? контролер? женщина или дитя бессмысленное, человек Томка?
Томка по-прежнему пишет, но уже не стихи, а прозу, и не прозу, а что-то вроде сценария, по которому опытный режиссер может снять фильм, где будут затронуты такие-то и такие-то проблемы, раскрыты разнообразные характеры – пусть и не совсем героев нашего времени, но все же его действующих лиц, действующих и противодействующих – времени, жизни, человеку. Она говорит, что ей неважно, сделают фильм по ее сценарию или нет, ей важно понять, отложив в сторону свою и Пашину маски, кем они были, наши современники, и были ли они ими, ибо теперь ей кажется, что они долго шагали со временем врозь, с его, запинаясь, добавляет она, духовным содержанием. Теперь она любит изучать людей, любовно и пристально подсматривать за ними, особенно в метро за едущими навстречу ей на эскалаторе. В эту минуту лица людей оттаивают, они задумчиво смотрят друг в друга как в зеркало, одни плывут вниз, другие ползут наверх, и все чувствуют щемящую аллегорию этого путешествия. Люди заглядывают друг другу в лица и как будто спрашивают: а как вам? все ли у вас ладно? или у вас как у нас? отчего у вас, люди, когда вы едете на службу, такие наглухо заколоченные физиономии, отчего, когда спешите домой, такие лица, точно вы несетесь по следу, который вот-вот занесет снежком? Отчего вы после этого минутного, но исполненного пониманием себя и всех нас уважительного путешествия на эскалаторе врываетесь в автобус и, расталкивая других локтями, норовите пробраться к свободному месту, ведь то, которое ваше, – оно всегда свободно, никто его не займет, никто не посмеет на него посягнуть, зачем же вам чужие свободные места, стоит ли вызывать к себе недобрые чувства, стремясь именно к этому, завидному, тем более что Нюша на подходе и вам не оправдаться, что не успели взять билет, поскольку прорывались к теплому местечку?
Томка выходит из метро и бежит к большому книжному магазину. Там всегда продают карты – географические карты мира, Атлантического океана, Европы и Азии, они отпечатаны на нужной ей для построения выкроек и лекал бумаге, немнущейся и глянцевитой. Поздно вечером Томка ползает над разложенными на полу картами с линейкой, карандашом и ножницами и вдруг откладывает все это в сторону и переворачивает одну из карт, любимую – Московской области. Лицо у нее делается совершенно простое. Она водит пальцем по рекам и озерам, городам и станциям, она гладит живущих там-то и там-то людей по головке, склонившись над ними как мать, и тихо восклицает: «Тань, глянь-ко. Названья чудные – Андриаполь. Шмелевка. Висючий бор. Девкино! Долгие бороды, Добывалово. Таня, а Тань, – зовет она, – смотри, озеро Плещеево, а вот Сонино озеро, болото Герский мох... Село называется Катька. А рядом село Степан. И почему деревня Хахели?».
И вот ее палец все ближе и ближе подступает к Москве, она хмурит лоб, задумывается, горько вздыхает, словно смотрит на непостижимую звезду. Ужо тебе, Москва! Вот Томка ногтем упирается в центр столицы, и я чувствую ее взгляд на своем затылке. «Ваш билетик?» – «Проездной». Прощай, Томка, смотри, смотри с высоты птичьего полета далекой кометы на этот удивительный город, странноприимный дом, где даже ты, одинокая, не одинока, прощай, Томка, я еду, еду, еду.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(Повесть)
1. Зеркало
...И вдруг налетел календарный мартовский ветер, согнул в три погибели городские деревья, даже вороны не могли удержаться на ветках, их тоже сдувало и влекло по течению воздуха, как лоскуты афиши Латвийской филармонии со столба объявлений; ветер опрокинул ветхую ограду на старом латышском кладбище, и ожидалось, что вот-вот старинные памятники оторвутся от могильных плит и разбегутся по городу кто куда, а каменные ангелы с надгробий взмахнут потрескавшимися крыльями и слетятся, как голуби, на городскую площадь, где явно недоставало какого-нибудь посланника прелестной старины, где все вокруг было новое, четырехэтажное, тогда как древняя часть городка утопала в весенней грязи, с каждым годом все больше и больше превращаясь в окраину. Весна звонила во все колокола, звала на митинги, пикники, на что-то сумасбродное, веселое, и поэтому ученики городской средней школы, открыв настежь окна, попрыгали прямо в талый снег и сломя голову помчались на расположенное неподалеку кладбище... Звонко и радостно, как галчата, они покружили над знакомыми могилами, которые были стары, даже слишком, чтобы пугать, наводить мысль о смерти, а потом уселись рассказывать страшные истории именно на том самом месте под березой, где спустя три дня, уныло тюкая лопатами еще не оттаявшую землю, двое могильщиков выроют яму для их учителя пения и музыки.

Итак, огибая мощное надгробие с вознесенной на нем Ниобеей, у которой ветер напрасно пытался раздуть каменные складки одежд, они решили, что учитель пения, конечно, жаловаться на них директору школы не пойдет: не такой он человек. А учитель в это время вошел в пустой класс и сказал: «Здравствуйте, дети» – рев ветра за окном ответил ему. Ученики посидели по очереди на коленях безглазой статуи, не мигая смотревшей ветру в лицо, а учитель в этот момент уже миновал школьный коридор и пошел куда глаза глядят, гонимый учениками и ветром. Дети заметили, что облака над городом летят как сумасшедшие куда-то в сторону реки. «А небо, боже мой, обезоруживающе прекрасно даже в смертный час», – подумал учитель, пересекая дорогу, по которой, как ветер смерти, мчалась машина. Смерть человека в одно мгновение смешалась со стоном деревьев, с бегущими над прохладным миром облаками и лохмотьями позавчерашних афиш со столба объявлений у Политехнического института, где меньше чем через месяц, когда весна вошла в свои берега и Даугава из серой пенящейся лавины воды сделалась кроткой равнинной рекою, возникло свежее объявление о продаже учительского рояля.
Конечно, мы с тобой ни прямо, ни косвенно не были повинны в гибели этого тихого человека, который, до стеснения в груди боготворя Шопена, разучивал со школьниками детсадовские «У дороги чибис» и «Птичка под моим окошком»; те же самые песни учили и мы – в другой школе. Впрочем, ты тогда была мала, ты разучивала в своем детском саду: «Воробей с березки на дорогу прыг, больше нет морозов, чик-чирик!» Куплет пел солист, не ты, ты так и не научилась солировать, «чик-чирик» исполнял хор, причем ты в этот момент вместе со всеми скованно махала не окрепшим еще крылом, имитируя воробушка.
В те времена стояло воскресное апрельское утро 1957 года, последнее воскресенье стремительно и бесповоротно уходящего апреля, оно отражалось в чистых окнах, лужах, витринах, в черных полированных ящиках двух пианино, которые завезли вчера вечером в магазин. В нашем городе тогда еще немногие жители могли купить себе пианино, но мы уже могли себе это позволить, потому что наш отец, не щадя живота своего, служил науке и вместе с тем зарабатывал для нас, чтобы ни ты, ни я ни в чем не нуждались. Ходики с кукушкой показали ровно семь часов утра апрельского воскресенья, и в этот момент, когда птичка судорожно выпихнула свое березовое тельце из часов, отец зычно крикнул: «Подъем!»
У нас с тобой в комнате был детский уголок, где в чистоте и порядке стоял игрушечный столик со стульями, кровать для кукол смастерил сам отец из четырех штативов и какой-то сетки, мама сшила матрас и одеяльца, под которыми спали моя целлулоидовая Надя и твоя тряпичная, маркая Мерседес; отец будил нас, а мы, в свою очередь, будили наших дочек. Это я отлично помню, а вот какие репродукции висели в детской, вспомнить не могу, хотя предполагаю, что это были Шишкин и Саврасов, особенно любимые отцом. В нашей комнате все было пронизано светом, солнцем, солнечными пятнами. Когда мы открывали шифоньер и подставляли свету его потаенное зеркало, комната, отражаясь, продолжалась. Впрочем, это неважно. Вскоре принесли рояль, и Надя и Мерседес, все подали в отставку, потому что он занял не только всю комнату, но и все наше свободное время. Подумай: до того, как его внесут, остались считанные дни – давай же еще немного побудем в просторном утре, когда отец приблизился к двери и постучал...
Едва костяшки его сухих и выразительных рук стукнулись о нашу дверь, ты уже сорвалась с постели и повисла на шее отца. Ты была очень худа, и рубашка болталась на тебе, как колокол. Отец рассеянно похлопал тебя по спине, поставил на пол, но глаза его смотрели на меня.
– Мои детки выспались? – спросил он меня, а ты закричала:
– Да, да!
– От, не шуми так, Таечка, – сказал он и, мазнув тебя рукой по волосам, прошел ко мне: – Ну, ну, вставай, детка, я же вижу, один глазик уже проснулся.
– А другой? – сонно спросила я.
– Сейчас и другой разбудим.
– А третий? – настаивала я.
– Разве Гелечка похожа на плохую девочку Трехглазку? – удивился отец. – Нет, – терпеливо возразил он, – у нашей доченьки только пара глазок, и оба уже открылись, чтобы видеть чудесный день.
– Девочки, делать зарядку, – распорядилась бабушка из-за папиной спины.
– А я не хочу ее делать, – сказала я, – пусть мне лучше приснится, как я делаю зарядку.
– Пусть тогда дочурке уж заодно и приснятся вкусные сырные печеньица. – «Нет, сырные печеньица я лучше так съем». – «Тогда вставай, детка. Петушок уже пропел». – «И скоро придет толстая Цилда?» – «Скоро, скоро». – «А Гоша будет потихоньку ногти грызть?» – «Гоша – трудяга, детка, в отличие от некоторых, которые сони». – «А Цилда соня?» – «Почем я знаю?»
Он вынул меня из кровати и поднял над головой. Все говорили отцу, что я как две капли похожа на него. Я висела над ним как капля и видела, как слезы ревности наворачиваются у тебя на глаза, хотя ты еще улыбалась. Отец снова опустил меня в постель, легонько шлепнул – одеваться! – и, снова пронеся руку над твоей головой, ушел будить маму.
Бабушка, что-то напевая, приводила в порядок свою каморку. Ее спальней была кладовка, потому что бабушка не хотела никому мешать, имея привычку читать допоздна. Так она и жила в кладовке, как мышка-норушка, но никого из соседей и отцовых гостей не обманывала ни эта кладовка, ни раскладушка, застланная линялым одеялом, ни настольная лампа с обгоревшим абажуром – там инкогнито проживала королева, а вовсе не мышка, не норушка. Это ее дребезжащий, но властный голос отрывал отца от подготовки доклада, который он собирался сделать на Менделеевском съезде в Москве: «Саша, поди сюда!» Девочки, услыхав бабушкин призыв, подхватывали его, и Александр Николаевич, оторвавшись от трудов своих, выходил в коридор и прислонялся к двери бабушкиных апартаментов. «Послушай, Саша, какая дивная мысль», – говорила бабушка и певучим голосом декламировала сыну какое-нибудь место из «Пер Гюнта» или «Фауста». Отец, прикрыв веки, впитывал прочитанное, просил повторить. Маме, которая не смела отрывать отца от его дел, все это казалось демонстрацией духовного единства свекрови с сыном. В прочитанных бабушкой отрывках она не видела ровным счетом ничего неотложного, поза отца казалась ей ненатуральной; после того как дивная мысль была зачитана и повторена, мама всовывала голову в кладовку и простодушно спрашивала, жарить картошку, или варить, или потушить капусту к котлетам. Над бабушкиным изголовьем висела репродукция картины Рембрандта «Анатомия доктора Тюльпа». Нас она несколько пугала, куда больше тепла было, например, в «Спящей Венере» или «Святой Инессе», вырезанных бабушкой из «Огонька», но отцу казалось, что Венера и Инесса нанесут непоправимый урон атмосфере целомудрия в его семье, и обеих красавиц бабушка держала в папке, на которой было написано: «Применение органических реактивов в неорганическом анализе». Здесь же хранился дневник бабушки с надписью на обложке: «Dum spiro spero» – вечерами бабушка в него писала адресованные вечности доносы на наши с тобой шалости. Нам казалось, эта тетрадь содержит неслыханные разоблачения, великие секреты, глубокие мысли, навеянные чтением Ибсена и Гёте. Мы подозревали, что бабушка зашифровывает свои записи, сделанные к тому же наверняка на немецком языке, которым она свободно владела; одно время мы мечтали проникнуть в тайну ее дневника, но нам казалось, что если попытаться сделать это, то случится непоправимое – то ли злой ветер подхватит и унесет нас, то ли каждая из нас превратится в козленка, напившегося из копытца, поэтому мы лишь теребили тесемки на синей папке, но дальше этого пойти не отваживались. Спустя много лет, когда мы уже хорошо понимали, что читать чужие дневники кощунство и святотатство, хотя ни ветер, ни козленок нам не грозят, дневника уже не было, да и бабушки тоже. Однажды мама рассказала, что она этот дневник потихоньку читала, что, ей-богу, ничего выдающегося и глубокого там не было, рецепты старинной кухни в нем перемежались с пространными в ее, мамин, адрес, замечаниями, а впрочем, детки, бабушка очень вас любила, особенно тебя, Таюша, что и нашло свое отражение на страницах ее тетради между описаниями приготовления слоеного пирога с бараниной и восточной сладости под названием «чак-чак», которые, бывало, уплетали за обе щеки папин аспирант Гоша и лаборантка Цилда, а Наташа только хвалила и восхищалась, имея целью не восточную сладость, а твоего, Гелечка-детка, отца, его именно, нашего папу, в то достопамятное утро обходившего свои владения, собирая подчиненных на завтрак. Бабушка объявила, что завтрак она приготовит сама, пусть мама Марина не беспокоится, пусть отдыхает... Отец возразил, что не следует баловать Марину. Бабушка заметила, что сегодня воскресенье, поэтому за стряпню примется она, не Марина, она испечет сырные печенья для Гоши, Цилды и скромницы Наташи.
Вообще-то бабушка не любила ни Гошу, ни Цилду, ни тем более серенькую Наташу и называла их нахлебниками, но, конечно, вовсе не потому, что они каждое воскресенье завтракали ее сырными палочками, а потому, что ученики Гоша, Цилда и Наташа не стоили мизинца учителя Александра Николаевича, ее сына, все это были удручающие душу зауряды, перед которыми Саша метал бисер. Отец же, напротив, полагал, что в науке главное не ум и талант, а человеческая порядочность; для него заурядность учеников являлась гарантией их честности и добросовестности. Наш отец часто заблуждался и видел добродетель в ее противоположности.
Он был человеком с такими странными странностями, что мы с тобой, болезненно пережив его исчезновение, предавшись долгим изнурительным размышлениям над его образом, до сих пор не можем присоединиться к тем однозначным мнениям о нем и версиям, какие сложились у многочисленных его недоброжелателей, сочувствующих нашей семье. Но нам не нужно их сочувствие, от него разит сладострастием кухонных сплетен, нам хотелось бы знать истину, но едва мы взберемся на дуб за уткой, она взлетает, как только поймаем утку и извлечем яйцо, оно не разбивается, но, слава богу, мышка бежала, хвостиком взмахнула, яичко упало и разбилось – в наших руках игла, Кощеева гибель, но ее ни разломить, ни сжечь, ни утопить – она лишь колет пальцы. Мы знаем о нем следующее: он был нерастворим во времени и человеческой среде, как капля жира на воде. Да, наш отец оказался не по зубам ни той эпохе, на которую пришлась его юность, когда он был уязвим со всех сторон как сын сельского учителя, человека, отступившего с армией Деникина, ни той эпохе, когда он, пренебрегши броней, уйдя на фронт добровольцем, попал в плен, из концлагеря под Витебском был перевезен в Германию, вернулся на Родину лишь в сорок пятом, благополучно прошел проверку и снова приступил к работе. Казалось, Хронос, вяло и методично работая челюстями, пережевывая своих детей, в недоумении извергнул этого, несъедобного, судьба, как древняя старуха, была вынуждена, таким образом, дважды переписать завещание и отказать в пользу Александра Николаевича долгую, полную научных поисков жизнь, а ведь смерть не раз вплотную подступалась к нему, но, обдав холодом его лицо с синими, пронзительными, хорошо видевшими горизонт, но вблизи ничего не различавшими глазами, уходила ни с чем. Под Москвой сложил головы весь его батальон, и только он один, тяжело раненный, остался жив. Уже в мирное время отец на две минуты опоздал – а он никогда и никуда, за исключением этого случая, не опаздывал – на самолет, который потерпел аварию при взлете и разбился прямо на его глазах. И если уж сама смерть ничего не могла с ним поделать – что могли сделать с ним люди? И если уж он, защищенный одной лишь верой в правильность и праведность своего пути, не желал приспосабливаться ко времени и ни разу не поступился при этом своей совестью, то людям ничего другого не оставалось, как приспособиться к нему.
В нашем городе он возглавил лабораторию при филиале НИИ: ему разрешили набрать аспирантскую группу, и четверо его учеников, с блеском окончившие институты в Риге, хлебнули с ним горюшка. Он разработал спецкурс по ряду предметов, который аспиранты были обязаны сдать ему в фантастически сжатые сроки. Он настаивал на изучении ими английского языка – они засели за учебники. Рабочего расписания отец не придерживался вовсе и требовал работать столько, сколько нужно для дела, – они покорялись. Зато отец давал идею, разрабатывал эксперимент, а его ученики кропотливо и вдумчиво писали диссертации. Он хотел воспитать сподвижников, мучеников науки, настоящих ученых – ученики же в своем большинстве мечтали лишь о кандидатском жалованье и о приличной должности. Разумеется, разность интеллектуальных, духовных уровней и конечных целей рано или поздно должна была дать течь в его взаимоотношениях с учениками, но пока что усилиями последних все шло мирно и гладко, и отец не подозревал, что совместные, укрепляющие дружбу завтраки по воскресеньям всего лишь фикция, пир лилипутов у великана, глаза которого имели такую странную способность видеть далекое и не замечать очевидное. Может быть, он всех мерил по себе и, обладая ненавистью к буквальной, невинной лжи, не чувствовал уродства и фальши той или иной человеческой натуры в целом. Он видел все вокруг как по собственному заказу: море гладко, тихо, нет никаких плавучих островов, подводных рифов, коварных скал и айсбергов. Отец уверенной рукой вел свой корабль, не вникая в истинные настроения команды, задумавшей по прибытии в конечный пункт измену. А ведь умей он замечать так называемые мелочи, он не стал бы пичкать беднягу Гошу сырными палочками, потому что Гоша питал к ним столь сильное отвращение, что, проглатывая кусок, буквально приносил себя в жертву.
Честное слово, нам даже жаль отца, которому почти все лгали; даже наша независимая, казалось бы, бабушка, укрепляя свое влияние на сына, не торопилась открывать ему глаза на учеников, предпочитая тайно презирать их раболепие и издевательским тоном поздравлять Наташу с опубликованной в научном журнале в соавторстве с ее сыном работой, показывая, что ей-то отлично известно, кто тут «со», а кто, так сказать, автор. Так они и жили – отец и его ученики, двое из которых, правда, редко посещали наш дом в силу того, что один из них по-настоящему увлекался ионообменными смолами и отец его не трогал, уважая творческую мысль, а у другой был маленький ребенок. Их не было с нами в то последнее воскресное утро, которое мы провели без рояля, и, когда бабушка попросила отца не беспокоить Марину-маму, сказав, что она сама приготовит завтрак, а Марина, открыв утром глаза, со страхом прислушивалась к себе – еще вчера у нее была твердая решимость засесть поутру за немецкий, на чем настаивал отец, но теперь все силы из нее испарились, такая она, бедняжка, слабая, что просто ах.
...Этого первого среди учеников отца, который так же честно и неподкупно, как и его учитель, любил науку, звали Альберт Краучис. Отец разговаривал с Альбертом на равных, и, как ни странно, именно рядом с ним, а не с теми, кто мог составить отцу фон, выглядел он значительнее, чем обычно. Он уважал Альберта за то же, за что и самого себя: Альберт, как и наш отец, всего добился сам, сам себя воспитал и сделал. Он тоже воевал, хотя призвали его перед самым концом войны, успел получить ранение, с которым до сорок седьмого мыкался по госпиталям. Вылечившись, Альберт самостоятельно подготовился в политехнический, уже в институте не на шутку увлекся химией и спустя пару лет после окончания института попал в лабораторию к отцу. По возрасту и по уму он был старше других учеников. Отец никогда не повышал на Альберта голос, Альберт никогда не перемигивался за спиной отца и не говорил о нем колкости. Он видел в отце большого ученого. К своим товарищам Альберт относился, я бы сказала, нетерпеливо – для него, очевидно, были мучительны их душевная и умственная неповоротливость. Память донесла его облик в целости и сохранности, ибо он стоил того. Вообще-то все члены нашей семьи совершенно по-разному относились к одним и тем же людям: тех, кому симпатизировал отец, тайно презирали бабушка и мама, те, кто импонировал маме, не нравились бабушке из-за малой их образованности. Но на отношении к Альберту сходились все: мама, неравнодушная к внешней красоте, прощала ему белесые брови и невыразительный лоб, бабушка закрывала глаза на малую осведомленность Альберта в искусстве, отец не замечал, что Альберт дымит как паровоз, а мы не слишком понимали, что он взрослый, и говорили ему «ты», несмотря на то, что он ни интонацией, ни шоколадкой не подкупал нас. Когда мы с тобой обрели способность рассуждать, то поняли, что Альберт был первой ласточкой любви, любови, возникающей как бы ни за что, и мы сообразили, что именно такой ей и следует быть: любят не за ум, не за красоту, не за изящество натуры – за облик в целом, и безошибочный признак этого чувства – твои свобода, окрыленность и уют в присутствии полюбившегося человека. Да, уют, да, в нашем строгом доме, в нем все было строго, хотя своды нашего жилья не подпирали мраморные колонны и отец ходил в домашних тапочках. Мы с тобой узнавали Альберта по стуку в дверь. Мудрено было не узнать: дело в том, что у двери был звонок и все звонили – с разной степенью агрессивности, судя по человеку. Альберт же, каждый раз сначала постучав, вспоминал о звонке, и когда мы прилетали, сметая все препоны и преграды, на его стук, то вместо приветствия все – я, ты и Альберт, все хором говорили: «Опять забыл про этот звонок, ну что ты будешь делать!» «Альберт пришел, Альберт!» – оглашался счастливым криком наш дом, и из кабинетов, из нор, подземелий – отовсюду на этот клич сходились мы, люди, Альбертовым волшебством превращенные в самых родных. Альберт медленно снимал свое куцее габардиновое пальтишко, и бабушка с улыбкой бабушки, а не классной дамы обследовала его – не оборвалась ли петелька, не болтается ли пуговица. Оборвалась! Болтается! «Ну что ты будешь делать», – сокрушался Альберт, здороваясь. «Здрасте, здрасте, – незаметно среди нас возникал отец, – здрасте, Альберт». Они трясли друг другу руки как равные. «Здрасте, Марина Захаровна!» – «Здрасте, здрасте, Альберт!» Мама смотрела на него снизу вверх с ласковой усмешкой: она-то знала, что нравится этому славному человеку, она знала, что с ним бы могла быть счастливее, чем с отцом, а вместе с ней и мы, ее дети. «Говорят, Новый год грядет, – растирая окоченевшие руки, объявлял Альберт, – и представляете, буквально на днях. Весь город пропах смолой и апельсинами. А скажите, есть место в вашем доме для большой зеленокрылой ели?» – «Место есть, а крестовины нет», – с прискорбием докладывала мама. «Да, такая незадача, – посмеиваясь, говорил отец, – я, знаете ли, специально вчера ходил в магазин и даже на рынок: нет крестовины. Стало быть, придется поставить в вазу еловые ветки...» – «А руки есть? – серьезно спрашивал Альберт и сам же отвечал: – Руки есть. Значит, и крестовина будет. Сейчас мы командируем всех от шести до десяти лет на поиски дощечек для крестовины». – «Уже поздно, – говорила бабушка, – елки-то все равно нет. За трое суток до Нового года ее ни за что не купишь...» – «Мы и не будем ее покупать, – пожимал плечами Альберт – хе-хе, покупать! Она сама к нам придет, правильно, ребята?» Мы с тобой, охваченные предчувствием, от которого мурашки поползли по спине, закричали: «Нет, нет!» – «Как это нет, когда да, – возразил Альберт, – ну-ка, расступитесь, дайте мне место. Ангелина, Тая, ваши руки. Вот: а теперь крикнем: «Елочка, приди!» – «Елочка приди, приди, елочка!» – завизжали мы, и никто не сделал нам замечания. «Топ-топ, – сказал Альберт, приложив ухо к стене, – я слышу одноногий стук по асфальту на улице Пятого августа, топ-топ, все ближе, ближе, вот кто-то большой и пушистый заходит в подъезд нашего дома... ну да, идет по лестнице...» Отец смотрел на него с интересом, мы с обожанием, уже зная, что сейчас что-то произойдет. «Вы что, не слышите? – удивлялся Альберт. – Она, ваша гостья, уже здесь, стоит на втором этаже, хочет, чтобы ее встретили – ступайте-ка вниз...» И тут мы окончательно догадывались, мы снимались с места, как самые быстрые птицы, слетали, раздетые, вниз: на площадке второго этажа стояла она, гостья, елка! И вот уже к нам спешил улыбающийся отец, растроганные мама и бабушка, держась за руки, как подруги, застывали на месте: все точно, все как обещано – зеленокрылая, молодая, пушистая! «Боже мой, Альберт, – говорила наконец мама, – где вы достали! Какое чудо!» – «Да какая хорошенькая!» – подхватывала бабушка. «Спасибо, Альберт, – говорил и отец, – а я уже решил, что в этом году обойдемся без елки!» А у нас с тобой и слов не было, мы по очереди висели на шее то у мамы, то у отца, то у Альберта, пока кто-то из взрослых не замечал, что мы раздеты. «Марш одеваться, – кричал нам вслед Альберт, – вперед, на поиски дощечек, вот таких, – он показывал руками, – а не такущих, ясно? Будем сочинять крестовину. Александр Николаевич, у вас инструмент найдется?» – «Поищем», – отвечал довольный отец.








