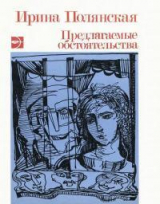
Текст книги "Предлагаемые обстоятельства"
Автор книги: Ирина Полянская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Что касается Паши, его живая и привлекательная физиономия выражала глубокую внутреннюю сосредоточенность. Томка снизу и немного сбоку посмотрела на него. Что ни говори, а приятно, что Паша такого большого роста: вот бегут мимо другие люди, обтекая его и уж заодно маленькую Томку, и все они копошатся где-то внизу, у подножия Паши, а он стоит себе, большой, просто огромный, засунув руки в карманы плаща, крепко стоит на земле, мысленно здоровается с Москвой. Маленькие города не по нему, эти маленькие, эти чужие, насиженные, населенные лилипутами города, понимать надо, Паша не вписывается в них, как не вписывается Останкинская башня в деревенский с коровниками пейзаж, в милые деревенские окрестности. Томка вздохнула: все-таки милые, но, увы, деревенские... По дороге Паша объяснял Томке, что если в других городах людей в основном кормят ум и руки, то в Москве главное – хитрость и ноги. Волка ноги кормят, из беды они же выносят, надо уметь успевать в разные места, где можно сняться в кино, тиснуть сценарий, опубликовать рецензию, а главное – нужно много знакомых, чтобы кто-то тебя видел, где-то о тебе слышали, то есть главное – не работать уметь, а подсуетиться. Москвич должен постоянно упражнять особую мышцу, на которой живет, и знать, как каратист, всякие там приемчики... Томка согласна была на все, пусть Паша суетится во имя их светлого будущего, а она будет работать, шить то есть, в первое время понадобится особенно много денег, как ни печально, человек без рубля – это то же, что рубль без человека... Паша усадил Томку в зале ожидания и побежал куда-то звонить, и с этого момента, как ни прискорбно, его большая фигура стала как-то уменьшаться, врастать в землю. Томка с вещами и машинкой под лавкой с тревогой следила за ним и косила глазом в сидящий по правую от нее руку «Крокодил». Паша, меняясь в лице, приходил, уходил, менял в аптечном киоске серебро на двушки, и люди, толпившиеся вместе с ним в очереди за анальгином или зубным порошком, были уже одного с ним роста. Томка начала сомневаться, что ее терпеливо ожидает квартира уехавшего в Парагвай (ты же говорил, в Мексику, Паша?) кинорежиссера. Теперь ей казалось, что всем этим людям, снующим по вокзалу, есть куда податься, одних ищут не дождутся в Коровине, других – в Строгине, одни они с Пашей как кочевники. Томка подобострастно, суетливо поджала под себя ноги, когда уборщица поравнялась с лавкой, на которой сидела она: все-таки уборщица не простая, а московская, и метла – москвичка. А Томка бог весть кто теперь. «Крокодил» с большим чемоданом убежал на родной поезд Москва – Караганда, счастливый. Рядом с Томкой села «Мода-76» (Томка никогда ничего не шила из этого хиленького альманаха), а Паша все звонил и звонил куда-то, и Томка теперь ясно видела, что впереди него и за ним в очереди к автомату стоят какие-то верзилы. Томка снова, чтобы отвлечься, стала смотреть моду: интересные люди, эти художники-модельеры, ведь их самих под угрозой лишения тринадцатой зарплаты не заставишь надеть такой кошмар, а людям вон чего понапридумывали. И тут она увидела: раздвигая толпу людей, как океанский лайнер могучие воды, величавый, огромного роста, идет к ней Паша.
– Пошли, – коротко бросил он.
И Томка заторопилась за ним, как бывало не раз и не два в их странной супружеской жизни. Они сели в такси и понеслись по Москве.
За окном пролетали нарядные, с уверенными физиономиями дома, как одна длинная застывшая река, сверкали витрины магазинов, по улицам бежали люди с озабоченными лицами, быстро-быстро, точно их гнал в спину страх куда-то не успеть, они бежали, как буквы в неоновой рекламе на Пушкинской, и тоже, должно быть, несли и заключали в себе какие-то важные и большие сообщения. Томка решила, что завтра же съездит в центр, посмотрит на живых людях наряды, зарисует некоторые детали туалетов: на человеке часто увидишь то, что еще не появилось в самых лучших журналах. Красиво, должно быть, смотрится Москва с большой-большой высоты вечером: как бриллиантовая брошь причудливой формы. В домах зажигаются, вспыхивают друг от друга окна. Упряжки лошадиных сил бегут табуном от светофора к светофору, через подземные проезды, по мосту, по широким улицам. Вереница тортов «Чародейка» плывет из кондитерской на Горького, связки бананов тянутся вдоль асфальта, бегут вприпрыжку «Королевы Марго», бьются в сетках яички по девяносто, громоздятся коробки с «Саламандрой», еле дышат цветы... Окраина. Окраина чего – Томска, Новочеркасска, Старой Руссы? Просто окраина, Коровино. Шофер притормозил, замешкался, выключая счетчик, но Паша сообщил его телу бодрость, недрогнувшей рукой протянув чудодейственную купюру, и шофер побежал выгружать из багажника вещи и даже занес их в подъезд. «Спасибо, друже», – рассеянно произнес Паша. В подъезде он ловко открыл перочинным ножом почтовый ящик, и связка ключей упала ему в руку. И они поехали, поехали, поехали наверх, под самое небо, на шестнадцатый этаж...
Томка с Пашей зажили душа в душу в прекрасной однокомнатной квартире кинорежиссера. Томка нарадоваться не могла на ковры из искусственного зеленого и оранжевого меха, покрывавшие пол и стены, а самые ворсистые – кресла. Ей казалось, что это предел роскоши, доступный только кинорежиссерам. В комнате было трехстворчатое трюмо. Паша объяснил, что хозяин квартиры усиленно ухаживает за своей внешностью. Не было письменного стола, что весьма странно для человека умственного труда, и Томка устроила «Веритас» на журнальном столике. Особенно миленькой показалась ей кухня – будь у нее своя квартира, она бы лучше не обустроилась: масса шкафчиков, белых в синюю и красную клетку, чудные занавески с оборками, тоже в клетку, повсюду расставлена дымковская игрушка, гжель, плетенные из соломки вазочки, солонка и та неописуемой красоты: бронзовый ишак везет на себе два хрустальных бочонка с солью и перцем.
Единственное, что смущало Томку, это наглухо запертый платяной шкаф; негде было повесить вещи, и поэтому пальто, костюмы и Пашины рубашки заняли все имеющиеся в доме пять стульев. В ванной на крючке Томка разместила свой гардероб. Только шкаф с его толстой, темной, лоснящейся физиономией напоминал, что они здесь гости, что пока он, скрежеща зубами, терпит их присутствие, но погодите, явится хозяин, и я натравлю его на вас, мрачно размышлял шкаф, исподлобья глядя на Томку. Другие вещи ее полюбили, например, зеркало, замутненное жизнью неведомого хозяина, под руками Томки залучилось таким добрым светом, что в комнате посветлело, как от человеческой улыбки. Ванная сияла как мраморная, она уже знала, что каждый раз, когда из нее вылезет, отфыркиваясь, водолюбивый Паша, ей недолго стоять в грязной мыльной пене: явится Томка с «Лоском», и ванна снова засверкает, как драгоценность. Телевизор, мохнатый от пыли, радостно встретил новую хозяйку и в знак своего расположения работал как зверь, даря отменное изображение, то есть видимость была такая, словно смотришь в раскрытое окно. Магазинный половичок перед дверью Томка сменила на самодельный, деревенский, сшитый из лоскутков. Вот так же и она сама послушно лежала за дверью загадочной Пашиной жизни, в которую он при всей своей болтливости, чувствовала она, ее как будто не пускал. Что-то у него делалось за дверью этой квартиры, что за космическая пыль приставала к ботинкам этого странника, где он бывал, кроме своих занятий, что за люди имели счастье видеть его и какие взгляды они разделяли? Увы, думала Томка, любимый Паша как луна: весь как будто на ладони, но есть сторона, которой ей вовек не увидеть, потому что она не космический корабль, она видит мужа только отсюда, с этой пяди земли, с этой воздушной площадки, здесь он ясен и сияет как луна. Чья неизвестная рука там, в середине Москвы, заряжает его картечью, которой он вечерами обстреливает уставшую Томку: Маркес, Борхес, Астуриас, Хичкок, Дантес, Гордон Крегг, «Восемь с половиной», «шел я с пьянки пьяною дороженькой, тихо плакал и о ней грустил...»? Томка боялась признаться себе, что речи умного Паши как-то смахивают на разговоры, которые в родном ее городке вели мамаши на детской площадке, выгуливая чад, только там вместо «Борхес» говорили «Адидас», сорок пятый размер, пушистый, с ворсом, «Риори», на высоком каблучке, отстроченный, вязаный, кожаный, натуральный, «Пума», песцовая, замшевая, дорогая, дешевая... Но все-таки Томка верила ему, и каждый раз, когда всемирно известных артистов, режиссеров и певцов он называл Люська, Оська, Вовчик, у нее замирало сердце, как от большой высоты. Паша пожимал плечами: чего такого, и они тоже люди, интересуются молодежью и лично им, Пашей, который пока еще копит знания в различных областях искусства, а потом всем как покажет! До одиннадцати часов утра Паша спал, накрывшись с головой одеялом, потом принимал душ, брился, завтракал и уезжал в свою блестящую, полную Арменчиков и Наташек, мировых знаменитостей, жизнь, вращался там как новая, еще не классифицированная звезда среди прочно сияющих на небосводе светил.
Томка ждала его до глубокой ночи, прислушиваясь к звуку лифта. Она подсчитала, что лифт подымается на шестнадцатый этаж, когда не торопясь досчитаешь до сорока; когда он замирал где-то на тридцати трех, она разочарованно переводила дыхание: не он. Если же лифт останавливался на их этаже, Томка приникала к глазку: увы, незнакомые соседи, черт бы вас побрал, друзья мои, кто еще имеет право, кроме него, подыматься так высоко?
Большим развлечением было для нее писать домой письма. Не всю правду писала матери Томка. Кое-что она преувеличивала, кое-что явно сочиняла, зараженная Пашей этой любовью к сочинительству. Например, она писала, что устроилась в ателье по пошиву верхней одежды, что они с Пашей часто бывают в театре и на выставках. Томка вздыхала, оторвав ручку от бумаги: даже в кинотеатр «Ереван», ближайший, и то ни разу не сходил с ней занятый Паша. Еще приятнее было получать письма, доставать их из почтового ящика, точно это простое действие как-то укрепляло ее позиции в этой квартире.
Днем Томка шила. Из недорогой холщовой ткани она разом раскраивала четыре платья на сорок шестой размер, как метеор отстрачивала их одно за другим и на кинорежиссерской пишущей машинке на красной атласной ленте печатала: POIEX, а потом продавала эти самозваные польские платья у входа в большой универмаг. Как-то неожиданно для себя она на это решилась – и пошло-поехало.
В общем-то все правильно, тряпки модные, на совесть пошитые (не принимая в расчет их смутного будущего), в магазине за такими очереди. Возле универмага – подземный переход, там кипит тайная подземная жизнь, снуют в полинявших старых пальто, из-под которых топорщатся многослойные юбки, цыганки с карандашами, зажимами для волос, стоят женщины почтенного вида с многозначительно приоткрытыми сумками, мужички в кожаных куртках прохаживаются взад-вперед и что-то шепчут прохожим на ухо, старушки с бумажными цветами (неподалеку кладбище), с веночками, букетиками. Вся эта жизнь к открытию универмага сворачивается, расползается, и тогда переход служит тому, чему и должен служить, – люди идут по нему от продовольственного магазина к универмагу, где раз в неделю стоит Томка с большой сумкой и бормочет, глядя в пространство: «Платье модное, модное платье». Томка безошибочно выбирает из толпы тех, кто не станет пробовать на зуб ее POIEX, кто, натянув в кабине туалета поверх свитера и брюк ее платье, торопливо лезет в кошелек.
Наступила зима. Томка по-прежнему шила, а Паша учился. Ближе к ночи он являлся домой совершенно измученный, валился с ног в постель. Бедняга был все время занят: то ездил куда-то на натуру, то бежал на просмотр, то сидел в библиотеках, но занятия не пропускал, по крайней мере так он говорил Томке. Временами Паша делался нервным и суровым, на козе не объедешь, и Томка тащила сама из магазина сетки с картошкой. Потом делался оживленным, остроумным, мягким, что-то строчил, лежа на диване, куда-то бегал названивать по автомату, отмахиваясь от Томкиных вопросов. Но Томка не роптала, она всем была довольна, только бы не тратил Паша так много денег, никак нельзя Тотоше на костюмчик выкроить. Не тратить Паша не мог, он терпеливо объяснял Томке, что без денег нужных знакомств не заведешь и что он не привык жмотиться. «Ты ведь все-таки стипендию получаешь, – допытывалась Томка, – где ж она?» – «Это на кофе», – мягко объяснял Паша. Томка вздыхала, доставая очередную десятку. Впрочем, Пашино транжирство не очень ее огорчало. Спина побаливала от сидения за машинкой, но Томку поддерживала мысль, что трудится ради прекрасного будущего. Не заставлять же Пашу, в самом деле, вагоны разгружать!
Бедная! Пришел день, и от Томкиных прекрасных надежд не осталось ничего...
В этот промозглый февральский день, когда в воздухе витало что-то колючее, болезненное, Томка, проводив Пашу до Новослободской, вернулась домой и тут же села за машинку. И тут она услышала, как в замочной скважине проскрежетал ключ. Томка выскочила в коридор. На пороге появилась высокая полная женщина, втиснутая в кожаное пальто как толпа пассажиров в троллейбус. В руках она держала кожаные чемоданы. Увидев растерянную Томку, женщина хмыкнула и произнесла:
– Так я и думала, что, как только уеду, он сюда бабу притащит.
И принялась расстегивать «молнию» на сапоге.
– Кто? – озадаченно спросила Томка.
– Кто? – иронически переспросила женщина. – Кто... – Она уже стаскивала с себя пальто, и оно в изнеможении повисло на вешалке, с которой женщина стряхнула Томкино пальтишко.
Женщина прошла в ванную, и Томка услышала, как она стала набирать воду. Женщина вышла из ванной и, не замечая следом идущей за ней Томки, обошла квартиру, взыскующим оком оглядела ее и даже попробовала пальцем, нет ли пыли на трюмо.
– Молодец, – похвалила она Томку. – Аккуратная. Квартира в порядке. Я на тебя не в претензии, и не надеялась на этого охламона. А теперь, дорогая, ступай себе.
– Послушайте, – удивилась Томка, – вы кто? Что вы тут ходите?
– Хозяйка квартиры, – был ответ.
– Вы жена кинорежиссера?
– Ка-во?.. Это Павел, что ли, представился тебе кинорежиссером? Ну дает! Не Павел, а павлин. Если он кинорежиссер, то я балерина. Все он тебе заливал, что чмо болотное. Я ему по доброте душевной оставила ключи, мог бы и верность соблюсти. Ну ладно, с ним я еще разберусь, а ты ступай себе с богом.
Томка молчала. Стены вокруг нее начали вращаться все быстрее.
– Э, да ты что! – всполошилась женщина, увидев ее лицо. – Ты что, всерьез его приняла, что ли? Да это шалопай, каких свет не видывал! Я его держу при себе потому, что в моем возрасте выбирать не приходится. Ты-то еще найдешь, плюнь, не убивайся. Куришь?
– Курю, – пролепетала Томка.
– На вот, закури, приди в себя. Плюнь. Хочешь, кофейку сварю. Кофеек есть?
– Там в баночке, на полке, – машинально отозвалась Томка.
По лицу у нее текли потоки слез. Она чувствовала, что умирает.
– Тьфу ты, – участливо произнесла женщина, – ты и правда думала, что он серьезный человек?
– Правда, – прошептала Томка.
– Он сказал тебе, что эта квартира его?
– Нет, одного кинорежиссера, который уехал в Мексику.
– Далеко же он меня послал, хоть я и не кинорежиссер, а всего лишь мастер в меховом ателье. В Мексике сроду не была, зато только сейчас из Болгарии, ездила делиться опытом. Ну а ты кто?
– Жена, – проронила Томка.
– Чья, тоже кинорежиссера?
Томка только рукой махнула.
– На Павла можно польститься только на необитаемом острове такой молодой, как ты, – уверенно продолжала женщина. – Видать, хреновый у тебя муж, что ты от него к такому, как этот тип, сбежала. Ну да что теперь говорить. Не оставаться же тебе тут, верно?
– Верно, – согласилась Томка. – Я только вещи соберу.
– Машинка твоя?
– Да.
– Шьешь?
– Да.
– Костюмчик мне не пошьешь? Японская замша в шкафу залежалась. Я бы тебе хорошо заплатила.
Томка, не отвечая, кидала свои вещи в чемодан, запирала машинку. Женщина помогла ей спуститься вниз и стояла рядом, кутаясь в пуховый платок, пока Томка ловила такси.
Уже сидя в машине, Томка спросила ее:
– Еще одно скажите... Он что, нигде не учился?
– Что ты! – засмеялась женщина. – Где б такого лодыря держали? Он, кроме ля-ля, ничего не умеет. Я собираюсь его прибрать к рукам, своему делу обучить, глядишь, человеком станет, так-то он ничего, мягкий... А ты, дорогая подруга, его не вытянешь. Ему такая двужильная да умная, как я, нужна. Ну, бывай здорова.
– Прощайте, – молвила Томка.
В тумане, в мелком рассеянном дожде, никак не переходящем в снег, проплывал мимо Томки город, который она надеялась покорить. «Если это не смерть, то что такое смерть?» – спросила она себя и еще крепче прижала к себе «Веритас», стоявший у нее на коленях, как единственную реальность, оставшуюся в этой фантасмагорической жизни. За окном бежали машины и люди, казалось, те и другие бегут как безумцы, как дождь по асфальту, без всякой цели, лишь бы бежать. Машины тормозили у светофора, люди у табачных киосков, и те и другие были окутаны туманом, и даже окна домов светили еле-еле, как огни затонувшего судна. Рядом с Томкой вот уже несколько минут ползла машина с куклой и гвоздиками на капоте, совсем мокрыми от дождя. Сквозь заплаканные стекла машины Томка видела невесту: невеста смотрела на нее, и в лице ее не было радости. «Беременная, наверное», – рассеянно подумала Томка и слабо шевельнула невесте рукой. Вывернули на Казанский. «Тотоша, сынок», – шептала Томка, но на душе у нее было пусто, хотя внутри, бог знает на какой глубине, стучало сердце, как часы на руке утопленника. Томка вышла на стоянке такси Казанского вокзала и, взвалив на плечи чемодан, придерживая его одной рукой, поволокла машинку в здание вокзала.
В огромном аквариуме здания бродили, сонно ворочались люди, сонно курили в курилках, сонно читали «Неделю». Горе, которое постигло Томку, все еще стояло где-то рядом, все выискивало лазейку в ее душе, у входа в которую висел густой туман, туман, клубы тяжелой пыли, оседающей после обвала, горе еще не могло войти в нее, потому что, казалось Томке, было гораздо больше и тяжелее ее легкомысленного существа; страдание, обрушившись на нее извне, как и все на свете, должно было еще зародиться, выноситься, а уже потом выйти на свет – слезами ли, чем еще... Двух часов не прошло, а потеряно все, что копилось годами. Есть ведь в жизни минута, которая обрушивается на голову, как удар секиры, и отсекает одну жизнь от другой, а жизнь тем не менее длится, идет, едет, летит на самолете, мчится в ракете, устремляется в завтрашний день. Что же делать-то? Так много людей на вокзале, и ни у кого нет такой беды. Так много людей, что если по капле разложить эту тяжесть на всех, то у каждого немного испортится настроение, не более того. Но нет, вся тяжесть ей одной.
А за дымными стеклами аквариума, за спиной разъезжающегося по домам человечества, за крепкой надежной людской стеной как ни в чем не бывало спокойно спит Москва, разлеглась на холмах и долинах, гасит один за другим свои огни, смыкает свои множественные очи. Бессонное око электропоезда уставилось в темноту земли, летит поезд с людьми на родину как стрела, уже брезжит свет из тех бутонов, которые завтра станут цветами и будут встречать вас у десятого вагона, нумерация с головы состава. Уже брезжит заря на Сахалине, над Командорскими островами встает сильное солнце и гора за горой, река за рекой облетает всю землю. Уже немало лет прожила Томка, но такого мрачного, такого чужого и холодного дня еще не было в ее жизни.
– Далеко, красавица, едешь?
– Я не еду, а, как видите, сижу, – отчеканила злобно Томка.
Солдат постоял над ней с неуверенной ухмылкой. Не знал, бедняга, что сказать дальше, нет, не покоритель сердец, отнюдь. Долго, наверно, смотрел на нее, приготовляясь к решительному шагу, выбирал интонацию не слишком развязную, но и решительную, искал фразу пооригинальнее, чтоб подойти и не быть отвергнутым. Волосы еще не отросли, должно быть, первогодок, должно быть, едет на побывку, подошел к ней, как к человеку, быть может, а не за флиртом, скучно же на вокзале среди спящих, а ему не спится, потому что впереди брезжит дом родной, вот и выбрал нескучное Томкино лицо. Теперь стоит, потерянно усмехается, в руке – чемоданчик, надеялся присоседить его к Томкиной машинке, а она вон как отбрила его и отказала чемоданчику в крохотном местечке. В другое бы время подружились.
– Ну сиди, сиди, – не нашелся что бы еще сказать солдатик и потопал себе.
Томке хотелось извиниться, но она тут же одернула себя. А меня-то кто пожалеет? Кто поможет? Вот я давно пытаюсь нащупать в себе какой-то внутренний закон, который мог бы обеспечить мне правильную человеческую жизнь, правильные отношения с людьми, а он все ускользает от меня, никак не дается в руки, а может, этот закон и состоит в том, чтобы никого не жалеть, ни на кого не оглядываться, ни с кем, кроме себя, не считаться? А с кем считалась, кого жалела – Пашу одного, а он не стоил. Кто же стоит? Вот та женщина, хозяйка квартиры, она – сила, а Томка – тьфу, сплошное лирическое отступление, потому что она не хозяйка квартиры, а пассажир, ждущий вечно своего поезда.
Честное слово, жизнь проходит, а на вокзале все та же суета, бестолковщина, ничто не меняется, разве что вместо лимонада стали продавать «Фанту»... Те же усталые, бесконечные сны на лавках, очередь в туалет с хнычущими детишками, то же мороженое, безвкусное, вокзальное, те же странные люди, страшащиеся милиционеров, в силу каких-то причин оставшиеся без крова, без пристанища, душный вокзальный воздух, в разных концах зала сквозь сетки подмигивающие апельсины, вялые, смиренные речи – мамочки, как далеко до родного, до милого дома! Пришла ночь. Томка все еще сидела на лавке и билет на поезд не покупала. Сквозь туман и дождь в ее голове пыталась пробиться какая-то мысль, хватала ртом воздух и снова уходила в дождь и туман, и Томка не могла понять, что это за мысль. Ночью вокзал притих, люди сидели в нем как в кратере потухшего вулкана, и только в заоблачной выси переговаривались привокзальные ангелы: «Сушков! Дай ход сто девятому! Носильщик Карабанов! Пройдите к дежурному по вокзалу, носильщик Карабанов!» Тут неясное чувство, мешавшее Томке занять очередь у билетной кассы, оформилось в несколько друг из друга вытекающих соображений: мать – обман – разоблачение – позор. Последнее слово отдавалось в ушах как высокая нота, взятая оперным певцом, пока самый отзвук его не растворился в странном сне. Томка уснула.
Ей снились дома, которые лезли на нее с закрытыми, заколоченными наглухо окнами, слепые дома, битком набитые голосами, жизнью, клацали зубами то ли от страха, то ли от холода, им хотелось, должно быть, чтобы из них выпустили наконец людей, как пар, и тогда они освобожденно вздохнут, увянут себе, сморщатся, улягутся рядышком, как огурцы на грядке. Томка не смогла открыть ни одну дверь потоком несущихся на нее домов, и поэтому проснулась. Машинка, как верный пес, лежала у ее ног. Вчерашняя мысль, отчетливая, явилась к Томке: дома будут смеяться над ней, домой нельзя.
Она сидела на скамье в окружении людей, внутренне уничтожившись и сжавшись, чтобы занимать как можно меньше места, и не замечала, как по ее щекам бегут слезы.
– Ну что с тобой стряслось? Вытри нос, девчонка!
* * *
За двадцать лет жизни Саши Сомова в Москве Казанский вокзал изменился, раздался вширь, скамейки из здания шагнули на улицу, на небольшой привокзальной площади возникла толчея, уже негде яблоку упасть, а человеку приземлиться. В залах – розовом, белом и зеленом – повсюду маялись люди, выглядывали люди из-за своих чемоданов, баулов и корзин. Подходил поезд, но отлива пассажиров не наблюдалось из-за постоянного их прилива; сколько Саша помнил себя, здесь вечно что-то ремонтировалось, какое-то пространство все время было огорожено, но рев крана и рычание машин заглушал немолчный людской говор. В сумках, сетках, ящиках дожидались посадки на поезд колбасы, куры венгерские, бутылки с пепси-колой, со всей Москвы стекались сюда, неслись бешеным потоком грейпфруты, бананы, апельсины и штурмовали поезда. Проводницы не могли все это разместить в морозильных камерах, поэтому вагоны пропахли пряностями и сладостями, словно трюмы кораблей Вест-Индской компании; чемоданы, тюки, узлы карабкались по железным ступенькам, тесня проводниц, оттесняя самих пассажиров. Помнится, однажды они штурмом взяли какой-то не слишком дальний поезд, расселись по местам, предназначенным для хозяев, распределились под нижнюю полку, и поезд, как необъезженный жеребец, на спину которого вскочил горячий наездник, вдруг взял и тронулся, оставив на перроне докуривать свою последнюю сигарету пассажиров с вытянувшимися лицами. Чемоданы дружно помахали из окна своим владельцам, ухмыляясь, извлекли карты и сели резаться в подкидного. Гирлянды сосисок и бананов повисли под потолком, как новогодние украшения, вспенившаяся река пепси-колы понеслась в направлении, обратном ходу поезда, а в ней, всплескивая хвостом, нежилась сельдь атлантическая и щука в томате. Из-под матрасов выскочил щеголеватый, с модной прической ананас и принялся осуществлять контроль. Лопнула зашитая суровой ниткой кожаная сумка, и оттуда вылетел замороженный индюк, сделал круг над верхними полками и опустился на столик, поклевал торт вафельный «Полярный». Все раскрылось, распахнулось, вывернулось наизнанку, как абитуриент в компании других абитуриентов. Только один чемодан в углу помалкивал себе, затаился, подлец: в нем студент второго курса Федя Бурлаков вез на родину к маме свое грязное белье и книгу Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», выменянную им за диск западного ВИА «Лед Цепеллин», на покупку которого он как-то ухнул всю свою месячную стипендию. Открывались пиратские сундуки с добытым добром, вышли на свет фирменные наряды, зашуршали серебристые плащи, затопали кроссовки, заискрились мехом искусственные шубы. Нарядные флаконы духов принюхивались друг к другу: «А вы, милочка, отнюдь не парижанка, вы, кажется, из Египта, фи!» Между тем люди на перроне, сопровождавшие свои чемоданы, проявили признаки умопомешательства. На родину одна за другой полетели телеграммы, синие, срочные, с вытянувшимися лицами: «Встречай узелок рюкзак ящик марокканских авоську подробности по приезде...» Саша улыбнулся своим мыслям; в кармане у него лежало командировочное удостоверение, он тоже ехал домой, вот как славно бывает, совпадает у журналистов – только соскучился по дому родному, как нá тебе – командировка в город, от которого рукой подать до леспромхоза, где трудился отец, работала мать, люди суровые, сердитые, старой закалки, до сих пор считавшие Александра, осевшего в столицах, перекати-полем. А между тем отец в свободную минуту углубленно, с наслаждением читал газеты, иногда даже зачитывал кое-что матери вслух, то есть прессу как будто уважал, но не в лице Саши. «Кто-то ведь должен этим заниматься», – уговаривал его Саша. «Вот кто-то пусть бы и занимался. А ты мужик, у тебя и кудри мужицкие, физиономия мужицкая, особенно если сбрить эту дурацкую бороду, она-то тебя и выдает, вона какая жидкая, чахленькая». – «Думаешь, в газете мужик не нужен? Благодари бога, что в твоем леспромхозе все ладно, а то бы ты мечтал, чтобы именно такой, как я, мужик, приехал к тебе во всем разбираться». – «Я у себя и сам разберусь, ты поезжай к тем, кто на это не способен, а у меня все слава богу... Чтобы орудием мужика была авторучка! До чего докатились. Да ты, наверно, уже гвоздь забить не умеешь!» – «А у него что было орудием?» – находчиво кивал Саша на портрет Льва Толстого, особенно любимого отцом писателя. «У него сначала было ружье, потом плуг, коса, игла с дратвою, а уж потом перо, а без этого и пера б не было, он-то это понимал. Он был гений. Вот ты, помнится, в какой-то статейке сюсюкаешь как студентка – дорога, дескать, зовет, летит, дескать, навстречу мечте, рельсы поют как струны, на которых кто-то исполняет какую-то музыку... А Толстой что писал? «Поезда, чтобы ехать куда? Чтобы делать что?» – «Отстал ты от жизни, батя». – «Я, может, в чем-то и отстал, а ты вперед себя забежал, летишь как пес по следу – куда? Тебе на земле самое место, твое законное, судьбой данное место на земле и с землей». «Шел бы ко мне охотоведом, – продолжал он уже несколько другим, ворчливым тоном, что означало готовность к примирению, – а то у меня одни пенсионеры сидят... Был один молодой специалист, выпускник сельхозинститута да на втором году сломался. Я его не корю, он был один против целого войска. Браконьер, например, теперь на охоту выходит вооруженный с головы до ног, оснащенный передовой техникой, а у нас что? Хорошего катера не имеем. Побегал он, побегал, да и подался в вольные стрелки, а у меня снова пенсионер сидит, Трофимов, все больше бухгалтерией занимается. Хороший мужик, добросовестный, но не специалист. А как бы мы с тобой славно сработались! Ты же на все руки мастер, машину водишь, лес знаешь, считать умеешь, за словом в карман не полезешь – чего тебя понесло в журналисты?» – уже шепотом заканчивал отец, заметив, что жена, варившая варенье под сливой, подбирается к ним, навострив уши.
Сказать, чтобы Саша не любил, не уважал или не понимал старика, было бы несправедливо. Кого еще ему было любить, кроме жены Тани, конечно, да еще нескольких друзей из числа пестрой московской шатии-братии. Да, друзей. Случались и между ними, друзьями, какие-то размолвки, вспышки ревности, мелочные обиды, но тем не менее дружба их держалась, потому что вольно или невольно, но так уж сложилось, что большинство приятелей были его земляками – землячество наше превыше всего, теоретизировали они, это филиал родины. Да, если говорить о странностях любви, то самая большая странность связывалась с его чувством малой родины. Назвать Александра квасным патриотом было бы несправедливо, это мог бы позволить себе только недоброжелатель – недоброжелатель мог бы разнести в пух и прах Сашу с его теорией малой родины, он с насмешкой поведал бы о том, как Саша обставил квартиру разными архаичными предметами, символами родного края, резной деревянной посудой, фотографиями с пейзажами Волги и прочим, подобно тем городским русичам, которые выжуливают по деревням иконы, ставят дома кросны, глиняных петухов и другие указатели русского духа, но сам тот дух давно из них выветрился, а за всем этим сквозит мелкая, чуткая к поветриям моды, спекулятивная душонка. Нет, это было бы злостной клеветой на Сашу и его товарищей, людей вполне порядочных, может, и азартных, может, и самолюбивых, немного лукавых, но не хитрых, не коварных, честно делающих свое дело. Но странность любви к малой родине оставалась, поскольку они глядели на нее теперь издалека, из-под руки, а не ходили по ее земле, не сеяли на ней, не пахали... Но этот упрек справедливее было бы отнести за счет времени, позвавшего людей в большие города, каким-то образом все же регулирующего стихию человеческих чувств и поступков. Ведь и рыба ищет где глубже. И все же, если б Сашу мог услышать старомодный его отец, у которого слово было неотделимо от дела, вот бы старик разволновался, вот бы всплеснул руками на блудного и лицемерного сына своего... Иной раз в кругу друзей, ослабев от наплыва чувств и воспоминаний, Саша вдруг впадал в раж и начинал каяться и клясться, стучать кулаками в грудь: «Братцы, что ж это мы с вами делаем? – вопрошал Александр, – чего мы тут-то с вами сидим? Взять хоть меня, я исконный мужик, у меня руки сильные, мужицкие, у меня кудри мужицкие, чего меня понесло в эту Москву, за каким рожном? Что у них тут, птицы поют слаще? Люди лучше? Дома крепче? Мое законное место на земле – среди мужиков, где-нибудь председателем колхоза, на худой конец агрономом. Здесь таких, как я, только свистни – тысяча набежит, а там на нас вся надежда. Братцы вы мои дорогие, уж если мы с вами уходим с земли нашей, то кто в ней останется, на ком она держаться будет? Вот у кого людям поучиться мудрости, так это у деревьев – где оно родилось, там и стоит, на том месте его каждая травка ласкает, каждая птица знает и земля своя держит, чтоб оно не упало до срока. А кто нас здесь ласкает, кто знает, кто поддерживает? Место человека там, где в нем самая большая нужда – вот главная правда. А мы с вами живем другой правдой – где нам больше всего хочется и где легче...» – «А ты не рви на себе рубаху, – урезонивали его, – кто тебя, сердешного, держит? Тебе легче стронуться с места, твоя Татьяна за тобой всегда поедет, а попробуй наших жен выманить из Москвы? Только в Сочи, да и то в отпуск, на месяц...» – «И поеду, – грозился Саша, – вот соберусь с духом, напишу заявление и уволюсь, надоела эта жизнь на колесах. Человек должен на одном месте жить, а я, как птица небесная, летаю над страной и не чую гнезда своего. Разве здесь такие люди, как у нас? У наших людей души ясные, незамутненные», – растроганно говорил Саша, едва сдерживая слезы. Ему и в самом деле казалось в эту минуту, что в отчем крае проживают одни Ерусланы Лазаревичи и Микулы Селяниновичи и не случается там ни проворовавшегося прораба, о котором он когда-то писал, ни директора совхоза, посадившего на руководящие должности родню, ни хитрого шофера с молочной фермы, бросающего в бидоны с молоком деревянные дощечки, чтобы, прогнав машину по бездорожью, выгрузить в своем дворе добрый кусок масла, ни браконьеров родных лесов, убийц животных, глушителей рыбы, о которых рассказывал отец, заходясь бессильной яростью. «Господи! – в сердцах восклицал Александр, – Как меня сюда занесло? Какая охота к перемене мест?..»








