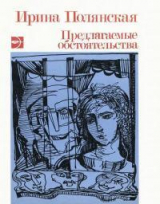
Текст книги "Предлагаемые обстоятельства"
Автор книги: Ирина Полянская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
* * *
И вот теперь подруга Аллочка пригласила их к себе. Он не знает дорогу, и она ведет его – хотя неправда, нет! Это он ведет ее, и она не может встать посреди улицы, топнуть ногой: ни за что! Он торопится и ни о чем не говорит с нею, он чувствует неловкость оттого, что не может скрыть свой интерес к ее подруге. Но послушай же, она так неаккуратно накрашена, тушь комочками на ресницах, у нее грубые секущиеся на концах волосы, она грубая, грубая! Ну и что? Разве это что-то меняет? Ну и что из того, что Геля уже читает «В поисках утраченного времени» – и читает невнимательно, не вникая в чужие страсти, иначе многое ей стало бы ясно.
Впустую прошли все летние вечера, когда они гуляли до тех пор, пока не переставали ходить автобусы, и тогда он своим замечательным жестом ловил для нее такси. И вот она шла, торопясь на чужое свидание, едва поспевая за ним. Он устремился в магазин, забыв о ней совершенно, купил бутылку вина. Они снова вышли на улицу и остановились, пережидая поток машин; Геля почувствовала, что она зябнет: действительно, было солнечно, но довольно прохладно, ясно проступали намеки осени, но ему было тепло, он не видел, как она обхватила себя руками. Они двинулись дальше мимо старух, торгующих гладиолусами, мимо автоматов с газировкой, от которых чем-то тошнотворно несло, мимо витрин магазинов шагали они, и Геля размышляла, как бы все-таки вырвать его из Аллочкиных хищных коготков, и ей начало казаться, что это вполне возможно, что сейчас он к Аллочке приглядится и ему все станет ясно. Геля повеселела, особенно после того, как он проговорил: «Конечно, твоя подруга не блещет умом, но...» Геля заполнила многоточие по собственному желанию. И ей стало совсем легко. Они вдруг оживленно заговорили об Аллочке, посмеиваясь над нею, причем Геля чувствовала, что ее слова очень остроумны, по крайней мере он все время нервно хихикал. Так они шли и шли, обмениваясь шутками, охотно смеясь каждому замечанию другого, легко и весело шагали они, как вдруг перед Гелей предстало видение.
Ей навстречу, в стареньком сером пальто, таком старом и сером на фоне толпы, шла ее мать с кошелкой в одной руке и сеткой с бидоном в другой. Ее глаза испуганно округлились, когда она увидела Гелю; она попыталась показать знаком, чтобы ей позволили и дальше совершать свой анонимный поход, но не смогла поднять ни руки с кошелкой, ни руки с бидоном и только слабо качнула головой. Идущая навстречу Геле толпа померкла и отступилась от мамы, отдавая весь свет ее маленькой полной фигуре, ее габардиновому пальто, ее куцему платочку, завязанному, как у детей, крепким узлом под подбородком, голой шее и тускло поблескивающим резиновым сапогам. Расстояние меж ними сокращалось, и Геля только сейчас поняла, как она померкла и постарела за эти четыре года. Мама низко наклонила голову, чтобы не обнаружить себя перед Гелиным великолепным спутником, прошла мимо со своей кошелкой и сеткой, припадая на левую ногу, стесняясь своего пальто и своих красных измученных рук. Холодный ветер круто развернулся и, почуяв в маме добычу, помчался следом за нею.
* * *
– А я не понимаю этих слов, при всем своем уважении к Ивану Сергеевичу не понимаю... – горячась, сказал Татаурщиков, – что значит Онегин – «лишний человек»? Кому это он лишний?..
– Вы правильно рассуждаете, Татаурщиков, – довольным голосом сказала мама. – Вы правы. И вы не правы. Мы немного поговорим об этом, хоть придется отвлечься от темы. Но тема, которую вы затронули, столь существенна, что позволим себе это отвлечение. Вы правы, Онегин, по нашим понятиям, не может быть лишним человеком, и Печорин, и Чацкий, и прочие тургеневские лишние – они вовсе не лишние, скорее наоборот. Прежде всего это умнейшие и образованнейшие люди своего времени, они в какой-то мере определяли духовный климат эпохи...
– Они эгоисты, – подала голос Рыбалина, головка в мелких кудрях, очаровательная мордашка, закройщица в ателье, – они только о себе и думали, а на страдания окружающих им было наплевать.
– Они сами страдали, – заступилась нескладная Маша Потехина, продавщица продуктового магазина. Похоже, она заступалась не столько за лишних, сколько за Татаурщикова. Но Татаурщиков, улыбчиво раскрыв рот, смотрел на Олю Рыбалину. – Их чувств и мыслей не могли разделить те, кому они причиняли страдания, и они от этого мучились и терзали других.
– Как это не могли разделить их чувств?.. – высокомерно отозвалась Оля. – Татьяна-то натура исключительная... Значит, могла! Она не глупее, между прочим, вашего Онегина, все его книжки прочитала, осилила, значит. (Татаурщиков все улыбался, подперев рукой щеку, смотрел на нее как завороженный, ясно тебе, Машенька?)
– Правы и вы, Оля, и вы, Маша, – вмешалась мама, – конечно, они сами глубоко страдали, и конечно, Татьяна натура исключительная. Но, Маша, для Татьяны Онегин был с самого начала всего лишь предмет любви – не более, ведь она только почувствовала, что он выше и глубже других, но вполне оценить его никак еще не могла. В том, что он не ответил на ее чувство, нет ничего удивительного, она для него была еще ребенком. Но страдание – опыт души, – помогло ей дорасти до него, даже подняться над ним. Действительно, они точно поменялись ролями. Если сначала она, не столько поняв его, сколько ошеломленная им, ослепленная, полюбила его, то позже и он был ослеплен ею, еще не поняв ее до конца. Вот она упрекает его: «Зачем у вас я на примете, не потому ль, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сраженьях изувечен, что нас за то ласкает двор, не потому ль, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь?» – и она глубоко, она страшно права: теперь эта новая Татьяна льстила бы его самолюбию, теперь она ему ровня. Но ведь точно такие же упреки мог ей предъявить и Онегин задним числом. Не полюбила же она ни Буянова, ни Петушкова, а может, это были прекрасные люди с отзывчивой душой, но нет – ее поразил великосветский щеголь, денди из Петербурга, ее увлек не виданный ею доселе блеск.
– Вот и я говорю, – подхватила Оля, – они стоили друг друга.
– Не будем больше останавливаться на этой истории, – продолжала мама, – хоть она еще тыщу лет будет хватать за сердце миллионы людей, вернемся к тому, о чем говорил Татаурщиков. Конечно, эти люди лишними быть не могут. И если смотреть шире, ни один смертный не может быть лишним.
– Даже алкаш? – вдруг проснулся и пошутил в своем углу Демидов.
– Да, Толя, даже тот, кто выпивает, хотя на данном отрезке жизни он приносит своим поведением окружающим много горя.
– Раз так, значит, лишний, – сурово сказала Маша Потехина, – ведь если б его не было, и горя было бы поменьше.
– Кого это если б не было? – насмешливо и угрожающе спросил Демидов. – Меня, что ль?
– И тем не менее ни об одном человеке нельзя сказать, что он лишний. Если изъять из среды тех, кто кажется нам лишним, что-то непоправимо изменится, провалится, уйдет в землю, ведь на свете все устроено так, что одно цепляет другое, если убрать одно звено, вся цепь разрушится, – объяснила мама.
– Вот, вот, – поддержал Демидов, – если я, например, пьянь, извините, то у меня сын, может, вырастет не пьянью, а каким-нибудь ученым, а если б не было меня, не было бы и сына, правильно?
– Не надо переходить на личности, Толя, – произнесла мама, – вы сужаете проблему.
– Я это к примеру, – сказал Демидов, – что я – тоже звено.
– Звено-то звено, Толечка, но лучше б завязывал, и голова бы сейчас не болела, – ехидно заметила Маша.
– А может, оно нелишнее, что у меня сейчас голова болит, значит, она для чего-то болит, а для чего – мы и сами не знаем...
– Вот и дождались, – засмеялась мама, – Толя буквально спародировал нашу с вами дискуссию.
– Он всегда находчивый, когда речь идет о знакомом ему предмете, – опять доложила Маша.
– Ладно вы, балаболы, – вмешался Татаурщиков, – уши вянут слушать. Мы говорим о лишних людях и о том, почему их так называют, а не о всякой ерунде. Почему же их называют лишними?
– А вам не случалось, Витя, – сказала мама, – говорить о не очень умном человеке приблизительно так: «Ну, он голова!» Чувствуете оттенок? Так и Тургенев – он называет этих людей лишними с горьким сарказмом. Лишние потому, что не могут приспособиться к другим, не могут найти применения своим силам, своему интеллекту, лишние потому, наконец, что общество еще не доросло до них – вот отчего они лишние, я думаю...
«Надо же, – подумала Тая, – вот как здорово у них проходят уроки, не то что у нас. Вот возьму завтра и спрошу Анну Федоровну про лишних людей. Так она скажет, конечно, что мы сейчас Морозку и Мечика проходим, а не лишних».
Щеки у мамы все еще горели. Ученики расходились. Мама только сейчас открыла журнал и обнаружила, что сегодня так и не спросила никого, а ведь конец четверти, оценок в журнале мало. Снова раскрутили ее и обвели вокруг пальца.
– Ну что, Тая, – спросила она, – понравились тебе ребята?
– Татаурщиков – ничего, – сказала Тая, – но твой прежний любимец Руденко был интересней.
– Не скажи, Татаурщиков умница. Всегда, в каждом классе находится несколько человек, с которыми интересно. А чего ты, собственно, вдруг явилась?
– Я тебе зонт принесла.
– Дождя нет, между прочим, – сказала мама, – так что случилось?
– Ничего. Нельзя, что ли, прийти было?
– Можно, конечно, только, пожалуйста, будь скромнее. Я и ученикам не разрешаю опаздывать, а ты врываешься посреди урока – это некрасиво.
– Мама, – торжественно сказала Тая, – я тебя послушала и поняла: мне оттого так трудно в жизни, что я лишний человек. И общество еще не доросло до меня.
– Бедное общество, – пожалела мама, – ну, может, если оно привстанет на цыпочки, то дорастет, а?
– Нет, мама, – с горечью произнесла Тая, – и тогда не дорастет. Вот так всегда – сначала мы ему лишние-лишние, а как помрем, так выяснится, что были самые насущные.
– Ну да, – подтвердила мама, – ты ужасно насущная.
– Я – это камень в стоячее мещанское болото.
– Это ты Оле своей рассказывай, – она тебе поверит. Она тебе пока еще верит.
– Чем я не лишняя, – продолжала Тая с увлечением, – учителя в школе на меня волком смотрят, в классе не любят, родители моих подруг меня не выносят. Выходит, самая что ни на есть лишняя.
– Демидова тоже ругают в цехе за прогулы, и родители тех ребят, с которыми он дружит, тоже его терпеть не могут, потому что он пьет. Но это еще не главный признак того, что он тот самый лишний человек. У тебя мания величия.
Тая вздохнула и раскрыла над собой зонт.
– Вот, вот, – сказала мама, – ты именно такой человек, который берет зонт, когда на небе ни единого облачка, но если льет дождь – все наоборот. Пошли домой, лишний человек...
А главное мучение, думала мама, шагая под руку с дочерью, не могу понять, что у нее на уме. Все ее ровесницы уже определились, а эта неизвестно о чем помышляет. Или она сама этого не знает, или знает, но не желает говорить. Как хорошо, если б в этих безмятежных глазах можно было читать мысли. Или нет, нехорошо, страшно? О чем хочешь говорит с подкупающей искренностью, но как заходит речь о главном – замыкается, отшучивается, и ничего не сделаешь с ней. Не могу подыскать интонацию для разговора с нею, сама себя ненавижу за базарные нотки в голосе, но ведь именно этим голосом кричит моя тревога о ней! Я знаю все ее любимые лакомства, оперы и цветы, помню все ее болезни с пеленок, но главного не знаю, и она не хочет, чтобы я знала, уходит, уходит – куда? Так знаю я или нет о ней главное? Может, я считаю, что это вовсе не главное, что я знаю о ней, а главное – в какой институт она задумала поступать, в какой уезжать от меня решила город?..
Какой там может быть институт, когда в Таиной тыщу раз ею обруганной и недостойной жизни наконец появился некий витамин, под воздействием которого жизнь выздоровела, налилась силой и юностью, и назывался этот витамин с легкой руки Вальки – ходить по острию ножа.
Валька была Таиной одноклассницей. Уже в девятом классе у нее была смелая любовь с физкультурником, а в начале десятого – с одним маменькиным сынком, страшным нюней, который Валькины чулки был готов стирать, но привести ее в дом для знакомства с родителями не смел, и Валька великолепно бросила его, наставив рога с его же, нюниным, приятелем. Что будет после школы, бог знает, а Валька и не предполагает, плевать – отчаянная девка. Эта Валька начала таскать Таю по компаниям; положа руку на сердце, компании были неподходящие, и Тая не подходила к этим компаниям, потому что, когда приближалась полночь, норовила, как Золушка, улизнуть. Однова живем, веселилась Валька, ничего не боялась, ничего не жалела, не пожмотилась Тае подарить лучшие свои клипсы. Жила она в центре в коммунальной квартире с матерью, еще молодой, с такими же, как у Вальки, живыми смеющимися глазами; про материных ухажеров Валька говорила симпатично: мой 101-й или, дай бог памяти, 102-й папочка. (Папочки, к слову сказать, уже зарились на саму Вальку, и в доме возникали легкие скандалы.) Валька напропалую кокетничала, где бы она ни появлялась, вместе с ней возникала тревожно-радостная атмосфера, насыщенная ожиданием чудес, мужчины начинали острить и искриться, дурни эдакие, упершись рукой в матерое бедрышко, говаривала Валька. Дурни млели, подчинялись ей, представлялись холостыми, бежали за вином и шоколадом, косясь на Таю – а это что за птичка? Птичка и сама не знала, что она за птичка, а Валька была стреляный воробей. Поднимался вихрь, небольшой такой вихрик, взвивались в воздух студенческие, с трудом накопленные на магнитофон рубли, орала музыка, доставались родительские сервизы, пока родители пахали себе в ночную, дрожал пол, дрожали свечи, бились бокалы, Валька выстраивала всю честную компанию в цепочку и заставляла мальчиков танцевать летку-енку... Комната плавала в дыму. Тая сидела в сторонке, тоже курила, держа руку на отлете, к ней приставали неуверенно и даже неохотно, от Вальки же не отлипали, хотя она щедрой рукой направо и налево отвешивала пощечины, бормоча: я девушка серьезная и воробей стреляный. Из компании в компанию вместе с ней кочевал получивший отставку нюня, жаловался Тае на Валькину жестокость, умолял посодействовать. Однажды в такой компании Тая встретила ученика своей матери Татаурщикова. Он узнал ее, изменился в лице, подошел к Тае и, крепко взяв за ухо, вывел за дверь: «А ну марш отсюда!» Тая испугалась и слиняла.
Было много другого авантюризма: голосовали, останавливали грузовики и мчались с шофером бог весть куда, со смехом, с Валькиными шуточками, с сиянием глаз. Шофер доверчиво останавливал машину и несся в гастроном: девицы, похихикав, исчезали. Были чьи-то сомнительные дни рождения, сомнительного качества стихи, которые выкрикивал какой-то якобы известный поэт, говорил, что всюду печатается, врал, наверное, был какой-то Димуля, неряшливо одетый, всклокоченный, намекал, что он вор в законе. Были новогодние праздники в каком-то общежитии, выбили окно – от милиции укрылись, было, было, было... И ничего не было, пустота одна, все к весне надоело. И развеселая Валька надоела, и ее нюня, переключившийся на саму Таю, и дружный вой: «утки все парами, как с волной волна», и дым коромыслом, и ходить по острию ножа надоело. Та же скука, та же неопределенность, и мысли – куда дальше, куда дальше, зачем живем?
И вот однажды, оказавшись в каких-то смутно, непонятно откуда взявшихся гостях – именно так, не Тая возникла среди них, а они появились точно из воздуха вокруг нее, сидели на подушках, разбросанных по полу, пили дешевую сладкую гадость – Тая тоже хлебнула из общей пивной кружки, чтобы показать, что не брезгует, не обидеть, – какой-то взрослый, скорее даже пожилой мужчина вцепился в Таю не на шутку. Вальке он понравился – вылитый Жан Маре! – но Валька ему не приглянулась, а вот от Таи он не отходил. Гости исчезали, Тая же им удерживалась сначала как бы в шутку, потом со свирепой серьезностью в совершенно трезвых глазах. Он закрывал двери за уходящими и оттирал от двери норовящую ускользнуть Таю. Валька перешептывалась с каким-то пьяненьким дружком хозяина – физиономия в слащавых бакенбардах, вполне смазливая – Валька таким доверяла. По-настоящему Тая испугалась, когда и Валька с бакенбардами ушли якобы на кухню и куда-то исчезли. И тогда Тая уже в жарком ужасе воззрилась на Жана Маре, который уже и руку – вполне свинцовую лапу – наложил на Таино плечико и тянулся чокнуться. Тая дрожащим голосом запросилась домой – нет, невозможно! – потом попросила горячего чаю – это можно. Мужчина убрался на кухню, а она бросилась к раскрытому настежь балкону. Кроны деревьев шумели внизу. На соседнем балконе парень вывешивал мокрые тренировочные брюки на веревку. Тая, торопясь, перелезла через перила и как в лихорадке закричала парню, чтобы он подал ей руку.
– Сдурела, – сказал он, – пятый этаж...
– Руку! – закричала Тая.
– Стой! – Парень оказался догадливым, – Полезай назад, чокнутая, я сейчас там дверь выломаю, если не отопрет...
Она моментально поверила в свое освобождение. Дверь высаживать не пришлось. Свирепый Маре, после того как отчетливо постучали, выругался, с ненавистью глядя на Таю, и пошел открывать. Оказалось, паренек за дверью не один, с отцом, человеком внушительным и серьезным.
– Ух и дал бы я тебе по шее, – сказал отец рыдающей Тае, а парень взял ее за руку и повел прочь. Дорогой Тая вполне освоилась, рыдать перестала и неблагодарно огрызалась на упреки, которые взрослым голосом произносил ее ровесник. Но в общем, парень ей приглянулся. И в общем, она уже кокетничала.
– Наш сосед на Севере деньгу зашибает, – объяснял парень, – а ключи оставил дружкам, и мы уже привыкли, что в этой квартире тамтарарам. Отец уже пару раз разгонял компании. А этого мужика я вообще впервые вижу, а ты?
– Ладно уж, – пробормотала Тая, – спаситель. Ну спас, молчи теперь, чего уж напоминать о своем благодеянии.
– Тю! Я и не напоминаю, – удивился спаситель, – но учить тебя некому точно. Как хоть тебя зовут?
– Мерседес, – сказала Тая.
* * *
Ночью маме приснился сон...
Она лежала в своей комнате, уставившись без всякой мысли в полоску света, пробивавшегося из комнаты девочек. Послышался ворчливый голос Таи: свет, видите ли, мешал ей. Опять до глубокой ночи шаталась неизвестно где, а явилась с кротким виноватым лицом, но, взглянув на мать, тотчас же углядела, что нагоняя не будет, и выклянчила рубль. Лентяйка, лгунишка, думала мама, и нет сил угнаться за нею. Ни на что больше нет сил. В школе спят и видят, как бы с подарками и причитаниями спровадить меня на пенсию, Прибытков уже руки потирает: конечно, его жена будет читать курс не хуже меня, как это жестоко дожить до таких лет безо всякой защиты и помощи. Опять послышалось Таино ворчание, и свет погас. До таких лет, кто бы мог подумать, что ее жизнь превратится в узкий темный коридор, по которому она ковыляет, теснимая со всех сторон бедами. Ветер пел о том, как хорошо в такую ночь быть молодой, влюбленной. В форточку пахнуло весной, по небу шли темные с багровым отсветом облака как тени, ветер выл, заметал на небе самые следы слабых апрельских звезд, никто, ни один человек, уже страшно подумать сколько лет не называет ее Мариной, она носит как дополнительную тяготу отчество, и после рождения Гели даже ее собственная мать стала называть ее «мамочкой». Ветер выл, раздувал паруса, в большой комнате трещал камин, там обычно собирались до слез любимые друзья, когда они собирались, не всех можно было усадить. «Они свисают гроздьями с веранды», – говорил отец, он очень любил свою старшую – кудрявую, смешливую, первую красавицу города. «Нам с отцом уже и места в доме нет, – довольным голосом вторила мать, – нет отбоя от твоих кавалеров!» «Они не кавалеры, а друзья», услышала она свой собственный голос, который мог звучать одновременно во всех уголках их просторного дома. В городе бурно дышала весна, через заборы перевешивалась пена яблоневых садов, оживали, оттаивали трамваи, тренькали каким-то обновленным звоном, рассвет заставал ее на ступеньках веранды, она сидела на коврике, прислонясь спиной к стене, а несколькими ступеньками ниже стоял какой-нибудь воздыхатель с печальными глазами. Марина! Этому не могло быть конца. Легким весенним чувством жила она в окружении преданных друзей, щебечущих подружек. Она училась на филологическом, Александр был химик. В то время все ее знакомые говорили о нем: мальчики сдержанно, девочки восторженно. Учился он прекрасно, имя его мелькало в научной периодике; профессор Богомилов, великий умница, настоящий ученый, души в нем не чаял. Марину тоже любили на факультете. Когда она входила в аудиторию, со всех сторон неслось: «Марина, сюда! Сюда, Марина!» Сколько у нее было мест, сколько иных возможностей!
Он появился в ее веселой, оживленной компании, и все умолкли. Он всегда – всегда! – гасил собою любое веселье, непринужденность. Зазвучал его голос, и стало совсем тихо. Они, подруженьки, сидели на диване все вместе и завороженно смотрели на него, а он все чаще и чаще отыскивал взглядом ее золотистую головку. Когда он удалился – раньше всех, потому что ложился и вставал рано, – Женя Просвиров, ее паж, насмешливо сказал: «Да-а...» – и все покачали головами. Не то что он им не понравился, просто он был совсем другим, чем они. И она веселилась в тот вечер, но все время чувствовала: слезы ищут дорогу к глазам. Она ушла к себе, отослав влюбленного Женю. А когда прилегла, услышала, как в глубине неба назревает дождь, облака летели за Дон и наталкивались друг на друга, образовывали мощные скульптурные группы, деревья на улице бурно раскланивались, и когда грянул наконец дождь, Марина тоже расплакалась. Пел ветер, начиналась весна, но она давно уже разучилась плакать, слезы – это привилегия молодости. В большую комнату, где она принимала гостей, внесли стулья, и каждый, входя, кланялся ей и усаживался на свой стул. В комнату входили старики и старушки, какими сейчас казались ей ее давние друзья, те, кто остался жив. За их морщинами и облаками усталости на веки затворились прекрасные юные лица, которые она помнила и не могла совместить с теперешними. Вошла степенная рассудительная Аня, которая была когда-то сумасбродной девчонкой, жестокой кокеткой, острячкой. Она вошла с палочкой, потому что лет десять назад поскользнулась и упала, с тех пор прихрамывала. Несколько лет назад Аня потеряла мужа и теперь едва ходила по земле, опасливо прислушиваясь палочкой к ее кочкам и ухабам. Вошел вечно брюзжащий старик, обожающий свои болячки как детей, вместо приветствия он сказал, что сердце у него еще туда-сюда, а желудок ни к черту. Сердце она помнила, как страшно колотилось оно, когда этот мальчик упал перед нею на колени, заклиная не выходить замуж за Александра, она рассеянно провела рукой по его черным волосам, и он, гибкий, влюбленный юноша, обвился вокруг ее тела и пополз по нему, как по гладкому стволу, пока не прижался губами к ее волосам, тут-то она и услышала ладонью, отталкивающей его, разрывающее грудную клетку горячее сердце и замерла в страхе и изумлении перед силой его любви. В лесу лиц, вырастающих в ее комнате, возник сумрачный лик воина, погибшего на войне. Он не вошел, как все, а как-то проявился в углу на фоне коврика с замком. Потом еще несколько молодых лиц засияло в разных углах комнаты, как тоненькие березки среди старых, пораженных болезнью дерев, и наконец молния ударила ей в сердце: в центре комнаты, на возвышении, как всегда, сидела Лиля Карева, поджав под себя ноги. Глаза сверкали на ее прекрасном мраморном лице, таких глубоких и смелых глаз она больше не видела ни у кого. Лиля вся была прекрасна, в каждом своем движении, в молчании. Она была поэтом, вся компания благоговела перед ней, никто не решался влюбиться в это чудо. Стихи ее знали наизусть. Сама Лиля была молчаливой, сосредоточенной, точно в ней все время совершалась какая-то работа, происходила борьба неведомых сил, может быть, поэтому ее умные глаза светились таким трагическим блеском... Лилю Кареву расстреляли в Змеевской балке в семи километрах от города. В эвакуации Марине не довелось это узнать; домой она вернулась вечной плакальщицей над могилами своих друзей, разбросанными по всей земле. Когда она узнала про Лилину гибель, то первое, что сделала, бросилась записать ее стихи. Но тут произошло страшное, навеки непростимое ей: память отказывала, память не сберегла страстных Лилиных стихов. Марине так много пришлось пережить в эвакуации: смерть отца, болезнь маленькой сестры, недосыпание, голод; жили на окраине Ташкента в узбекской семье, восемь человек в комнате, спали вповалку, матрасом и одеялом одновременно Марине с сестрой служила старая колонковая шуба, случайно прихваченная, было не до сборов, эшелон, на котором им удалось выбраться из города, был последним, через полчаса после его отхода немцы выволокли на пути и расстреляли начальника вокзала... Марина с матерью работали на заводе, еле-еле приносили ноги домой. Иногда устраивали купания в корыте, в котором хозяева кормили свиней.
Она могла считать себя счастливой. Вернулся с войны брат, потеряв два пальца; выздоровела сестра, возвратился из госпиталя дядя, позже нашелся и Александр, пропавший без вести в сорок первом. Но судьба посчиталась с ней за все эти милости, отняв друзей. В самом начале войны сгорел в танке Женя Просвиров, умер от ран в сорок втором Жора Аветисян, которому все пророчили блестящее будущее в науке, в сорок втором же расстреляли Лилю Кареву, вместе с родителями, в сорок третьем один за другим погибли ее однокурсники Миша Слободкин и Толя Левчук; Вера Бойко, бывшая староста курса, подорвалась на мине, в самом конце войны пришли похоронки на Юрика Козлова, художника-карикатуриста, самого веселого и бесшабашного парня в городе, и Лешу Суровцева, погибшего на Дальнем Востоке. Сейчас они все один за другим возникали в непомерно разросшейся комнате, за окном которой пел ветер, рассеивая по ночному весеннему воздуху остатки прошлогодней жизни.
Случалось, даже во сне, обдумывая свою жизнь, она искала главную причину – почему жизнь не сложилась, ведь все было с самого начала хорошо, даже слишком... Где главная ее ошибка, в чем она? Когда она свернула в тот тупик, который поначалу показался прекрасной мирной улицей, и был ли тупик, или он только в ее душе, в ее характере? Если бы ее кто-то имеющий на это право спросил: зачем ты жила, она бы с молчаливым достоинством поставила перед его глазами двух дочерей: вот зачем. Только-то?. – спросили бы ее. Разве этого мало? Увы, мало, разве ты сама счастлива? Мне-то что, лишь бы они были счастливы... Как они могут быть счастливы, если ты несчастна – не только потому, что твоя беда будет всегда мучить их души, но и потому, что между их и твоим благополучием есть более грубая, более страшная связь, горькая зависимость, от которой некуда деться. Так где же он, тот поворот, куда не надо было сворачивать, когда жизнь была ясна и просторна и одаривала со всех сторон, неужели главная беда в том, что когда-то прошлогодней листвой занесенной юности душа с разбегу врезалась в одного человека, в соляной столб, в гранитную скалу, и оказалось, что на эту беду нет забвения, нет клина, нет сна?..
* * *
Но вот четырежды сменились времена года, годовое колесо сделало полный оборот, и еще раз оно плавно и незаметно для тех, кто находится ближе к его центру и не ждет особенных перемен для себя, повернулось – и отпали напрочь неразрешимые прошлогодние проблемы и застревают между спицами неразрешимые нынешние, но все равно оно вращается, все-то ему нипочем, не то что человеку – нипочем смерть, расставанья, предательства, все пройдет, все перемелется, отхлынет, вечно лишь течение жизни да плавный ход колеса времени; письма придут, письма уйдут, караваны писем тянутся на северо-запад и обратно, а молоденькой почтальонше Вере приятно за маму Марину, что дочка ее не забывает, хоть и в Москве, хоть и – счастливица! – актриса; мама на балконе развешивает постиранные кухонные полотенца красными руками, а Вера снизу машет ей конвертом. Мама, держась рукой за перила – уже необходима эта неодушевленная поддержка, – уже не сбегает, а сходит на площадку второго этажа к почтовым ящикам, где Вера дожидается ее с письмом под мышкой – лицо мамы Марины в эту минуту для нее маленькая награда за эту адскую работу, которую она уже второй год собирается бросить, но не бросает, потому что и в этом году не прошла по конкурсу в пединститут. И мама понимает маленькую Верину слабость, она распечатывает письмо тут же, пока Вера рассовывает по ящикам письма и газеты, и бормочет: «Ну, слава богу, слава богу», пробегая глазами Таины каракули.
– Все в порядке? – спрашивает Вера.
– Слава богу, – отвечает мама, – спасибо, Веруша. А то если долго нет письма, душа не на месте.
– Ну что вы, дочка вам пишет аккуратно, не то что другие дети, – говорит комплимент Вера, – уж у нас на почте заметили, хорошая у вас дочь.
Этот разговор слово в слово происходит между ними раз в неделю, и мама знает, что ей Вера скажет, и Вера знает, что мама Марина ответит, но все равно приятно так поговорить.
– Неделю назад посылку прислала, – напоминает мама.
– Вот видите.
– Да, на новогодние праздники Снегурочкой в Доме офицеров подрабатывала, вот и прислала нам подарки, чудачка.
– Хорошая у вас дочка, – снова говорит Вера.
– Спасибо, Веруша, – снова отвечает мама, и они, довольные друг другом, расходятся. Чужая радость, догадывается Вера, тоже может быть немного твоей. Славная девушка Вера, думает мама, не каждому дано радоваться чужой радости, славная девушка, дай ей бог жениха хорошего.
Мама подымается к себе, надевает очки и начинает по-настоящему разбирать Таину китайскую грамоту, иероглифы, письмена, которые только ей одной и дано расшифровывать, потому что в этом участвует сердце, а так никому не под силу разобрать Таины крючки и палочки и ее саму. Мама пытается разобрать, где тут правда, а где не совсем, ибо Тая – Лука-утешитель, она не прочь прилгнуть, лишь бы все были спокойны. Тай пишет, что в Москве началась робкая, еле дышащая еще весна, в переходах стали продавать мимозу. Еще месяц-другой, сообщает Тая, и заработают автоматы с газировкой. Тая просит прислать ей томик Ларисы Рейснер, он, кажется, в шкафу за собранием сочинений Золя, как раз за пятым-шестым томами и стоит. Дело в том, что она сейчас «работает отрывок» – так они выражаются в училище – из «Оптимистической трагедии». «Нашлась комиссарша», – с жалостью думает мама. Тень сомнения скользит по ее лицу – она никак не может поверить, что Тая относится к этому своему делу серьезно. Ей самой представляется профессия актера слишком странной, зыбкой, ненадежной, вовсе не для Таи, хотя она верит: а вдруг Таю кто-нибудь заметит, например, Сергей Герасимов, он любит открывать новые таланты. Мама очень верит в прекрасное «однажды», с которого начинаются творческие биографии многих великих людей – однажды их кто-то встретил, обратил внимание, однажды пригляделся и ахнул. «Сходи на урок во ВГИК к Сергею Герасимову, – настойчиво советует мама в письмах к дочери, – ради интереса. Ради меня». Все бесполезно. Тая на такие предложения просто не отвечает. Она отвечает, что в Москве начинается весна, о чем маме и без нее известно, поскольку телевизор, недавно отремонтированный Татаурщиковым, работает отменно и показывает в программе «Время» исправно развивающуюся в Москве весну. Вспомнив о Татаурщикове, мама кидает испуганный взгляд на часы и начинает быстро-быстро собираться. В этот момент дверь с грохотом отворяется: на пороге стоит Геля с мимозами, за ней ее Олег.








