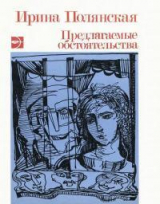
Текст книги "Предлагаемые обстоятельства"
Автор книги: Ирина Полянская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
От пристани на том берегу улица взмывала вверх. К пристани бежать было легко оттого, что под гору, и еще оттого, что в восемнадцать ноль-ноль подходила «Украина». Но не думайте, что назад было идти трудней, – нет-нет, взлетать к остановке, прижимая, как охапку цветов, к груди воспоминание о встрече... Он был еще виден, он плыл по реке весь в огнях, наш дизель-электроход, но все равно он был уже воспоминанием, которое никто не отнимет, все собственное до секундочки, до полуоборота, взмаха руки, настолько свое, что принадлежность вещей – сумочки, платья – ничто по сравнению с этой принадлежностью...
– Представляю себе, – сказала мама, – морячок. Если он что-то и прочел за свою жизнь, то это, конечно, некоторые места из Мопассана, а если что-то и слушал из музыки, то скорее всего полонез Огинского. На гитаре к тому же бренчит? Ну, так и есть...
Кстати, звезды не смотрели на наш первый поцелуй... Днем на верхней палубе, где в шезлонгах загорали под июньским солнышком люди, мы о чем-то пустяковом поспорили. А в шестнадцать лет люди спорят на поцелуи.
«Украина» подплывала к тихому городку, где жила моя тетка, тетушка Люба. На причале уже можно было разглядеть тетку с двоюродным братом на руках и бабушку, которая неподалеку невозмутимо торговала цветы, чтобы встретить меня с букетом. Продолжая торговаться, она помахала мне рукой. Тетка пустила ребенка на землю, он запрыгал вокруг нее, тут бабушка, наконец выторговав пионы, сунула букет брату в ручки и замерла рядом с теткой, вглядываясь в меня из-под руки.
Мы сбегали на ту сторону палубы поцеловаться.
– Твоя мать тебя все так же безобразно одевает, – сказала бабушка, бесцеремонно вертя меня за плечи. – В этом платье ты просто кикимора. Правда, Люба, она кикимора? – обратилась она к тетке. – Вытри Ленечке носик. Да. Сама всю жизнь была кикиморой и тебя делает кикиморой.
Приехали!..
Здравствуй, милая лейка с помятым боком, ручной дождик! Здравствуйте и вы, грядки, на которых цвели, росли, созревали... И ты, шланг, здорово, улитка с тяжелой внутренностью воды, павлинье оперенье влаги над смородиной, сад в бабочках, как в родинках, – привет!
Как живешь, слива, на которой ничего не растет, слива, которая живет сама по себе с выводком утят в своей барственной тени, как живешь, вишня с прислоненной к клейкому темному боку лестницей? Колодезная глубина бидонов – чур, я вишню собираю, а Сережка пускай крыжовник, нет, я первая сказала, не будем мы сидеть с Ленькой, махнем-ка через забор да на реку, ишь чего придумали; марсианский стрекот кузнечиков по ночам, а веранда на веревках дикого винограда все так же уносилась в небо, как качели...
Каждое лето меня отправляли сюда, но это лето!..
Письма писались на ощупь, ночью расцветали слова дикой красоты, утром они блекли, опадали, начиналось новое письмо, слова неслись поверх знаков препинания, поверх стыдливости – куда там! – дальше, дальше, пока не сточится карандаш.
Саша, я преклоняюсь перед твоими грамматическими ошибками, целую каждую кляксу. Эти загадочные зачеркивания, из-под них едва мерцают твои слова... Я греюсь возле неправильных переносов, а этот почерк – прекрасный, восхитительный почерк троечника!
«Ты мне нравишся. Я это говорю тебе не первый. Ты может изменчева как все девченки».
Через головокружительное пространство летел ответ: над Волгоградом, Саратовом, Сызранью, над Всесоюзным конкурсом пианистов имени Кабалевского в Куйбышеве, между созвездием Пса и облачностью в районе Жигулей, над небольшими осадками на юго-западе Ульяновской области, над маминой головой пролетало: «Здорово, здорово, Сашка, редкий, удивительный, я плыву следом за тобой по маршруту Ростов – Пермь, знаю его до травинки, мне знакома каждая шина, подвешенная на цепях дебаркадера, старухи, торгующие клубникой на пристанях, впрочем, прости жуткий почерк, не читай, если не в силах, только глянь на строчки – электрокардиограмма, – ты все поймешь».
С первым его ответом я совершила побег в дружелюбные заросли лопуха – как поживаете, лопухи?
Никто не отзовется, никто.
Но все же распутываются джунгли, клубятся, рассеиваются туманы, расступаются ветви, обнажая тропинки в малине, крапиве, в можжевельнике, пока я пишу про покинутую родину, которую помню с закрытыми глазами; когда-нибудь, истекая памятью обо всей жизни, я вернусь сюда, положу голову на корни орешника и умру под звон можжевеловых листьев.
И что, если там, в летнем городе, название которого выпевает какая-то птица всем своим бархатистым существом, до сих пор ходит бабушка в калошах, поливая грядки огурцов и мотыльков над ними, она ходит и поправляет на чучеле фетровую шляпу дедушки, которую он успел примерить, но поносить не успел, там ходит чучело вдоль оград над кукурузой и машет рукавом на стрижей, там вьются стрижи над школьником со скрипкой в руках, сейчас он кончит канифолить струны и заиграет на веранде гаммы, вниз по ступенькам один за другим потекут подневольные звуки ученической музыки в огород, где и поныне сидит Саша среди подсолнечников, на солнцепеке, и стрекозы летают над его головой, к нему ластится бесхвостый зверь Джерри, а за калиткой, как всегда, мчатся на велосипедах дети; не ниже бельевой веревки, на которой сушится легкое летнее платье тети Любы, но и не выше стрижей – наплыв облаков, облаков, облаков... И если что со мной случится – исчезну ли я, пропаду куда, – ищи меня у тетки на грядках; там, как волшебный фонарь, неподвижно катится велосипедное колесо, там все мы еще живы, все мы еще вместе и нам, господи, как хорошо – прекрасное, как морское дно, прошлое...
«...Смотри у меня если чего узнаю у тебя что есть с кем из парней, запомни я мужчина, а мужчина слез лить не станет он вырвет из сердца...»
Я вбежала в комнату и застыла на месте. Бабушка сидела в кресле-качалке, курила папиросу. Она взглянула на меня из-под очков и недовольно сказала:
– Чего пишешь – не разберу. Молодого человека, что ли, завела? – И не спеша перевернула страницу.
С воплем я вырвала тетрадь из ее рук и бросилась бежать – навсегда, ноги моей тут больше не будет, деньги занять на билет у соседей... Немалую роль в моем возвращении сыграло то, что из лопухов я видела, как тетя Люба сбивала на веранде мусс, а я тогда ничего так не любила, как мусс из малины.
Осенью я уже встречала «Украину» дома. В последнюю нашу встречу, перед самым концом навигации, мы поклялись ждать друг друга, и он подарил мне на память вот этот браслет, купленный в Ростове у цыганки.
– Ох и нормально! – сказала подруга Оля, примеряя браслет на свою загорелую руку. – Подари!
– Не могу, – ответила я тихо, таинственно.
– Давай махнемся на мои клипсы с синеньким камешком.
Тайна таяла на моих губах, как мороженое.
Я отобрала у нее браслет и вытащила из учебника по физике фотографию Саши.
Оля сказала: «Ничего себе», перевернула снимок и прочитала задумчиво:
– «От Саши на вечную память». Твой фраер? – деловито спросила она.
Я все рассказала ей.
– Вы целовались? – уточнила Оля и задумалась. – А я ведь тоже влюбилась, – призналась она и быстро-быстро заговорила: – Мы познакомились на юге в санатории, он там был бас-гитарой и танцы отдыхающим играл, а мне ни с кем не велел танцевать: ревную, говорил, и мы тоже целовались. Только ты никому не говори.
– Да никогда! Ты влюбилась по-настоящему?
– А то нет! – обидчиво сказала Оля. – Только у меня беда. – Она запнулась и опустила глаза.
– Ну?!
– Он, в общем-то... ну как бы тебе сказать... Нет, ты не подумай, он хороший...
– Да говори же! Алкоголик, что ли?
– Не, – с возмущением отмахнулась Оля, – скажешь тоже... Он женат.
– А... А как же, если женат?
– Жена у него мымра, вот что! Она его талант сгубила, он бы мог прославиться, у него такой голос! А она, он мне сам сказал, женила его на себе, и он теперь прозябает, деньги ей зарабатывает, вместо того чтобы в консерватории учиться. Говорит: «Все равно разойдусь с ней», а я ему сказала, что, как школу кончу, приеду к нему и вместе петь будем.
– Оля! – испугалась я. – А может, жена его любит! Она же жена!
Оля покраснела и топнула ногой.
– А я что – не люблю, что ли! Еще как люблю! Она и вправду мымра, он мне фото показывал. А ты если не понимаешь, так и не надо.
– Слушай, а он тебе уже написал?
– А твой тебе?
– Нет, – вздохнула я.
– Нет, – призналась она.
– Но ведь это не значит, что они разлюбили, да? Они просто нас испытывают... Оля! Давай больше ни с кем не дружить, и на каток вдвоем только ходить, и в кино тоже...
– Давай! – взволнованно сказала Оля, и мы взялись за руки.
Пока я оканчивала школу, за девять учебных месяцев от него пришла всего одна открытка – новогодняя. Он поздравлял меня и желал мне счастья. Я читала эту открытку дома, читала на уроках, потом после уроков, во время диспута о дружбе и любви, который проводила с нами наша классная руководительница. Прошло столько лет, а я помню, кто где сидел, и какой снег шел за окном, и как за окном темнело. Школа подымалась вверх против течения снега, как воздушный шар. Оля почти шепотом, с красными щеками, читала стихотворение Роберта Рождественского. «Отдать тебе любовь?» – спрашивала Оля не своим голосом и не своим же давала ответ: «Отдай». – «Она в грязи», – возражала Оля, глядя в пространство высокомерно. «Отдай в грязи», – соглашалась она, опустив голову, говоря с воображаемым гордецом.
Худенькая, такая старая, особенно в этом синем, почти детском платьице с белоснежным воротником, наша учительница стояла у стены и кивала головой. Совсем старенькая, руки у нее такие венозные, увядшие, слабые, она с трудом переносила стул, но свои уроки по литературе вела страстно, высоким поющим голосом, волнуясь, сжимая кулачки, – она-то верила в любовь, наша учительница, и поэтому мальчики не хихикали, а выступали охотно, и все сошлись на том, что для девчонки главное – это гордость...
Шел снег, а я все читала свою открытку с нарисованным на ней пингвином, который вез на санках другого пингвина, и думала, что ни в кого бы я не влюбилась из нашего класса, и из города нашего, и даже из большого города на левом берегу реки я не полюбила бы никого, потому что это слишком легко, слишком близко; и как можно любить Генку, ведь мы столько лет сидели за одной партой! Что, скажите мне, таинственного в Генке Синельникове могло быть, когда он сидел на нашем диспуте и пощипывал под партой бутерброд с колбасой, незаметно отправляя его в рот?
Нет! Чтобы далеко! Любовь большую, выходящую за рамки, за клетки, как почерк первоклассника! Любовь, говоришь ты, мама, будто бы испаряется со временем, как испаряется синяя лента воздушного змея в воздухе, уменьшается, как синяя нитка Волги с карты нашей области уменьшается на школьном глобусе, и исчезает – такого не может быть! – исчезает из жизни, как куклы, как мишка с пуговичными глазами, и ты только вздохнешь во всю свою грусть о ней, – так говоришь ты, мама, а я отвечаю тебе, отвернувшись к окну, прижавшись лбом к холодному ночному небу: нет, нет, нет!
Летом Саша не подал о себе вести.
Я искала его на теплоходах, идущих из Перми, пока мне не сказали, что он плавает не на пароходе, а на барже; я перевстречала их десятки, пока не узнала, что Киселев ходит на самоходке «Красновишерск», она была как раз сегодня ночью, сказали мне уже в порту, теперь ждем дней через двадцать.
Я не поехала с мамой в Кисловодск, сославшись на подготовку к институту.
Вот еще один экспонат: куплеты песенки «Ты лежала на руках, Ланка». Как-то на рассвете катер привез меня к «Красновишерску», который в порту не задерживался; перебравшись на палубу, я выдохнула:
– Саша Киселев...
А мне ответили, что Киселев ходит вовсе не с ними, а на барже «Октябрь». Я уже настроилась долго и отчаянно горевать, но кто-то крикнул:
– А вы не расстраивайтесь, девушка, «Октябрь» идет за нами, часиков в пять будет в порту.
И правда, в полдень я сидела в его каюте, и был его друг. Саша смущенно бренчал на гитаре, а я писала текст песенки про Ланку для его друга. Потом Саша отобрал у меня этот листок бумаги и написал: «Я тебя...» – и тут же зачеркнул – что, но все равно я забрала с собой этот драгоценный листок. И не пошла сдавать экзамены.
Зато потом пришло письмо, он писал, что ему скоро в армию, что «ничего у нас ниполучится, девченки так долго ждать парней неумеют и ты меня дождешься разве?». Вопросительный знак был несколько раз обведен чернилами. Я бросилась отвечать ему, а его письмо на радостях показала маме, и она спросила:
– Из каких соображений твой бессмертный возлюбленный не ставит запятых после вводных слов и придаточных предложений?..
И Оле я показала это письмо. Она уже училась в строительном и ездила в институт в город через мост уже не на «Васе», а на других, новеньких автобусах с Генкой Синельниковым, который угощал ее своими бутербродами с колбасой и объяснялся в любви. Бас-гитара был забыт.
Оля сказала, что письмо очень хорошее и не надо терять надежды.
Весною – он уже был в армии – вдруг приехал ко мне в отпуск. Я была на работе, и мама объяснила ему, где это. Я играла на чахленьком пианино в балетном кружке, и мои девочки так и застыли в своих грандбатманах в воздухе, я перестала играть, когда увидела Сашину круглую голову в окне между кактусом и глицинией...
Мы пришли домой, держась за руки, и мама проигнорировала наши сомкнутые пальцы, но сказала, что она заняла очередь за апельсинами за женщиной в синем пальто с песцом и в очках.
– Не сходите ли вы с Александром – как вас по батюшке? – а мне пора в институт.
Мы пошли, давали по два килограмма в руки, мы взяли четыре и до ночи перешептывались на кухне среди гор апельсиновой кожуры.
– Все равно ты меня не любишь, – убеждал меня он.
– Нет, люблю, – сердилась я, и мы, прислушавшись, быстро целовались.
– Это тебе кажется, – шептал он.
– Прямо уж.
– Твоя мать будет против. Видела, как она на меня смотрела?
– Ну прямо.
– Ты из армии меня не дождешься. На «гражданке» столько красивых парней!
Я клялась, что дождусь.
– Ну смотри, – говорил он, – все вы так говорите. Если дождешься, сразу женимся, да? И едем в Пермь.
– Ну.
– Спать скоро ляжете? – спросила из комнаты мама. – Саша, я вам на диване постелила.
– Ладно, пошли, а то подумает о нас чего...
– Чего?
– Ну чего, чего... Сама небось знаешь чего.
Утром он проводил меня на работу, поцеловал у Дома пионеров и ушел.
Больше писем не было.
Я медлила у почтового ящика с ужасным чувством, что от него ничего нет. «Комсомолка», письмо маме, квитанция за телефонные разговоры с бабушкой...
С балкона я следила за молоденькой почтальоншей, и едва она входила в наш подъезд, как я скатывалась вниз: нет! нет!
Тогда я попросила Олю написать ему, что я очень серьезно болею, лежу в больнице: пусть он напишет – и я тут же выздоровею... Ответа не было.
Ответ пришел через несколько месяцев.
Вот и теперь, спустя десять лет, я едва ли найду слова, чтобы рассказать, что это был за ответ.
Это была бандероль с четко написанным обратным адресом: Пермь! Но почерк был не его.
Я растерзала бумагу, и в эту минуту Колхас занес нож над Ифигенией, но боги медлили с ланью.
Все мои письма, присланные назад... Свадебное фото. И клочок бумаги, на котором девочка со свадебного снимка написала так:
«Дорогая незнакомая! В нашу с Саней жизнь не лезь, поняла? Только попробуй – и ты у меня узнаешь. Мы решили вернуть тебе все это. Ты красиво писала, а женился он вот на мне...»
Как это сказать... С каждым годом падает плотность населения в тех моих воспоминаниях. Вырос двоюродный брат и стал студентом. Оля не вышла замуж за Генку Синельникова, и живет где-то в Караганде одна... Я помню мальчика, который спросил меня на утренней палубе, не хочу ли я взглянуть на кости мамонта, и я ответила, что хочу, мы пошли по набережной навстречу будке с мороженым, он купил мне шоколадное, и я давала откусить ему с одного бока, я помню мальчика, которому переписывала песенку про Ланку, помню детей, застывших в грандбатманах, одна девочка стала балериной и теперь танцует в Омском театре, у нее был прекрасный «шаг», у этой девочки, ее отец часто простаивал на улице, глядя в освещенное окно, как дочка репетирует Красную Шапочку, я помню почтальоншу, она вышла замуж и теперь живет в нашем доме, но больше всех я помню парня и девушку со свадебного снимка, хотя тогда только глянула и порвала этот снимок в клочья. Прошло столько лет, а я все не могу забыть эту девушку и парня. Я до того их помню, что покажи мне теперь толпу народа и скажи: они здесь! – и я найду их сразу же, узнаю, выведу на свет, посмотрю на них хорошенько, чтобы запомнить этих, теперешних, и забыть наконец тех, улыбающихся одинаково славной улыбкой, так похожих друг на друга, как брат и сестра. И тогда я скажу себе: наверное, того мальчика уже нет на свете.
И все же – в последний раз, облокотясь на борт старой посудины «Украина», загляну в твое лицо, на которое уже легли густые вечерние тени, и так скажу тебе в последний, в бесчисленный раз:
– Я часто думаю о тебе, мальчик, потому что прошлое переплелось с настоящим так тесно, как Лаокоон и его сыновья со змеями, посланными Палладой; все так, но как найти тебе оправдание за ту бандероль, я не придумаю.
Но, может быть, та девочка нашла их в твоем письменном столе, в заветном месте, и отослала письма без твоего ведома, а ты обнаружил пропажу, искал, грозился уйти из дому, плакал... Хорошо бы мне поверить, что так оно и было, потому что тогда моя родина останется такой, как я ее помню: ночная веранда, бабочки, лейка, слива – все будет жить, как жило, – и простимся.
Черное и голубое
Агнесса в переводе с языка этих двух ее новых платьев означало странная. Страна ее я, если мыслить метафорически, с них начиналась, ими же и оканчивалась. Странная. Так оба платья, объединившись, пожимая плечами, выглаженные, накрахмаленные до легкого хруста, как листья в гербарии, трактовали ее, Агнессу. И как листья же, отстав от минувшей бог весть когда осени, в которой они доживали жизнь, были скорее принадлежностью памяти, горестным намеком на время, ухватившись за поручень которого, задыхаясь, бежала Агнесса, а оно набирало ход. Платья – вызов неяркой жизни, тяжеловатой фигуре, возрасту, судьбе, тощему кошельку (и откладываемые двушки в конце концов тратились на транспорт), вызов вереницами других нарядов, проносимых другими женщинами. К Агнессиным платьям, как белая нитка, как тополиный пух, как пыль, приставали взгляды, ухмылки, перешептывание за спиной.
Одно – голубое, почти французское, с Эйфелевой башней на ярлычке, хотя и пошитое в Сирии, украшенная бисером грудь, кайма по подолу золотистая, бисерная, оно мыслилось в горячем воздухе сцены, оно заливалось эх полным-полна коробочка. Другое – черное, романтическое, со многими оборками и нижней юбкой, с кружевами: и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. Траур богатой вдовушки, осчастливленной смертью своего старичка. В 1976 году, то есть уже много лет назад, находясь в стареньких братниных джинсах и в майке с портретом итальянской киноактрисы на груди, Агнесса была представлена двум этим высокопоставленным платьям и пожелала их как счастья. Она стала терпеливо пасти их у одной знакомой, жены гребца международного класса. У того что ни взмах весла, то наряд жене или побрякушка. Знакомая давно и успешно сотрудничала с комиссионным магазином, куда одно за другим благополучно уплывали ее платья, полушубки, сапожки, ботиночки. Все это в отделы, заметим по секрету, не попадало, приемщица Валя звонила о вещичках своим подругам, они моментально являлись на звон и уводили под руку приглянувшиеся наряды. Но, как ни странно, платья успевали пропитаться запахом комиссионки, пожилым запахом пресной пыли и слежавшихся вещей, и потом никакая лаванда не могла вытравить его; мгновенно, как цианистый калий, он поражал весь гардероб, комнату, квартиру, дом – все пахло подержанной вещью; убитая запахом, вещь не дышала. Агнессины два платья, быстро надоев супруге гребца, тоже засобирались было в комиссионку, но тут явилась Агнесса со своими ста рублями. Подруга вдруг передумала: то ли ей стало жалко Агнессу – платья-то были простые, хэбэшные, то ли ей стало жалко сами платья. Она сказала: поношу еще немного. Обещанное затянулось, потому что у гребца что-то там произошло, что-то он растянул в спине, догребся, одним словом, и стал неперспективным, таким образом, тема новых вещей исчерпала себя. Как только подруга в это поверила, она позвонила Агнессе. В горячий летний день Агнесса вышла от нее в полуфранцузском, голубом, держа под мышкой в газете черное, и на этом ее дружба с женой гребца кончилась. К этому моменту ей исполнилось тридцать лет, и мелодия ее жизни достигла, может быть, своей ведущей темы...
Агнесса вошла в платья, как входят в сводящую судорогой ледяную воду; стоя по горло в его блеске, она с отчаяньем думала: надо плыть. Может быть, ей казалось, что на нее показывают пальцами. Люди просто шли себе мимо и правда думали: надо же! Агнесса встряхнула гривой, в которой тоненько шуршала первая седина, и отважно тронулась дальше. Тут что-то укололо ее в сердце, какое-то знание о себе, иначе называемое предчувствием. Вообще-то это был уже не первый случай опоздания подарков на праздник ее жизни: в детстве принципиальные родители так ограничивали ее в сладостях, что все первые зарплаты она тратила исключительно на шоколад, пока не наелась его на двадцать лет назад. Наевшись, она захотела красивого платья, но таких денег не было, Агнесса все чего-то ждала, в то время как молодость, неслышно ударяя веслами по воде, уходила от ее преследования. Так ей казалось. Как за куст ракиты над рекой, она уцепилась за платья, буквально впилась в них своими вовсе не цепкими, не сильными большими руками. Но этот неистребимый запах комиссионки! А ведь, напомним, вещи туда так и не попали, только мысль о комиссионке коснулась их, только бесплотная мысль.
Платья можно было носить на прогулку или в кафе, например, можно и в театр, там всякое бывает, от мехового манто до кроссовок. Это понимала даже Агнесса. И все-таки не выдержала, однажды явилась в одном из них на службу. Она почувствовала себя голой среди одетых. Завотделом, вызвавший ее для нахлобучки из-за того, что она допустила ошибку в сводке, приумолк и как-то неожиданно и очень по-человечески заулыбался и даже привстал из-за стола. То есть платье принесло свои плоды, хотя вовсе не на такие рассчитывала Агнесса. То есть не только на такие плоды. Она сослала оба наряда в шифоньер нафталиниться до лета, до летних прогулок в парк, об одной из которых пойдет речь...
Агнесса жила в новом районе. Во дворе ее дома находился детский комбинат, куда ходил ее сыночек Серга. Агнесса, не жалея сил, помня свое скупое на красивую вещь детство, наряжала Сергу. Воспитательницы поругивали ее сына, вечно он у них ходил виноватым в размазывании каши по тарелке или в перепутывании своего шкафика с одеждой. Странным человеком рос Сергей. Воспитательницы и по головке не могли его погладить в порядке поощрения: он тут же уходил из-под руки. С детьми не играл, все в сторонке, один. Правда, рисовал и лепил прилежно, с фантазией, но и это почему-то не очень нравилось воспитательницам. Странное поведение сына пугало Агнессу, она даже советовалась с одним психоневрологом по поводу неконтактности своего ребенка. Специалист толком ничего не сказал, хотя беседовал с нею долго и задушевно и не взял с нее двадцати пяти рублей за визит, которые, знала Агнесса, он брал со всех. «Купите лучше мальчику апельсинов», – сказал он и больше слушать ничего не захотел.
Гулять в парке Серга не любил, но больше гулять было негде. Другие дети бежали в парк подпрыгивая, Серга брел, яростно цеплялся за ее руку и не желал ни качелей, ни песочницы. Когда его принуждали к общению, ему было еще хуже, чем на утреннике в детском саду, где все дети притоптывали и подпевали, а Серга, набычась, стоял и смотрел в пол. Агнесса думала: сначала они повторяют наши словечки и жесты, потом поступки, потом судьбу. И не увернуться. Эта мысль не давала ей покоя. Серга уже шел по асфальтовой дорожке, пиная свою тень, коротенькую, такую бедненькую, по ней, как по живому, и ступать больно, Агнесса наклонялась и время от времени целовала сына в макушку. Ее голубое платье блестело и неудержимо врало о ней мамам и бабушкам, стоявшим по краям детской площадки. В середине была песочница, нагруженная детьми, как корабль, на котором надеются спастись. Дети барахтались в ней, тесня и толкая друг друга.
– Неужели тебе не хочется в песочницу? – поигрывая совком, спросила Агнесса. – Смотри, сколько деток, все играют, строят домик.
Серга нагнул голову, и мысль, которая все время мучила Агнессу последнее время, снова явилась к ней: не так я с ним разговариваю, не тем голосом, словами не теми. А какими? Мысль была сложна для нее. Агнесса подошла к самому краю площадки и почувствовала, что все взрослые, оцепившие песочницу, наводят на нее свои монокли, рассуждают о ней. Самое тихое хихиканье могло донестись до нее, потому что она была мнительна, самый далекий смешок. Агнесса знала, что люди, стоящие на песочной границе, за которой резвились их дети, все обижены, кто кем, у всех свои горести и болезни, поэтому, конечно, Агнесса ничем не хуже их, разве что хуже тем, что она жалеет их и все о них знает, а эти люди, может, ничего такого не знают и потому задаются. Эта мысль делала ее жизнь легче. Агнессе хотелось побыть одной и подумать. Поэтому она сказала плачущим голосом:
– Серга, миленький, пойди поиграй.
Сын затоптался возле ее платья, еще ниже нагнул голову.
– Ты обещала велосипед, – буркнул он.
– Не я, а папа. Раз наш папа обещал, он купит. Он тебя никогда еще не обманывал, правда?
Сын угрюмо кивнул. Он пошел к песочнице. Агнесса тут же ушла в свои мысли, замкнутые по звеньям так тесно, что не понять, где кончается одна и начинается другая. Мысли были о том, как бы обменять квартиру матери, живущей в Смоленске, чтобы она была поблизости и хоть немного помогала б, что на это, говорят, нужны хорошие деньги, что у Серги плохие зубы, что на работе трудно, шефиня, дура отпетая, норовит всю свою работу спихнуть на Агнессу, а Агнессе некогда и свою толком делать, потому что помочь с Сергой некому, вот если б рядом была мать, а как поменяешь ее комнату в Смоленске, когда на обмен нужны деньги, также нужно покупать ребенку свежие овощи и фрукты, зубы у него неважные, зарплату не прибавили, как обещали, потому что повысили другую, бездарность, дуру отпетую, она норовит свою работу спихнуть на Агнессу, а Агнессе и без того не продохнуть... На площадке закричали. Возмущались, оказывается, ею, выговаривали ее сыну, стоявшему уже за бортом песочницы, ссаженному с корабля детства. Он кинул песок в какую-то девочку, чуть не попал в глаза. Агнесса подскочила к сыну, дернула его за вялую руку. Мать обиженной девочки продолжала что-то говорить. Серга схватил горсть земли, кинул в сторону женщины. Агнесса стукнула его по макушке, он заныл. Она села перед ним на корточки и принялась успокаивать. Серга вывернулся и отбежал в сторону, девочка понеслась за ним, лепеча что-то успокоительное. Женщина подошла к Агнессе. Они неловко потоптались, косясь друг на друга, и неожиданно разговорились.
Женщина рассказала ей свою историю, одну из тех, которые рассказывают друг другу в больнице. Почти яростная стремительность, с которой она выложила Агнессе все это, говорила о том, что в женщине что-то надорвалось. Рассказывая, она все больше обмякала, точно история, уже близившаяся к концу, высвобождала в ней пространство, которое больше нечем заполнить, а потому оно заполнится спустя какое-то время все этими же разъедающими душу образами. Она говорила немного нараспев, по-северному окая. Я, рассказывала женщина, живу в двухкомнатной квартире, одну комнату занимаем мы с мужем и с дочкой, в другой проживает сестра с как бы мужем Виталием. Паспорта у них чистые. Эгоисты, детей иметь не хотят, в квартире за собой не убирают никогда, все время у них толкутся гости. Сначала он, этот как бы муж сестры Виталий, прятался ото всех, доходило до смешного – когда приходили родители сестер, Виталий залезал в шкаф. Сестра надеется, что он все-таки женится, а я ей говорю – надо быть гордой, тогда на тебе кто хошь женится, не то что этот шалопай. Не твое, дура, дело, отвечает. Жить стало невозможно. Размениваться сестра не желает. Они курят, дочка кашляет. Они проветривают, она опять-таки простуживается. А муж боится с ними связываться, такие они с Виталием нервные и заводные, муж старается прийти домой попозже.
– Может, подать в суд? – предложила Агнесса.
– Сестра же родная, – ответила женщина.
– Пусть вступают в кооператив.
– Откуда у них деньги? – сказала женщина, глядя на Агнессу с тоскливым ожиданием. И Агнесса, чтобы ее утешить, рассказала свою историю. У нее все тоже не слава богу. У мужа Андрея тяжелый характер, человек он замкнутый, раздражительный, математик. Но главная беда – свекровь. Пьет свежую Агнессину кровь, своя уже давно от злобы в ней сварилась. Скандальная баба с командирским голосом. Андрей ее побаивается. Агнессу она ненавидит, с ребенком сидеть не хочет. К телефону никогда не позовет. Презирает Агнессину стряпню, для себя и сына готовит отдельно. Лезет между ними. Женщина покивала головой, мол, как это все знакомо. Она спросила, не в том ли высоком доме за пустырем живет Агнесса, и она подтвердила, что в том. Женщина поинтересовалась, правда ли, что у них там хороший овощной, ей уже не один человек хвалил, и Агнесса сказала, что правда, капуста всегда свежая, упругая, продавцы сами дают выбирать, бананы не переводятся, апельсины тоже, картошка тоже неплохая, лучше, чем в центре, окая, нараспев говорила Агнесса. Они помолчали, потом подозвали детей, стесненно распрощались и разошлись в разные стороны.
Серга, освобожденный, то ли что-то напевая, то ли выкрикивая, бежал впереди нее по пустырю. Небо было полно нежных тающих красок, как створка раковины, сиреневые, нежные, желто-розовые, со страстным изгибом вытянутые над горизонтом стояли облака. И ни в небо взлететь, ни в землю уйти раньше времени. Ни в небо взлететь... Никакой свекрови у нее не было. Андрей никогда не женится, хотя, совестливый, помогает чем может, велосипед вот обещал. Но не женится, говорит, что причина в самой Агнессе, в ее характере, в том, что она стремится подладиться под всякого, спешит, торопится, забегает вперед всяческих отношений с людьми, так что те от нее шарахаются, не понимая стремительности и детского страха, с какими она откликается на всякое приветливое слово. Во всем у тебя нет вкуса, ругал ее Андрей. Что делать – нет. И платья ее – вызов судьбе, написанной бездарно, без вкуса. Судьба – твоя человеческая суть и суд над тобой. Ну вот зачем ей было пускаться в откровения с той женщиной, что может быть лучше сдержанного достоинства? Уж ее-то, ту женщину, чего было утешать? Разве ее беду сравнить с Агнессиной? Ведь все подобные несчастья придают судьбе какую-то завершенность, хотя бы на данном этапе, все они входят в сюжет жизни, ты находишься внутри своего круга, своей ауры, а не вне ее, где свищут ветра, где, как прошлогодние листья, висят чужие платья – чужие, взятые, как эта история про свекровь, у жизни напрокат. Про овощной магазин и то неправда: его открыли недавно, и ничего в нем, кроме пресных желтых огурцов и айвового джема, не бывает, абсолютно ничего.








