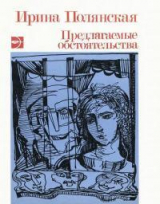
Текст книги "Предлагаемые обстоятельства"
Автор книги: Ирина Полянская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Весьма мучительное свойство, ибо временами Саша, особенно когда ему в чем-то не везло, страдал по-настоящему. То счастливое молодое чувство, с которым он когда-то явился в Москву держать экзамены в университет, развеялось не сразу. Голова у него кружилась от радости, когда он, сидя на лекциях в огромной аудитории или в общежитской комнате, вдруг осознавал: а ведь я добился! Я учусь в лучшем городе земли! И все сам, своими руками, своей головой, своими способностями! Да я горы сверну! Я им всем покажу! Кому всем? Им всем, которые не мы, не свои. Так стоит ли ради них стараться? Именно ради них, чужих, выходит, и стоило, своим этого не надо. Суетное, мелкое чувство, но тогда оно таким не казалось, тогда казалось: завоевание столицы – дело чести.
Александр заканчивал университет. Когда стало известно, что его берут на работу в ту газету, где он проходил практику, товарищи предупредили его: «Смотри, Александр, там такие зубры работают, что ой-ей-ей». – «И-ех, – сказал Саша, – какие там зубры? Вот мой батя – это зубр, точно, после него мне никакое начальство не страшно».
За время своей работы в должности корреспондента Саше привелось иметь дело с разными людьми и бумагами – с простыми и коварными людьми и бумагами-айсбергами, он научился нырять в них с головой, запасшись как следует воздухом, научился вылавливать концы, уходящие в воду; он видел людей, искушенных во лжи, и бесхитростных, научился ставить вопросы и слышать ответы, он укротил свое перо, но тренировал зрение и слух, испытал много сомнений и разочарований, женился на прекрасной девушке, медсестре Тане, растил сына, получил квартиру в Мневниках, стал зубром, но улыбку свою сохранил в неприкосновенности, чего не удалось сделать с сердцем. Таня все чаще капала ему валерьянку.
Поезд уходил ночью. Саша сидел на скамье в зале ожидания и ревниво читал через плечо соседа, мужика в ватнике с ящичком для подледного лова и пешней в чехле, свою родную газету, которую он и без того знал чуть ли не наизусть – был контрольным выпускающим, или, как говорили у них в редакции, «свежей головой» этого номера. Он читал и думал: чего это она ревет, надо подойти и спросить...
Не будем преувеличивать Сашиных достоинств – в другое время он, погруженный в свои мысли, не обратил бы на плачущую женщину внимания, – времени до отхода поезда оставалось немного, а для утешения пассажиров есть милиция, которая обязана искать украденные чемоданы и отбившихся от родителей ребятишек. Окажись на его месте Таня, она бы уж мимо не прошла, обязательно бы вмешалась, такой она человек... В дверь Таниной квартиры можно было постучать в любой час дня и ночи. То ее звали к кому-то колоть инсулин, то советовались насчет лекарства, просили что-то достать. Что ни день – перед Таней разворачивался бесконечный свиток жалоб на здоровье, на нервы, на погоду. Как относилась ко всему этому Таня? Таня относилась стойко. Выслушивала своих соседей она довольно флегматично, не гримасничала, как иные равнодушные люди, изображая повышенный интерес и сострадание, но когда ее звали – шла.
...Итак, настроение у Саши было подходящее в ту минуту, ибо он всеми фибрами души чуял приближающийся к нему с каждой минутой дом родной. Саша постучал костяшками пальцев по скамейке, где сидела плачущая девушка. Она отняла от лица руки и посмотрела на него заплывшими от слез глазами.
– Ну что с тобой стряслось? Вытри нос, девчонка!
Томка порылась в сумочке, но платка не нашла, и была вынуждена принять из рук Саши его платок.
– Почему ревем? – приступил к допросу Саша.
Томка молча отвернулась.
– С женихом, что ли, поссорилась? – дружелюбно продолжал Саша. – Или чемодан из-под лавки увели?
«А поди ты...» – подумала Томка и открыла рот...
Через полчаса рассказ подошел к концу. Саша уже посматривал на часы и навострял уши, предостерегающе подняв палец, когда диктор начинал что-то объявлять.
– Деньги у тебя есть? – спросил он. – Так и думал. Больше трояка не дам, самому нужны. Пойдем, посажу тебя в такси. Все это по части моей жены, она тебе поможет. Давай свою машинку живей, у меня времени в обрез. Приеду, разберусь с тобой, может, что-то придумаем!
...Но все проходит, слава богу, все проходит, все лишнее, тягостное уносит волной, заметает снежком. Сердце, упав в ледяную яму, не может, не умеет вечно биться в холоде и темноте, живое и горячее, оно мало-помалу, миллиметр за миллиметром растапливает вокруг себя снега и, как раненый зверек, начинает пробиваться к теплу, к свету, на волю.
Когда Томка, робея, с запиской в заранее протянутой руке – записку она даже не удосужилась прочитать – позвонила в дверь указанной квартиры, ей открыл молодой парень, по виду старшеклассник, очень похожий на Сашу. Перекатывая за щекой жвачку, он мельком глянул на записку, крикнул: «Мам, тебя» – и втащил Томкины вещи в прихожую.
Из кухни, щурясь, вышла худенькая женщина в брюках и блузе и без улыбки на лице (впрочем, Томка на нее не рассчитывала) спросила:
– Вы ко мне?
– Здравствуйте. Меня прислал ваш муж.
– Зачем? – спокойно спросила Таня.
Томка растерялась. Она почему-то не ожидала этого вопроса.
– Я... не знаю. То есть... вот записка, посмотрите, что он вам пишет.
Таня окинула Томку внимательным взглядом, развернула листок бумаги и прочитала вслух:
– «Проходя по Крымскому мосту, я заметил у перил девушку, которая странным взглядом смотрела на воду, и успел ухватить ее за край платья... Я сказал ей, что в городе живет одна добрая душа, которая приютит ее до моего возвращения».
Из двери комнаты высунулся тот же паренек. Он уже не жевал свою жвачку, а с открытым ртом смотрел на Томку.
Таня аккуратно сложила записку и сказала:
– Добрая душа, это, судя по всему, я? А с моста хотели прыгать вы? Зачем же? Не стесняйтесь, проходите. Миша, пожалуйста, поставь чайник...
Таня, Сашина жена, оказалась очень располагающим к себе человеком, но не только этим можно объяснить то, что Томку прорвало, как, бывало, прорывало ее Пашу. Ей не надо было ничего выдумывать – жизнь ее и без того была достаточно фантастична, во всяком случае с точки зрения Тани, взявшей на себя труд выслушать Томку.
Страдание, которое других людей делает молчаливыми, в Тамаре сказалось совсем иначе – слова посыпались из нее как песок, способный засосать слушателя с головой. Таню уже звали домашние дела, но Томка не умолкала, Таня шла стирать – Томка неотвязно брела за ней в ванную, все рассказывая, рассказывая свое, Таня ложилась спать, Томка с раскладушки продолжала возбужденным шепотом свою повесть, Таня собирала Мишку в школу, Томка находила и в этот момент повод заговорить о том, что случилось с ней. Рассказывала она так легко и охотно, не переставая удивляться самой себе, что и не верилось, будто она по-настоящему страдает. Между тем страдала она ужасно.
Таня тихо про себя дивилась Томкиным приключениям – в ее жизни и в жизни ее самых отважных подруг ничего подобного не случалось, а главное, она не представляла, что можно вот так, перед незнакомым, в сущности, человеком развязывать тесемочки, открывать душу, выбалтывая свою беду. Голова у Тани пошла кругом. На четвертый день ей уже стало казаться, что в квартире поселилось великое множество народу, что за стеной ходит, прихлебывая чай из носика чайника, Паша, плюхается на диван с Пастернаком в руках, с бельевой веревки свисают рубаи Хайяма, которые то и дело начитывала Томка, лишь бы не молчать, что Идалия Полетика в своей спальне диктует через плечо Геккерена анонимку, под окном на катере проплыла Лариса Рейснер, и белогвардейские пули свистели над ее головой, какие-то латинские изречения, как шаровые молнии, то и дело залетали на кухню...
Перед самым приездом Саши Томка замолчала и занялась уборкой квартиры. Она чистила, мыла, скоблила и даже немного ремонтировала это запущенное, затоптанное гостями жилье, она все время искала дела своим рукам, смущая этим Таню. Вместе с Мишкой она сдала гору бутылок из-под боржоми, которые месяцами загромождали балкон.
На пятый день вернулся Саша, оживленный, довольный, нагруженный сумками с домашней провизией, которой его, как он ни отбивался, снабдили дома старики, соскучившиеся по сыну. Как только Сашин взгляд споткнулся о Томку, про которую он как будто забыл, ей показалось, он смутился, и с первой же минуты отгородился от нее шуткой: «Царевна Несмеяна, здравствуй!» Еще не раздевшись, он тут же, в прихожей, принялся пикироваться с Мишкой. «Здорово, батя. Медведя привез?» – «Привез я, Миша, привет от него». – «Что ж так не густо?» – «Да так, сынок, пошел в лес, слышу – ветка хрустнула, вскинул ружьецо, а косолапый мне прямо в лоб: «У тебя, Саныч, лицензия на отстрел меня имеется? Нет? Ну и чеши отседова». – «И ты почесал, батя?» – «Нет, сынок. Я ему говорю: «Я тебя, Потапов, и без лицензии хлопну, у меня в этом лесу блат. Так что гони на бочку отступного, бочонок меда». – «И где же тот бочонок?» – «Потапов говорит: «А у вас не склеится, Александр Петрович, от меда-то? Сбавь, дорогой, обороты. Три литра дам, а бочонка не можно, пчела нынче прижимистая пошла». Сговорились на пяти. Вот, держи бидон, неси его на кухню». Томка стояла, слушала и насильственно улыбалась. Таня посмотрела на нее, повернулась к мужу и открыла рот, чтобы что-то сказать. Но Саша торопливо заключил:
– Сафонов не звонил? Точно? Ах, черт... Телефон не отключали? Ладно, не бурчи, знаем, как ты, сынок, от своих подруг оборону держишь... Ну вот что, барышни, вы тут своими делами занимайтесь, а я своими, мне надо срочно ехать в редакцию...
– Может, разденешься все-таки? – сказал Миша.
– Может, – согласился Саша, стаскивая с себя меховую куртку.
– Может, заодно и поешь? – спросила Таня.
– Может статься, – подтвердил Саша.
– Так, может...
– Стоп! Больше на сегодня Саныч ничего не может. Санычу надо Сафонова достать, а потом ему надо пахать как папе Карло, делать материал...
Не так Томка представляла теперешнюю их встречу.
Вернувшись из редакции поздно вечером, Саша заперся в своей комнате и занялся статьей: трещал на пишущей машинке, прослушивал магнитофонные записи, сделанные им в командировке. Какие-то неспокойные простуженные голоса, перебивая друг друга, кричали в его комнате: «План! Завышенные расценки!.. Да за это надо под суд отдавать!»
Томка ушивала Мише джинсы, перешивала для него куртку из Сашиного плаща, который Таня собралась было выкинуть. Перекусывая нитку, она вдруг застывала, уставившись взглядом в стену, и словно спохватывалась – чего это я тут шью, ведь это же чужой дом и вокруг все чужие люди... Что ж делать, головой, что ли, биться о стену? Пока Саша был в своей командировке, ее не покидала надежда, что, как только он приедет, с ней все сразу уладится. Таня подогревала в ней это чувство. Но Саша, вернувшись, казалось, стал ее избегать. Она-то думала, что, как только он войдет и поставит в прихожей чемоданчик, сразу усядется за телефон и примется устраивать ее дела. Саша действительно, как только приехал из редакции, сел на телефон – он припал к нему, как жаждущий к ручью, но все его разговоры не имели к Томке отношения. Его прохладно-насмешливый взгляд и реплики больно задели ее, ожидавшую бурное сочувствие и немедленное участие в ее судьбе. Видно, все ж таки правильно Паша говорил ей: «В этом железном мире надо быть железным, чтобы выжить» – так говорил плюшевый Паша гуттаперчевой Томке. Прошел день, прошло два, и Томке стало казаться, что Саша обходит ее стороной, отделываясь шутками, ждет не дождется, когда же у нее иссякнет терпение и она соберется и уйдет. Томка была уже близка к этому.
Ночью она потихоньку оделась и выскользнула из дома. Сердце, как компас, повело ее на северо-восток. Томка, словно автомат, зашагала через дворы, пустыри, овраги, через спящий город напролом к тому дому, в котором, уютно свернувшись, спал Паша сладким сном человека, не обремененного никакими заботами. Ведь, если говорить честно, а только так всегда и во всех случаях жизни и следует говорить, Томка простила бы его, еще как бы простила, но Паша в ее прощении явно не нуждался. Томка добралась до знакомой улицы, обошла вокруг дома, в котором еще недавно проживала, посмотрела на темные окна спальни... В самом деле, подумала она, сидя под грибком у детской песочницы, что она может ему дать, куда привести, где усадить, чтобы было удобно, где уложить, чтобы было мягко, где сытно покормить? Такого места у нее не было на земле... Было одно, да туда Пашу ни калачом, ни родным ребенком не заманишь. Томка повернула назад и к рассвету нашла Сашин дом, поднялась на третий этаж и села на ступеньки: ключа у нее не было.
Утром Таня открыла дверь и наткнулась на нее, спящую. Она завела Томку домой, уложила ее спать и взялась за Сашу.
– Ну вот что, статью свою ты успеешь написать, а человек страдает. Обещал помочь – делай. – Она выдернула из-под рук Александра бумажку, в которой он сверял какие-то цифры, и решительно развернула вертящееся немецкое кресло вместе с Сашей от стола.
– Тань, ты что, прическу изменила? – спросил Саша. – Тебе идет.
– Я рассержусь, – предупредила Таня. – Знаешь, будь у меня полстолицы знакомых, я бы давно что-то придумала для Тамары.
Саша расплылся в улыбке.
– И это очень скверно, – промолвил он.
– Что именно?
– Что множество твоих знакомых проживают за пределами столицы, вследствие чего я не могу послать эту раскладушку подальше... Ну ладно, что ты от меня хочешь?
– Для начала сними-ка это с лица. – Саша послушно перестал улыбаться. – Давай серьезно.
– Хорошо, серьезно. Ведь я на тебя рассчитывал...
– Это уж как водится, – подтвердила Таня.
– Я полагал, ты сумеешь ее уговорить вернуться домой, это ведь самый разумный шаг, правильно?
Таня покачала головой.
– Думаешь, я ее не уговаривала? Она сразу же начинает хвататься за чемодан, дескать, если я вам мешаю, то сейчас же уйду. Денег на билет брать не хочет. Домой ей, видишь ли, почему-то нельзя. Не хочет ехать домой ни в какую.
– Ну а я что могу? Прописки нет, жилья нет, стало быть, есть только одна возможность зацепиться – устраиваться по лимиту, но хватит ли ее на это?..
– Хватит! – сказала Томка, подслушивающая под дверью.
Саша саркастически посмотрел на нее, будто привидение возникшую на пороге комнаты.
– Почему же ты прежде этого не сделала? Ты уже давно могла работать.
Томка опустилась на стул, отвернувшись от него. Поза ее выражала полную безнадежность.
– Это не разговор, Саня, – тихо произнесла Таня.
– Согласен, не разговор... Но у меня все-таки в голове не умещается, как можно жить таким образом? Словно птичка божья, порхать по воздуху да чирикать, не касаясь ногами грешной земли, ни за что не отвечать, не учиться, не работать, не воспитывать своего ребенка! – голос Саши набирал силу. Таня за спиной Томки делала ему знаки.
– Я работала, – угрюмо проговорила Томка.
Саша подвинулся к ней вместе с креслом и взял ее за руку.
Теперь Таня могла успокоиться – она видела, что Александр завелся по-настоящему и что теперь она может больше не вмешиваться.
– Работа, – проникновенным голосом сказал Саша, – это когда человек хорошо делает нужное людям дело, а не просто деньги зашибает, как ты. Неужели тебе не было стыдно, когда ты стояла под дверями универсама со своими тряпками? Подожди, не крути головой, я это говорю не для того, чтобы лишний раз упрекнуть тебя, я хочу, чтобы ты поняла, что сама виновата в своих бедах... Пока мы виним другого, то ходим по замкнутому кругу – сегодня в твоих несчастьях виноват Паша, завтра – Саша, послезавтра Маша, но стоит обратить пылающий негодованием взор на себя, как этот круг разомкнется, ты перестанешь быть зависимой от других, твоя беда сделается поправимой. Только все это надо понять раз и навсегда. Жизнь не прощает такого поверхностного к ней отношения, ведь ты же не бабочка, человек, женщина, да еще и мать, и спрос с тебя будет как с человека... И, ради бога, не прими эти слова как нотацию, прими как горькую правду. Мне часто приходится видеть таких, как ты, которые готовы весь мир обвинить в своих невзгодах, ты постарайся взять глубже, вникнуть в саму себя... Таня, я прав?
– Прав, – подтвердила Таня. – Только я хочу добавить, что Тамара вовсе не поверхностный человек, она очень много читала, стихи пишет, хорошие, она мне давала почитать.
Саша отъехал со своим креслом от стола и всплеснул руками.
– Ну что ты будешь делать с этой повальной грамотностью! Просто какое-то социальное бедствие. Как же это я сразу не понял, что ты стихи пишешь. Вот где зарыт большой пес! Вот в чем трагедия. Ладно, если ты не боишься правды, тащи их сюда. Сейчас засучу рукава и поставлю тебе диагноз.
Томка, робея, словно школьный дневник суровому отцу, принесла ему свою замусоленную тетрадь, на которую когда-то с таким уважением смотрели в родном литобъединении. Когда-то и она сама любила эту тетрадь, такие надежды на нее возлагала, такие прекрасные часы проводила над ней... Саша принял тетрадь из ее рук, и ей сразу показалось, что стихи ее начали увядать, скукоживаться, как цветы на морозе. Саша с чувством прочел:
Вот все мое, не пряча, не тая,
простимся здесь, посередине поля,
хочу другой, непостижимой доли, —
обрати внимание, Таня, – непостижимой!..
больная дочь, чужая жизнь моя!
Меня зовут нездешние края, —
Тань, нездешние!..
Так глубока там тишина ночная,
что музыка забудется земная
та-ра-та-та, та-ратататата.
– Лично мне нравится, – сказала Таня.
– Я не раз тебе говорил, – наставительно произнес Саша, – читай, мать, больше, тогда тебе не будет нравиться все подряд... М-м, «ты, лучезарная весна...», «священный голос листьев...», – Саша захлопнул тетрадь. – Ладно, Том, это не хорошо и не плохо, средне. В любом случае поэтом я тебя устроить не могу, но от стихов отговаривать не стану, сама потом почувствуешь, стоит тебе продолжать или нет.
– Нет, не стоит, – удрученно призналась Томка, – ведь я уже больше года не пишу. Иссякло вдохновение, что ли... Не знаю.
– Знаешь, тебе учиться надо.
– Да, ей надо попробовать поступить на журналистику, – поддержала Таня.
Саша рассердился.
– Кой черт на журналистику! Еще чего! Как только безрукий и безмозглый, так сразу и на журналистику. Там таких своих хватает.
– Она не безмозглая и не безрукая, она замечательно шьет! – заступилась Таня.
– Так почему бы тебе не поступить, допустим, в швейный техникум?
Томка пожала плечами.
– Это еще зачем? Я и так неплохо шью.
– Есть еще текстильный институт, – сказала Таня, – у меня там подруга учится, Вера Сайкина.
– Нет, – вздохнула Томка, – институт, конечно, неплохо, но к экзаменам я не успею подготовиться, так все запущено. Рисунок бы я, пожалуй, сдала, а все остальное – нет.
– Одним словом, – подытожил Саша, – вопрос номер один – это твоя внутренняя перестройка, вопрос номер два – твое устройство на работу, С него и начнем, потому что за один день себя не переделаешь. Но ты все равно подумай над собой... С временной работой я помочь тебе попробую. Что, если тебе пойти работать в троллейбусный парк? Помнишь, Тань, я писал о Голованове? Он мне жаловался, что им контролеры нужны, они даже студентов берут. Позвонить?
– Мне все равно, звоните, – сказала Томка.
Саша сел на телефон. Такой, видно, была Томкина судьба, что все важные повороты в ее жизни осуществлялись за считанные часы.
На другой день Томка уже получила работу и направление в общежитие. Женщина из отдела кадров троллейбусного парка, посмотрев в Томкины безжизненные глаза, с уверенностью сказала:
– Контролером потянет.
...Томке повезло. Ее поставили в пару со знаменитостью, с лучшим работником парка и, должно быть, всех парков Москвы, востроносой сгорбленной старушкой Нюшей, прозванной Железной бабусей. Портрет Нюши уже добрый десяток лет желтел под стеклом на Доске почета перед зданием дирекции парка. Старуха горела на работе. Штрафовать безбилетников было ее призванием и, может быть, ее местью нехорошим людям, когда-то повлиявшим на ее жизнь, иначе вряд ли Железная бабуся относилась бы к своим обязанностям с таким остервенением и любовью. В своей рабочей биографии Нюша помнила лишь четыре случая, когда безбилетникам удавалось прорваться сквозь кордон ее бдительности. Нюше было за шестьдесят, но о пенсии она не думала, считая себя нужным государству человеком. Кроме того, парк был ее родным домом. Нюша была одинока. Если бы ей позволили и если б хватило сил, она одна бы контролировала все маршруты Москвы, и делала бы это круглосуточно. Одна беда: пассажиры, обжившие Нюшины маршруты, давно ее знали, еще издали узнавали на остановке ее сгорбленную с очками на носу фигурку, пытающуюся как-то мимикрировать, слиться с окружающими людьми. Нюша время от времени меняла одежду, но, увы, и костюмы не помогали, ее узнавали, и самый отчаянный безбилетник, завидев ее, рвался к кассе. У старухи была мечта: она хотела быть не просто контролером, а фотоконтролером, для чего, призналась она Томке, Нюша посещала занятия фотокружка при Доме культуры. Она копила деньги на фотовспышку. Это был творческий человек, азартный. Нюша поучала Томку, что главное в профессии контролера – вера в правоту своего дела и умение быть незаметной, этаким человеком толпы.
В первый же день Нюша оглядела Томку придирчивым оком и сурово молвила:
– Красоваться тут не принято. Шарф яркий, больше не надевай его. Надо что-то серенькое. Зимой желательно ходить в валенках, двойная польза, ноги не стынут. Носи большую сумку. Они, пассажиры эти, думают, что контролер должен быть налегке, и шарят глазами по рукам первым делом – а у тебя большая сумка, вроде как ты шла с рынка, пучок петрушки можно сверху положить. И ступай сразу на заднюю площадку, там обязательно безбилетник. За двумя зайцами не гонись. Найди одного и с ним работай.
Сама Нюша, классик транспортного контроля, работала как виртуоз. Как говорилось, многие знали ее в лицо, улыбались заранее, протягивая свой билет. Но были и непосвященные, их ожидала расправа. Старуха не суетилась, войдя в троллейбус и окинув пассажиров цепким глазом, она выхватывала безошибочно клиента. С него начинался обход. Клиент весело, молодцевато подпрыгивал вместе с троллейбусом на задней площадке, твердо веря, что если появится контроль, он успеет моментально бросить монетку и оторвать билет, и его не волновало, что по проходу ковыляет какой-то одуванчик, кряхтя под тяжестью сумки с овощами, отыскивая взглядом свободное местечко. И вот перед его самонадеянным носом из смиренной бабули, как из старой пыльной бутылки, вылетал злой джинн, могущественный контролер.
– Ваш билетик? – ласково говорила Нюша, предъявляя свой жетон.
– Чего тебе, бабушка? – добродушно спрашивал, еще ничего не понимая, клиент.
– Билетик, говорю, имеется? – шептала Нюша, вставая во весь свой рост, как кобра, раздувая капюшон перед носом молодого человека.
Тут парень дергался к выходу, но его тесно, как объятия спрута, обвивал государственный контроль.
– Ай нет, сынок, билета? Плати штраф.
– Денег нет, бабуля, – тоже шептал парень, – до стипухи еще пять дней.
– Нет и не надоть, – легко соглашалась Нюша, – поехали, сынок, до милиции, там тебя зарегистрируют, после отдашь.
– Пусти, бабка, – страшным шепотом говорил студент и делал движение, отчего рукав его куртки трещал, – пусти, сказано?!
Нюша громким голосом кричала водителю:
– Данилыч, заднюю дверь не открывай.
– Ну зверь ты, бабка, – шипел студент, – на, на свой рубль.
– Рубиль, милый, не мой, государственный, – доверительно поправляла Нюша, – на тебе квитанцию, езжай, сынок, с богом.
Не трогала Нюша совсем старых людей, входила в положение.
– У нее пенсия небольшая, – кивала она на какую-нибудь старушку, – чего с нее взять?
– У студента тоже стипендия небольшая, – возражала Томка.
– Студент подработать может, а бабуля – нет, ты, Том, не тронь бабуль, господь с ними, пусть едут, старые. – Я их чую, – говорила она Томке про безбилетников, – иной раз такой бывает, уже в возрасте, вальяжный да мордастый, в нутриевой шапке, еще и на переднем сиденье развалится, хам, а купить билет жмотится, думает, пару остановок и так проеду. Я бы с таких десятку брала. И то мало. Штрафовать их легче всего, они шума опасаются. Говорят даже: «Да ну ее, квитанцию», а я нарочно громко отвечаю: – «Нет уж, примите, мне ваш рубиль ни к чему». А бывает, зажмет монетку и держит целую остановку, вроде как сдачи ждет – а ты ему не верь, как будет остановка – штрафуй. С барышнями не церемонься, они на папиросы экономят, знаю я их. Вот ежели какая с ребеночком едет, тут разобраться надо, с ребеночком редко какая билет не возьмет. Главное, патлатых этих проверяй, сплошное жулье без совести. Если что – меня зови, помогу управиться.
Первое время Томка и правда то и дело призывала на помощь Нюшу. Молодые, патлатые пытались с нею заигрывать, шутить, но Томка, боясь поддаться, отчаянно звала Нюшу. Нюша подходила, и требуемый «рубиль» выползал на свет божий из мрака жадного кармана. Но очень скоро Томка освоилась, и уже редко кто отваживался вступить с нею в споры: профессия наложила на ее лицо свой каменный отпечаток. Таким образом, на какой-то период жизни своей Томка, можно сказать, нашла себя, приносила пользу и получала от работы удовлетворение.
Поэтому, я думаю, пора ставить точку. Ибо эта почти водевильная история близится к концу. Мне невольно делается не по себе: такого ли конца заслуживает она, может, другого, более радостного, более обнадеживающего, тем более что Томка наконец как-то устроилась, работает, живет в отдельной комнате в общежитии, снова в свободное время шьет, лишнюю копейку отсылает Антоше, который, пока мать мытарствовала, незаметно подрос, пошел в садик. Он хорошо себя ведет, слушается бабушку, недавно выступал на утреннике в танце гномов – над железной кроватью Томки висит фотография: Тоша в бумажном колпачке со звездами и с маленьким топориком в руках на фоне новогодней елки. Прописка у нее временная, и Нюша советует ей пойти на курсы и выучиться на водителя троллейбуса: и комнату получит на законном основании, и постоянную прописку со временем. Но Томка отказывается, в парке ее уважают и неоднократно премировали, она привыкла к своей работе, привыкла к Нюше.
У Саши с Таней она бывает редко, чаще звонит. С некоторых пор Томка не может понять, что происходит с Сашей, когда он видит ее или слышит ее голос по телефону. Если Томка звонит Сомовым домой, Саша, после беглых вопросов о житье-бытье норовит тут же спихнуть жене телефонную трубку с голосом Томки, рвущимся от благодарного чувства, или, на худой конец, Мише, и все со своими шуточками-прибауточками, так ни разу и не дав распрямиться Томкиной благодарности во весь ее огромный рост. А когда Томка, сговорившись с Таней, приходит в воскресенье в гости, лицо его делается красным и растерянным, в наигранном страхе Саша машет руками на ее торт, мол, им всем мучного нельзя, даже худенькой Тане, говорит он, с упреком глядя на Мишку, уже подцепившего торт за веревочку пальцем. И все же есть в этом преувеличенном страхе что-то неподдельное, если вглядеться, поскольку Саша при виде Томки заметно краснеет и избегает встречаться с ней взглядом. «Что это с Сашей, – радостно-опасливо думает Томка, рассеянно беседуя с Таней, – уж не влюбился ли он в меня, часом?»
Нет, Саша не влюбился. Если б Тамара, которая теперь всем подружкам из своего парка рассказывает о том, что было время, когда жизнь ей казалась темным ящиком, но вот явился человек, светлый, как луч, и согрел ее измученную душу, могла бы только предположить, что мучает Сашу, вот бы она удивилась... Потому что при виде Тамары Саша испытывает не что иное, как муки совести, стыд и неловкость, как человек, который постарался отделаться от другого человека, бросившегося к нему за помощью. Но разве не он в трудную минуту явился к ней на помощь, спросила бы Томка. Про Таню, которая возилась с ней, выслушивала ее и утешала, Томка как-то не помнила, точно Таня была простым приложением к прекрасному человеку Саше. Молчаливо, скромно осуществляла Таня свою помощь, и ее доброта осталась не вполне оцененной Томкой, впрочем, даже самой Тане и в голову не приходило, что она что-то хорошее сделала для Томки: она тоже искренне полагает, что главный у них – Саня. Но Саша, сам Саша видит и знает больше Тани, он знает себя как облупленного, и именно это знание, то есть совесть, заставляет его отводить от Томки глаза. Только случайность помогла, думает Саша, остаться мне в этой ситуации с Тамарой порядочным человеком. Еще он знает, что, не растеряйся Томка тогда в первую минуту, она и без него бы вполне могла устроиться в тот же парк, выучиться на водителя. Это и Томка понимает, верно, могла бы, но дело в том, что водитель – это профессия, она ко многому обязывает, она поглощала бы слишком много времени и сил, тогда как Томку устраивает ее теперешнее подвешенное состояние, она сейчас вроде как абитуриентка, временно работает в троллейбусном парке, и все вокруг это понимают: вот подготовится, набьет себе руку девчонка, вызубрит учебники – и поступит в текстильный. Тамара решила стать модельером, кажется, уж это дело она доведет до конца, и институт упадет ей в руки, как переспевшая груша. А что бы она делала без Саши, кто бы взял ее на такую работу, кто б дал общежитие?
Может, Саша все это и сознает, но ему от этого не легче. Он не обольщается в самом себе. На какие-то порывы доброты он еще способен, но только на порывы, поскольку в них участвует лишь самая доступная, верхняя часть души, а на глубине ее есть такое, что пусть про это лучше никто не знает. Он ведь что? Он был простым посредником между Томкой и Головановым, о котором когда-то писал очерк ко Дню работников коммунального хозяйства. Он хорошо помнит свою неуверенность и даже страх, когда разговаривал с Головановым по телефону, – ему оставалось лишь рассчитывать на добрые чувства своего собеседника и его уважение к прессе. Но скажи Голованов тогда ему: «Извините, Александр Петрович, ничем не могу помочь», – с каким бы, наверное, нетерпением, переходящим в ярость, начал бы Саша относиться к Томке, если бы она не додумалась вовремя смотать удочки... Он отыскал бы в ней тысячу недостатков, обвинил бы ее в распущенности, лени, он бы не знал, как избавиться от нее, на чьи плечи переложить заботу о ней. Так что незачем преувеличивать роль личности Саши в истории Томки, как бы ни была соблазнительна мысль об извечной человеческой взаимовыручке: все это есть на земле, но, если человек сам до чего-то не додумается, ему никто не поможет, ничья естественная и глубокая самоотверженность. Человеку можно только протянуть руку, помочь осмотреться, но не вечно же тащить его за уши по тернистому пути жизни. И когда Томка говорит: «Что бы я без вас (уголком сознания подразумевая и Таню) делала, дорогие мои!» – Саша опускает глаза, и кусок торта застревает у него в горле. Ведь ему все-таки хочется быть, а не только казаться, цельным человеком, таким, как его отец, который всегда поступает так, как велит душа, а не какие-то привходящие соображения. Саша видит в Томке самого себя, издерганного работой и непростыми отношениями со многими людьми, уступающего там, где нельзя уступать, и отстаивающего изо всех сил то, за что можно не бороться. Но что с человека взять, в конце концов? Только то, что в нем заложено, что он готов оторвать от себя – время, силы, душевное участие, не больше. Копнись тогда Томка в Сашину душу поглубже, может, как он сам учил ее, может, она бы обнаружила, что за плодородным слоем лежат километры глины? Но не стоит производить раскопки в другом, когда перед тобой лежит свое невозделанное поле, спасибо Саше и за то, что этот слой в нем есть, за него и уцепилась, из него и выросло хорошее чувство Томки к человеку и надежда на него.








