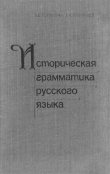Текст книги "Свои"
Автор книги: Инга Сухоцкая
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Главного героя, разумеется, со всех сторон положительным сделали, но образы добрых и честных товарищей, разных плутов и мошенников, умных девиц и глупых кокеток интересовали заводчан куда больше. Так что на долю «примерного комсомольца и передовика производства» только два эпизода и выпало. Один, – когда он, робкий и неуверенный, впервые входя в цех, даже имени своего громко и четко произнести не мог, и второй, – когда он, уже «сознательный» и смелый, перед рабочими-новичками с наставительной речью выступил. Остальное, к удовольствию участников, было отдано во власть мелким интриганам и верным друзьям.
Наконец, и текст был готов, и актеры назначены, и время первой читки определено. Но с первых же минут оказалось, что прочитать текст грамотно и чисто, с выражением, учетом пауз и реплик в сторону, могут далеко не все. И тут некоторые из «актеров» о Полине Васильевне вспомнили, и пошли ее уговаривать, чтобы текст в речь помогла «перевести».
Поля сначала отказывалась, ссылаясь на семейные обстоятельства. Что и говорить, обстоятельства были самые уважительные.
Где-то через полгода после смерти Зинаиды Ивановны, несмотря на голод, на страхи и противоречия новой эпохи, несмотря на еще не утихшую боль, Петя с Розочкой, наконец, поженились. Все, как предписывала новая власть, – в ЗАГСе и при свидетелях, но тихо без церемоний. Да и что было праздновать? В людской их давно уже «поженили». С церковными таинствами папа Васенька помог, но эту часть жизни молодые предпочли оставить в сугубой тайне. А скоро Розочка одного за другим Степочку с Семочкой родила.
Степка – Степан Петрович – в Розу пошел, вылитый цыганенок: волос черный, кудрявый, глаза – угольки, щеки румяные, губы что вишни алые. Того и гляди гитару в руки возьмет и в пляс пустится. А он и рос удивительно музыкальным, пластичным, и сам чувствовал внимание окружающих, и спешил их своими способностями удивить и обрадовать.
Зато Семен – Семен Петрович – кряжеват, неспешен был и шаг тяжел, словом, можаевской породы.
Но оба души друг в друге не чаяли: куда один, туда другой, одного позовешь, вдвоем идут, одному кусок дашь, поровну делят.
А уж какая из Розочки мать! Ни спать, ни есть ей не надобно, только бы за сыночками смотреть, их успехам радоваться.
Вот и спешила Поля с завода домой, Розочке на помощь, да и все Можаевы спешили.
Но не только из-за Семы со Степой противилась Поля лестному предложению «актеров». Сама идея вовлечения ее в театральную суматоху вызывала в ней смутную неприязнь. А вот работа над текстом, – другое дело. Разве это не счастливая возможность поговорить о самой речи, разбирая каждую фразу, каждое слово, знак, прочитывая слова как музыку, и сообщая им свои интонации, выискивая параллели и ключевые моменты? И Поля чувствовала близость к тому, что могло бы захватить ее так же, как медицина когда-то захватила Аришу, музыка – Женю, биология – папу Васеньку. Словом, Поля согласилась, хотя и с оговоркой, что все ее участие ограничится работой над речью, поскольку сам театр представлялся ей явлением непростым и сомнительным.
Скоро помимо нее к актерам присоединились новоявленные «художники», «музыканты», «рабочие сцены». С ними и обсуждения стали горячее, и каждая мелочь могла стать предметом таких глобальных рассуждений, до которых и самые большие умы не доходили.
А с первыми же прогонами появилась боязнь провала, мучения «получится – не получится». И чем больше были эти волнения, тем старательнее работали все участники. И чем старательнее они работали, тем больше разгорались страсти. В конце концов, напряжение возросло настолько, что единственной возможностью развязаться с ним мог быть только выход к зрителю: удачный, неудачный, какой-нибудь, – но оставаться дальше в столь воспаленном, взвинченном состоянии, оставаясь при этом рабочими металлургического завода, было уже невозможно.
И однажды представление состоялось.
Первые секунды Поля сидела как на иголках: от каждой запинки, съеденной паузы, проглоченной гласной у нее темнело перед глазами и становилось душно. Кто-то из сидящих рядом, заметив ее волнение, суетливо озаботился все ли у нее хорошо, не нужна ли помощь, чем помешал вслушиваться, так что оставалось только смотреть, отказавшись от волнений. И Поля смирилась с нечаянным бессилием, – она уже сделала все что могла, и теперь все будет как будет. И ощутив себя посторонним зрителем, получила неожиданное удовольствие, так что даже смутилась: не слишком ли она пристрастна к своим заводчанам.
Но представление и в правду прошло с успехом. О нем даже написали, и не только в заводской малотиражке, но и в местных газетах, и даже в краевых. Так что новоиспеченным актерам пришлось еще не раз выходить на сцену и встречаться с актерами и режиссерами других, городских и самодеятельных, театров, отвечать на вопросы журналистов и восторженной публики. На одной из таких встреч Поля познакомилась с Иваном Никифоровичем, преподавателем Саратовского театрального училища, которого обожала вся творческая молодежь города. Однако уважали этого седогривого льва почти все горожане.
Уважали за то, что несмотря на запреты цензуры, он не скрывал своей любви к произведениям писателя Корсакова, некогда местной знаменитости, о которой с теплом отзывался сам Чехов, в Москву его звал, но тот в любимом Саратове оставался, чем все горожане очень гордились. Теперь же книги Корсакова были изъяты из публичных библиотек, и даже имя его предпочитали не упоминать. Только не Иван Никифорович. Этот запросто мог взять и наизусть прочитать на публике что-нибудь из неодобряемого писателя, какой-нибудь рассказ, отрывок, монолог.
Кроме того, Иван Никифорович состоял в очень хорошем приятельстве с тем самым поэтом Стриковым, сохранявшим дореволюционный облик, который выступал в свое время в клубе и которого бог знает почему не трогала советская власть. Где бы они ни появлялись, в какой бы разговор ни вступали, – всегда им сопутствовало особое трепетное уважение. Трепетное настолько, что стоило какому-нибудь незадачливому балагуру посмеяться над этой колоритной парочкой – маленьким Стриковым с розовой лысинкой и высоким Иваном Никифоровичем с великолепной шевелюрой, – шутника зашикивали, а иной раз аккуратно выталкивали подальше от своих любимчиков, чтобы можно было полностью сосредоточиться на рассуждениях этих двоих. И надо сказать, рассуждения эти сопровождались такой ясностью, отточенностью мысли, добрым юмором, что внимать им, к немалому огорчению беспомощных «оппонентов», становилось для слушателей истинным блаженством. Мало того, оба этих почтенных господина, снискавших на редкость благополучную по тем временам жизнь, находили и время, и силы интересоваться творчеством молодых дарований. Кстати, именно благодаря им Саратов узнал в свое время Костю Чащина.
И даже самые строгие идеологи спускали Ивану Никифоровичу все его художества, не задаваясь лишними вопросами. После нескольких его киноработ, где он сыграл красных профессоров, после того, как эти работы были отмечены наверху самым положительным образом, – какие могли быть вопросы?
И вот этот-то Иван Никифорович однажды сам представился Полине, о которой узнал от заводских «актеров». Разговор по началу несколько напугал Полину. Неприятно ей было, что ее вот так, напрямую «привязывают» к театру, не понравилось, что чуть ли ни с первых слов, почтенный Иван Никифорович попросил прочитать что-нибудь из любимого. Но отказывать этому «властителю и дум, и душ» было бы дурным ломанием, и она, смирившись, прочитала первое что пришло в голову – что-то из детского, короткое и простое, после чего выразила надежду, что на этом ее мучения закончатся.
– Думаю, они только начинаются, – возразил Иван Никифорович.
Позже он еще несколько раз заходил на завод, беседовал с другими «актерами» и с теми, «кому интересно». Но уже скоро стало очевидно, что его профессиональный взгляд нацелился именно на Полю. И вскоре ощущение это подтвердилось, – на имя заводского правления пришла рекомендация направить Можаеву Полину Васильевну на учебу в театральное училище[70].
И правление согласилось. Возможно, с его высокой стороны это была дань моде или авторитету самого Ивана Никифоровича. В любом случае, Поля чувствовала себя отвратительно как никогда. Делать свой выбор, пусть и странный, можно сказать, случайный, и следовать ему еще куда ни шло: сам выбрал – сам живи. Но заниматься тем, к чему тебя обязывают вопреки желанию, – вот что действительно возмущало Полю. Она и к начальству ходила с просьбой оставить все как есть, и к седогривому Ивану Никифоровичу в Театральное – отговорить его пыталась, потому что ни желания, ни артистизма в себе не чувствовала.
Только он на своем стоял, рассказывал, что из людей, артистичных по натуре, не всегда получаются хорошие актеры. Слишком они собой дорожат, собственными манерами, жестами, интонациями, словом, «себя в искусстве любят». А вот люди неуверенные, слишком требовательные к себе нередко становятся истинной опорой театрального искусства.
О легендарной Ермоловой рассказывал, которую Станиславский «эпохой русского театра» называл, и которая вопреки, а может, благодаря своей неуверенности, проработав над ролью шесть лет, такую Жанну дАрк зрителю явила, что воспоминания о ней вошли в сокровищницу театрального искусства. Такая вот неуверенность! Приводил в пример Шаляпина, который даже к врачу обращался, чтобы страх сцены перебороть. Но историю с Шаляпиным Поля и так хорошо знала, а вот про Ермолову впервые слышала… И не столько рассказы Ивана Никифоровича, сколько книги о ней, о ее творчестве, воспоминания современников (сама Мария Николаевна никаких мемуаров не оставила) глубоко запали в робкую душу Поли.
И однажды по-можаевски тяжеловатым шагом, она вошла в двери Театрального училища.
Был ли это неуверенный шаг к своему призванию или послушное следование обстоятельствам, – этот вопрос долго не давал ей покоя. Казалось, все было сделано, чтобы стать обычным рабочим человеком, самым что ни на есть честным «пролетарием»: ФЗУ, завод, – что еще надо? Но именно этот путь и привел ее на поприще, которое никогда и никак не привходило в мир ее самых смелых и отвлеченных фантазий. И причина такого разворота – Зинаида Ивановна, ее любовь к русскому языку, которую она передала Поле.
И ох как сейчас не хватало ей бабушки! Вот, с кем можно было обсудить все на свете, ответить на любые вопросы: зачем людям театр? чем актерское мастерство отличается от лицемерия? есть ли разница между актером и лицедеем? что в актере от него лично, а что от его героев? и главное, – зачем, ради чего, ради кого лично ей, Поле, выходить на сцену?
Но не было уже Зинаиды Ивановны, чьим мыслям и чувствам она доверяла больше, чем себе. Некому было помочь.
И Поля, надеясь найти подсказки, слушала преподавателей, читала умные книги.
Театр как сила, соединяющая в себе все искусства, и актеры как миссионеры, – эта чеховская правда звучала слишком патетично, выспренно для обычной заводской девчонки.
«Без театра нет нации», – несомненно, Островский[71] понимал в этом вопросе поболее многих, но Поле нужно было понимание, соразмерное с нею, с ее человеческим, и не более того, сознанием.
Поля вспоминала заводскую постановку. Ведь совершенно самодельная затея была. А скольких людей привлекла: и тех, кто хотел взойти на сцену, и тех, кто готов был оформлять, музыкально, художественно, да хоть как! А сколько споров порождала, сколько живого обсуждения (вот, куда пригласить бы школьную учительницу по обществоведению)! А сколько зрителей собрала! И не только тех, кто был увлечен всей этой шумихой или театром, но и тех, кто в другой раз и вовсе в театр бы не пошел, а тут смотрели, удивлялись, переживали, – сначала за знакомых, соседей, коллег, потом и за героев, добряков и прохвостов. Чего они ждали? Чему сочувствовали?
Поля искала ответов везде, ненароком выспрашивала у разных знакомых, но те, в большинстве своем, говорили что-то невнятное, а то и вовсе отмахивались.
Неожиданно самым значимым оказался разговор с папой Васенькой.
Началось с обсуждения гонений, которые церковь, по словам учебников, на театр устраивала, но после долгих рассуждений папа Васенька до святителя Дмитрия Ростовского дошел, который и сценарии писал, и над постановками работал. С этого-то момента Поля и почувствовала себя на пути к правильным ответам на свои вопросы. И уже сами ее рассуждения стали спокойнее, а порой она оставляла их на потом, чтобы вернуться к ним, как возвращаются к любимому занятию, к любимой книге…
И несмотря на голод и бедность, неуверенность и робость, – вдохновение юности и мудрость преподавателей помогали ей постигать искусство, полное духовных рисков, возлагавшее огромную ответственность за написанное писателями и поэтами, происходящее на сцене и в душе зрителей. Не искусство – служение. К такому пониманию театра пришла Поля к окончанию училища. В таком понимании не просто приняла, – полюбила идею театра, и была направлена на службу в тот самый, открытый в 1931 году Немгостеатр, где одновременно работали русская и немецкая труппы.
Глава 10. Сашка Шефер
Куда на сей раз запропастился Сашка, – вслух того не обсуждали. По началу даже не взволновался никто, всех уже к своим странствиям приучил. Даже молоденький лопоухий участковый, вынужденный навестить Сашкино семейство по запросу с места работы, никакой обеспокоенности не выказал, – привычно достал планшет, разложил бумаги, сопя и вздыхая составил обычные в таких случаях документы и только уходя виновато раскраснелся, не зная что сказать. Он ведь если и не давал ходу Сашкиным безобразиям, то только из уважения к его матери, в одиночку поднимавшей трех сыновей. Оттого и упрекать ее язык не поворачивался, и хорошего сказать было нечего.
Отец их еще в 1905-ом упокоился. Старший сын, Федька, степенный, основательный, сдержанный, в отца пошел. Младший, Яшка, хоть и сердцем был мягок, но порядок тоже сызмальства понимал. А вот Сашка… всем бы хорош, – да жизнь в нем порывно, вспышками текла. То загорится, увлечется чем – хоть книжкой какой, хоть наукой школьной – поесть-поспать забывает. А то остынет, – не дочитает, бросит, заскучает, и на все вопросы один ответ: неправда там, а я правды хочу. Уж и годы прошли, и старшего Федьку ростом перегнал, а умом как дитя остался: никак не урезонится, – правды ищет.
Откуда мыслей-то таких набрался? То ли листовок начитался, то ли мальцом заезжих революционеров наслушался… Те тоже много чего говорили: говорили, что это царизм всех в неправде держал, чтобы хорошим трудовым людям хуже жилось, а плохие бы богатели; говорили, что стоит его убрать, этот царизм, – и люди по справедливости заживут. Сашке даже верилось, хотелось верить, потому что он всем сердцем за честных людей был, за таких как отец с матерью, как Федька с Яшкой.
Потом и революция пришла, и всю-то жизнь переиначила, а только правды, как ее Сашка чувствовал, не прибавилось. Если что и изменилось, – по верхам только, по названиям, а суть прежней осталась. Ну объявили колонки[72] Республикой немцев Поволжья, на словах даже права этой республике дали, даже старый Покровск под новую столицу, под город Энгельс, определили, издательство свое открыть разрешили, и родного, немецкого как будто действительно больше стало – в школах, газетах, по радио. А на деле – всё как у всех: те же пролеткульт, нищета, голод. Разве борьба с религией тише, без ажитации шла. Потом НЭП: кооперативы, артели, тресты. И те же повинности, репрессии, страх наказания. Словом, ничего похожего на правду, о которой говорили революционеры и о которой он так мечтал!
Впрочем, о чем именно мечтал Сашка, о какой такой правде, – этого он и сам объяснить бы не смог. Только порой так ему противно на душе становилось, что пока не выпьет утешительно-горячительного – не полегчает. А чтобы мать не расстраивать, успокоения вне дома искал: как нахлынет грусть-уныние, так на два-три дня исчезал куда-то. А куда – бог знает.
В армии присмирел будто. То ли суровый мужской быт так подействовал, то ли дисциплина военная. Особенно комиссара одного уважал, которого солдатики Соколиком между собой прозвали, хотя фамилия ему Синичкин была. Вот кто не боялся напрямую говорить, от острых вопросов не уходил, и очевидно было, – не для правил жил человек, а для правды своей, внутренней. Оттого и недавние мальчишки, на него глядя, взрослей, собранней становились.
Да и времени колобродить не было: с утра до вечера занятия, тренировки, учения разные. Кстати, и учили не так, как в школе, не у доски да за партами, а прямо за делом. А Сашке так даже доходчивей было.
И ведь не только о занятиях и политграмоте командование пеклось. Разные коллективы творческие с выступлениями в часть приглашали, лекции интересные проводили.
Колхозно-совхозный театр со скетчами приезжал. Артисты молодые, смелые, на синеблузников[73] похожи, но те и вовсе простованы, а эти поинтереснее были, к тому же ни задиристых зрителей, ни вопросов с подвохами не боялись, обо всем запросто, искренне говорили. А могли тут же неожиданное что-то выдать. И так это Сашке по нраву пришлось, но…
В части его уже пытались в самодеятельность записать. Лицо больно подходящее: черты крупные, правильные, мужественные, – настоящий образчик новой советской красоты. Только у лица этого никакой охоты «представляться» не обнаружилось. Настроение, эмоции, чувства – это он на лету схватывал, а вот с текстами работать напрочь отказывался. Тексты-то все на русском, а ему – немецкий родной. Русский он, конечно, тоже понимал, куда ж в колонках без этого? Но одно дело двумя-тремя словами с соседями перекинуться, другое, – литература эта многословная, слова эти многозвучные, звуки многоликие, и все в единое месиво слито, поскрипывает неверными согласными, подвывает заунывными гласными. Вот и сиди, с точками-запяточками разбирайся, да еще наизусть учи… а зачем? чтобы раз прочесть да забыть? будто своими словами нельзя… а если нельзя, – так на что ему это?
И дабы лишний раз ни с кем не объясняться, рядовой Шефер потихоньку-потихоньку в сторону самодеятельных «художников» маневрировал. Хитрости разные у них перенимал, в разговоры вслушивался, – и все больше рисованием увлекался.
За учебой и творчеством, службой и фантазиями не заметил, как время пролетело. И благодарностей несколько заслужил, и предложение остаться в рядах РККА[74] получил. Но не было в нем военной косточки. Он ведь с дисциплиной если и смирился, то временно. А чтобы всю жизнь вот так, по команде, по расписанию жить, – для этого ему уважительная причина нужна была, а ее-то и не было.
Вернулся, понятное дело, завидным женихом. Тут же невеста сыскалась, свадьбу сыграли, молодым в общежительном бараке при МТС[75] комнату дали. И так все быстро и спешно сладилось, что по деревне слухи нехорошие поползли. Поползли, да тут же растаяли, потому что и расстроилось все тоже быстро.
Жениться-то Сашка женился, к колхозу приписался (и даже паспорт, вопреки новым правилам, при себе умудрился оставить), трактористом устроился, тут же что-то выполнил-перевыполнил, за что был отмечен грамотой. И вот уж в правлении им не нахвалятся, и жена не нарадуется: экого орла отхватила! умелый, работящий, о жизни как городской рассуждает! в кино по выходным водит!
Но уже скоро поняла, что орел-то этот и мух не ловит! А как в кино соберутся, – и вовсе тетеря глухая: в зале усядется, на экран уставится, – и ждет. И ни прически жениной, ни платочка нового не заметит, разговора простенького поддержать не желает, а шепнешь что на ушко, – «не мешай» шипит. А чего мешать-то? фильм еще и не начинался.
Да еще малевания его… Мать-то на них сквозь пальцы смотрела, – поблажит да забудет, – а вот жена терпеть не хотела. На что это мужику забавы детские? И ладно бы красивое что, цветы, виды разные, – а то ведь иной раз не пойми что выводит: то ведро старое, а то и вовсе углы да пятна.
В доме у молодых скандал за скандалом. Сашка опять выпивать начал. Уж на что жена женщина напористая была, а только того и добилась, чтобы его зарплату и паек ей выдавали, потому как мужик у нее совсем пропащий стал: где какую копеечку раздобудет, – все на выпивку, кино да краски спускает. Сашка в ответ разобиделся, к дому совсем охладел: как у людей получка, дружков-собутыльничков найдет, с ними и загуляет. А там и дружки вернутся, и неделя пройдет, и другая, – а его нет и нет. Какая жена тут выдержит? Ну и развелись.
Сашка в родительский дом переехал. Мать его хоть и сыном недовольна была, и мягкосердечием не отличалась, да ведь мать – она мать и есть, сына любым примет: и выругает, и как только не обзовет, а из дому не выгонит, да еще до последнего надеяться на что-то будет.
Для Сашкиной матери последней надеждой местный немецкий самодеятельный театр стал. Уж каким ветром Сашку туда занесло поди знай, а только оказалось, что немецкий и русский языки там на равных живут и процветают. И на том, и на другом пьесы ставятся, концерты устраиваются, а иногда в одном представлении оба языка «участвуют», к тому же дословного знания текста никто не спрашивал. Вот и стало Сашку затягивать.
В первое время как завороженный ходил, все восхищался, рассказывал как хитро на сцене получается, что и ложь сразу видна, и глупость во всем бессилии, и правда всегда побеждает; и пусть она придуманная, эта правда, но ведь и зритель эту условность понимает, а вот же идет. И все время что-то зарисовывал, записывал, а после работы прямиком к новым знакомым бежал.
Тут уж не до скитаний и пьянок стало. На работе поусердствовать пришлось, чтобы прежние прегрешения искупить, – но уж так Сашка постарался, что снова в передовики выбился. В театре-то строго к своим участникам относились, требовали, чтоб никаких задолженностей – ни по трудодням, ни по повинностям, ни по нормам – за ними не водилось. Человеку на сцену выходить, а он, допустим, лодырь, паразит и злостный неплательщик, – на что тут смотреть? Вот и пришлось Сашке подтягиваться. Зато у матери надежда появилась, что хоть через сомнительную эту забаву сын-шалопай, наконец, в разум войдет. Сама-то она вертопрахов-комедиантов никогда не любила.
Зато в театре Сашку приняли сразу и безоговорочно. Коллеги-художники о своем рассуждали: способности, мол, у парня, глаз художника. Режиссеры с актерами свое видели: лицо, говорили, как с плаката, породистое, мужественное, стать «советская». К тому же происхождения подходящего, крестьянского, в РККА служил. Чем не герой нового мира, чем не актер нового театра?
Но и тут ничего хорошего не вышло. У героя-то этого с дисциплиной пиши пропало, а театр – дело хоть и творческое, но порядка, внутреннего, душевного, почище военного требует. Да ведь у Сашки и трезвого все по наитию, а как выпьет, – и вовсе беда. Ему бы с его характером, раз уж от змея однажды вырвался, – так и вовсе прежних соблазнов избегать. А он – то «поздравится», то отметится.
Полюбится ему роль, – так отыграет, что руководство театра благодарность в колхозное правление выписывает, а то за прогулы от репетиций отстраняет: что за искусство с пьяных глаз. То он спектакль так оформит – из Саратова, Камышина, Самары посмотреть приезжают! А то драку устроит, потом в участке отсиживается, – как на такого полагаться можно? Из жалости в рабочие сцены записали, но и тут ему веры нет. Товарища в помощь приставляли, чтоб за Сашкой приглядывал и по возможности от пристрастия алкогольного удерживал. И хорошо, ежели они с тем товарищем дело делали, а не дружбу обмывали. А то ведь по-всякому бывало.
Однажды, в одном Доме культуры дело было. Сидели Сашка с «помощником» в рабочей люльке чуть ниже колосников, сидели сцену оформляли, переругивались, конечно. Как без этого? Вечером вместе пили, теперь вот вместе страдали… И вдруг снизу, из затененного зала – девичий голос:
– Что же вы?.. Это ведь сцена! Алтарь искусства! А вы ругаетесь! – и слова пышные, патетические, а голос спокойный, будничный. Так матушка-Шефер мальчишек одернуть могла: уж и за стол сели, а руки, поди, не мыли…
– Это кто такой умный? – недовольно развернулся Сашка в зал, и нацелив на девушку прожектор, включил его на всю мощь, так что та зажмурилась до слез, и открыла глаза, лишь почувствовав, что прожектор выключен.
– Что за клоп? – снасмешничал помощник.
Оба расхохотались, но больше не матерились; однако почувствовав себя не удел, бросили работу и начали спускаться со своих высот, чтобы покинуть недружелюбный ДК. А на помощь несчастной, включив в зале свет, спешил горделиво сияющий сторож:
– Сцена, сами видите, небольшая. Зато при ней помещения разные есть. Сейчас, сейчас. Сами увидите!
И тут же пояснил для рабочих (те медленным вальяжным шагом плыли между рядов на выход, угрожающе надвигаясь на девушку и словно не замечая ее):
– Актеры приехали… Завтра здесь выступать будут!
– Это где тут актеры? – высматривал помощник что-то на полу. – Слышь, Сашка, от земли не видно, а уже актеры!
– Ваша правда, не актеры. Учащиеся театрального училища, – уточнила девушка.
– Во-во! завтра всем детсадом приедут. Будут учить, как на горшок садиться, – хмуро отмахнулся Сашка. Видал он таких учителей: жужжат-жужжат, одного понять не могут, – умом-то он и сам крепок, а что с душой делать не знает, куда тоску свою деть не придумает. А им что, им бы укусить побольнее, – вот и летят по его душу спасители всякие: из МТС, из комячейки[76], из правления, из театра, да и такие вот, случайные попадаются. И по-прежнему не замечая присутствия барышни, напоследок осведомился у сторожа: «Колодец у вас где? Горло бы промочить».
Позже, когда учащиеся эти самые приехали, – оказалось, что сцена не подготовлена. К счастью, ребята-студенты энергичные, толковые были, своими силами справились. Только само представление подзадержалось, но зрители не обиделись. Уж очень им по душе все пришлось. А Сашку вскоре после той истории из театра исключили, хотя «после» не значит «из-за», – причин и так накопилось достаточно.
Вот такая комедия ошибок получилась! Недобрая, нехорошая, – сплошные недоразумения, ссоры, да пьянки с драками, и один-единственный «автор» всех этих непотребств, – сам Сашка Шефер, ревностный искатель правды.
И как остался этот искатель без театра, так совсем дурным сделался. Снова пить, дебоширить, прогуливать начал, – в доме у Шеферов будто горе поселилось. Мать чуть не каждый вечер плачет, Яшка людям боится в глаза глядеть. Любил он Сашку-то, а теперь стыдиться брата приходилось.
Вот и не выдержал Федька старшой. Однажды подкараулил непутевого братца во дворе, в сарай его завел да душевный разговор ему учинил. Уж такой душевный, что Яшка малой, как чувствовал, в сарай как на пожар бросился, а увидев Федьку, бледного от ярости, со сжатыми кулаками, так на него всем тельцем и кинулся: не забей братца Сашку! Федька тут же на пенек-колоду и опустился да младшенького успокоил: такого забьешь! Но попросил выйти, дескать, разговор у них не окончен. А что за разговор был, – этого Яшка уже не слышал, вышел послушно, но тут же у двери ждать пристроился, чтобы на первый же шум вбежать. Однако никто более не шумел. Взволнованно, редкими всплесками клокотал Федька, молчал в ответ Сашка. А вскоре после того разговора как раз и пропал.
Уж как мать по нем убивалась! Яшка и вовсе сиротой глядел, будто разом двух братьев лишился. И кто знает, сколько бы это длилось, да в правлении ясности требовали. Везде нормы, повинности, – как тут что учитывать, если человек то ли есть, то ли нет, то ли работает, то ли на шее у матери с братьями болтается.
Мать с сыновьями где только Сашку не искали, по всем колонкам метались, по всему Покровску-Энгельсу прошлись, и все без толку: никто ничего не знает, никто ничего не ведает. Многие, правда, подозревали, что парня уже где надо в сознательного гражданина «перековывают». Указы-то новые о паспортах да прописках ввели, да ведь человека одним указом не переделаешь. Но подозрения эти никем не проверялись, так что, может, и зря наговаривали. А вот матери от всей этой неопределенности самое страшное мерещилось. Да еще колхоз со своими вопросами наседал, потому и решилась, наконец, открыто на поиски сына пуститься. И вот, поставила она себе завтра в милицию идти, заявление писать, где черным по белому будет сказано, что пропал сын ее, Сашка Шефер, – а сегодня… письмо от него пришло.
Писал он из того города, рядом с которым службу когда-то нес. Писал, что в художественный техникум поступил, а на жизнь честным трудом зарабатывает, – на стройке трудится. И все спасибо политруку Соколику-Синичкину. Мать аж расплакалась от обиды, – чего она только не передумала, сколько ночей не спала, сколько слез пролила, и на тебе: извини, не волнуйся, спасибо политруку. То есть знал, шельмец, что мать места себе не находит, но молчал и продолжал где-то шляться, а теперь как ни в чем не бывало объявился. И сколько писем потом ни писал ей Сашка, сколько подарочков ни отправлял, – умягчить материнского сердца не мог.
Уж он и в Саратов перебрался, и техникум Саратовский окончил, и в театре оформителем и актером подрабатывать начал, в выставках как молодой художник участвовал, – а она все молчит: и винить не винит, и прощать не прощает. Да ведь мать – она мать и есть, даже если сложно ей с сыном напрямки объясниться, все-то прислушивается, присматривается, как там у него что. Видела, как Яшка с Федькой в местный театр зачастили (он к тому времени в Немгостеатр превратился), как вырезки да афиши разные прибирали. Слышала, что по колонке говорят, будто живет Сашка в театральном бараке этого самого Немгостеатра; со всеми актерами-режиссерами, и с нашенскими, советскими, и с ненашенскими, запросто общается; но что хуже всего, – у всех на виду с русской актеркой из того же театра и чуть ли не из того же барака дружбу водит, чтобы не сказать хуже!
Пассия эта из правобережных, из саратовских была. Там у нее – и жилье свое, и семейство, а здесь, в Энгельсе, – койку в бараке дали, потому как не каждый день через Волгу переберешься, да и перебираться долго. Сашкина мать не удержалась, сходила тайком на эту красавицу посмотреть. Да уж какая там «красавица»! Ростом чуть выше цыпленка, личиком – что вышло то вышло: глазки синие, – а более ничего приятного. К тому же происхождения сомнительного, там тебе и купецкого, и чуть ни дворянского, и, прости, Господи, актерского понамешано. Да и народа она не своего, не немецкого! Ну какой матери такая дружба понравится?!