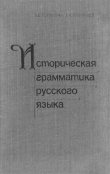Текст книги "Свои"
Автор книги: Инга Сухоцкая
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Но однажды и этой благости пришел конец.
Мама Вера работать должна была, а тут ураганом, вихрем влетела, – лицо перекошенное, глаза красные и причитает, как кликуша на похоронах:
– Что ж это творится? Земля ж! Люди! Матушка, батюшка! Мало им Антоновых[53], мало жида Гольдина[54]! Так они газом! Газом собираются!.. Азорку, пажити, ухожья, речку…
– Что с газом-то? – бестолково уставилась Кузьминишна на Веру. – Газ какой-то… – пыталась объяснить она подошедшей Фае с девочками.
– Какой-то! – чуть не кричала Вера. – Такой, что всех убивает, землю выжигает, воду травит. Выпьешь да помрешь. Какой-то!
– Девочки, учиться! – отослала Кузьминишна девочек в их комнату, но те, отступив в глубь коридора так и остались дослушивать… – А ты, матушка, – повернулась она к Вере, – по порядку давай, что за люди, что за газ… – И женщины повели Веру на кухню, не заметив увязавшихся следом Ариши и Поли с Машенькой.
Глотая слезы, всхлипывая и хватаясь за голову, Вера рассказывала:
– На тамбовщине мужики бучу подняли. «Эти» енералов своих нагнали. Один, говорят, богом мечен, глазами крив, другой и вовсе пшек. Нехристи, словом. Ядовитый газ пустить удумали. Баллоны уже завезли. Теперь думают, как бы все так устроить, чтобы самим не перетравиться. Предупреждаются…
– Да кого травить-то, не пойму? мужиков что ль? Да за что ж? – терялась Кузьминишна.
– Будто не было, чтоб люди друг друга ни за что убивали… – как-то слишком спокойно произнесла Фая.
– Ну тебя! – отмахнулась Вера, – опять свое жидовское мелешь. А у меня батюшка, дом, родня! – завыла она.
– Господи! – всплеснула руками Кузьминишна. – Хозяйке-то как сказать? Там же Можаевы… Ро-о-одненькие! – залилась она слезами.
И над кухней повисло тяжелое молчание, прерываемое лишь всхлипами и шмыганьем.
Позже, когда вернулись из больницы Зинаида Ивановна с Василием Николаевичем, снова взрослые собирались на кухне, снова Вера им все пересказывала, снова плач стоял, и снова девочек раз за разом в детскую отсылали. И день, и два, и несколько в тиши да печали прошло. И долго еще стекались в людскую горькие вести с тамбовщины.
Тяжело и долго доходило до девочек, что нет им пути назад в Белую. Идти уже не к кому, прежние обитатели сгинули, кто от старости, кто в столкновениях… Сестер-инокинь из монастыря выгнали, церковь в Герасимовке обобрали да сожгли, а само семейство герасимовское рассеялось (кто с сестрами ушел, кто вместе с Мишей навсегда в тамбовской земле полег), зато в Новоспасском целый гарнизон «красных» расположился, – свою власть оружием да жестокостью насаждают, а все боятся. И чем больше боятся, тем жесточее становятся и сами, и противники их, и всюду, всюду рыщут люди недобрые, дух погибельный накликают.
Тяжело и долго понимала Поля, как это – жить без Белой, без папенькиной заимки, без лесной речушки, без Яружки. Вспоминала, вдумывалась и не могла понять, кому и чем помешали сестры-инокини, уютный приземистый «Герасим»? где теперь учиться окрестным детишкам? что случилось с жителями Белой, как могли они все исчезнуть? За какие такие грехи выпало им это наказание? За что? За что так с Зинаидой Ивановной, с папой Васенькой, с Аришей и Машей, и с нею, Полей? Мучительные вопросы изматывали ей душу, но увы! задать их было некому.
Ариша (даже Ариша!) с Машей вряд ли знали больше нее, и сами ходили бледные и заплаканные.
Мама Вера сидела дома, забыв о работе, то голубила дочек, то замирала, уставясь пустым взглядом перед собой, то бралась лихорадочно перебирать привезенные из Азорки памятные вещи, то снова призывала девочек.
Зинаида Ивановна слегла, замолчала и перестала есть.
Василий Николаевич из немочи не выходил, припадок за припадком – даже имена домочадцев забывать начал.
Петька и тот не справлялся: вдруг белел, кривился и убегал в тележню.
Наконец, Данилыч решился обеспокоить самого доктора Яблонского. К счастью, тот мешкать не стал, – тут же вместе с Данилычем во флигелек и явился.
Возможно, доктор этот лучше других смог бы объяснить Поле, что и почему происходит в Белой. Но ей уже не до тамбовщины было, – все ее мысли, вся душа сосредоточилась в одном-единственном, горячем и ясном желании, – чтобы все, наконец, поправились: чтобы Зинаида Ивановна начала есть, говорить и смогла встать, чтобы папа Васенька вырвался из охватившего его мрака, чтобы у мамы Веры взгляд стал осмысленным, живым, чтоб у сестричек прошли синячки под глазами и чтобы Петька перестал белеть как лист и убегать из людской…
Услышал ли Бог ее молитвы или помогли порошки и микстуры доктора Яблонского, через неделю-другую можаевский флигель оживать начал. Сначала мама Вера поправилась, потом девочки, потом Петька с папой Васенькой. Зинаида Ивановна болела дольше всех, но наконец и она заговорила и есть начала, но с сердцем так до конца жизни и мучилась. Даже с работы пришлось уйти. Вот и оставалось ей сидеть дома или дышать свежим воздухом у крылечка.
Надо сказать, что вся эта история с Белой и болезнью Можаевых повлияла на других домочадцев. Едва Можаевы от скорбей оправились, Трофимыч с Кузьминишной в деревню засобирались. (Сами из обычных крестьян были, с тех земель, что Николаю Сергеевичу когда-то принадлежали.)
Зинаида Ивановна как только не отговаривала, но они свое заладили: «Ежели так пойдет, – и на погост родной не допустят, где могилки родительские. И будешь в чужой земле как стервь гнить».
Взялся Данилыч стариков на место свезти, а Зинаида Ивановна и копеечку, и вещей разных в дорогу им собрала, да просила, как доберутся, весточку прислать, что живы-здоровы. Но уж ни весточки, ни самих стариков более не видели.
Вскоре затем и Фая умерла.
Розочку, не без участия мамы Веры, от работы в прачечной отстранили, чтобы она за Зинаидой Ивановной ухаживала да хлопотами домашними занималась. К тому же это охранило бы Горского от возможных неприятностей, связанных с тем, что в его хозяйстве для лишенки работа нашлась.
А скоро пришло время вспомнить о «сокровищах» Широких, убереженных Данилычем. К слову, сокровища были так себе. Широких же ни коллекционерами, ни банкирами не были, денег под матрасами не прятали. Главными ценностями мануфактуру в Саратове да школу в Белой считали: первую – для жизни, вторую – для души. Но теперь и фамильные драгоценности, и столовое серебро, и совершенные безделицы, от золотых до мельхиоровых, – все в ход шло. И не только ради болящей Зинаиды Ивановны, не столько ради живота, но главным образом, ради обучения девочек решились взрослые на такой шаг.
Всех трех сестер записали во вторую, платную, ступень школы. При этом Поля, хоть и была на год младше Маши, попала в один с нею первый класс второй ступени, – чтобы девочкам спокойнее было. Однако обрадовалась одна Арина. Очень она боялась, что без бумажки об окончании школы не сможет продолжить путь в медицину. А Поля с Машей приуныли. Поля за это время окончательно превратилась в трусиху, а Маше сама мысль о школе не нравилась. Там же все вокруг чужие, все незнакомо.
И то сказать, за годы революции совсем в Саратове дела с учебой расстроились. И хотя новые власти обязательное и бесплатное обучение для всех детишек провозгласили, и даже старую школу разогнать успели, но с новыми школами не торопились, а от старых единицы остались. Вот и бегали по улицам ребятишки, ни аза в глаза не знавшие. Тут уж родителю думай! А иной родитель и сам грамоту позабыл, и ничего, живет как-то, так на что ему дитя принуждать.
Но в 1920-ых появилось в саратовских школах то, что помогало перебороть любую косность, любые страхи, – появилось школьное питание. И это в голод, разразившийся по всему Поволжью, когда помощь наборами, обедами, сухими пайками от церковников, американцев, Помгола[55], Фритьофа Нансена нередко спасала от смерти. А шла эта помощь, в первую очередь, детям, и часто – через школьные столовые. Потому-то теперь всякая школа за счастье была. А тем более та, в которую определили девочек, – одна из самых приличных в Саратове.
И пусть в ней, как и в других, не было учебников, тетрадей, карандашей, зато учителя – по всем предметам. А еще талоны на обед, возможность погулять по двору, да хотя бы пройтись до школы и обратно. И класс приличный, девичий, – ни одного мальчика. (Спасибо взаимопониманию родителей и директората школы.)
Главное, что смущало Полю, – повсеместная путаница в предметах, рассказах учителей, даже в расписании. Дома, опираясь на школьные понятия уроков, заданий, изложений, вопросов и ответов, Поля умела определить само содержание занятий, уловить их направление, последовательно, по совету взрослых (в основном, Зинаиды Ивановны), переходя от темы к теме, от книги к книге.
Школьная же программа, при всем обилии правил, напоминала игру в чепуху.
На «Труде» еще понятно, – школу в порядок приводили и тем самым к труду приобщались, на «Природе» названия растений, животных узнавали, но с «Обществом» – совсем беда была. Мало того, что «историю» «обществоведением» заменили, так и сути нового предмета не объяснили, при этом предлагали обсуждать живее, высказываться смелее, на что девочки озадаченно молчали, не понимая, каких размышлений от них ждут. Терялась и учительница, не умея найти подхода к робеющим ученицам.
Например, о тяжелой народной доле заговорила, о бурлаках. «Выдь на Волгу, чей стон раздается», – прочитала она с выражением. И ждет, а чего? Между прочим, у того же Некрасова «эй, полным-полна коробочка» есть, где «и ситец, и парча»… А если уж про бурлаков, – так они разные были: и каторжане, и те, что в бечеву подряжались, чтобы заработать хорошенько да новую избу поставить или земли поболее взять. А что стон – так это песня медленная, чтобы тянуть удобнее было. Под детскую считалочку или частушку, да целой толпой поди вытяни! Зато те, что уже всё привели, разгрузили, – какие они веселья с танцами устраивали, отчего не скажут? Целыми кабаками гуляли, – околоточных звать приходилось, чтобы буйство это унять. Словом, не получилось у «исторички» девочек через Некрасова разговорить.
Или вот, Чернышевскому урок отвела, портрет его девочкам показала, и как неслыханную радость, сообщила, что он здесь же, в Саратове родился, рос, и в Первой мужской гимназии преподавал. И даже памятник ему недавно открыли. Потом о доблестях его вдохновенно вещала. Надеялась, что не удержится класс, кто-нибудь да откликнется, вступит в разговор. Да сама, вот беда! не из местных, и невдомек ей, что в родном Николаю Григорьевичу Саратове много разного о нем помнили. И когда памятник тот ставили, много чего говорили, но героического облика никак не складывалось. Слишком истеричен, нечистоплотен, плаксив, расхлябан был. Воспылает вдруг, как спичка ядовитая, – хоть от занозы, хоть от мировой несправедливости: «Гнусно! Гнусно!» – кричит и в писк срывается. И каких бы прозрений ему не приписывали, многие Николая Григорьевича скорее недужным считали, чем свободомысленным. У недужного-то недуг за него, бывает, говорит, – какая уж тут свобода! Такому, если памятник и ставить, – не за подвиги, а за то, как его, болезного, здоровые люди в свои страсти ввергали. Словом, и тут обсуждения не получилось.
Ради другого «героя», «защитника бедных», Терентия Пророкова, даже его соратника в класс привели. И слушали девочки, как эти «защитники» усадьбы «богатеев» по всему краю громили. «Потому, – говорил соратник, – что богатеи эти, злые да жадные были, хорошим людям жизни не давали». Да ведь разные люди под эти «наказания» попали. Чем им тот же Александр Николаевич Минх не угодил, что они его имение порушили? Тем, что потомственный дворянин из обрусевших немцев? Что Российскому отечеству верно служил, на Крымской войне воевал? Что Саратовскую губернию самым подробным образом для потомков описал: деревни, народы, традиции, поверья, – за что медаль Русского географического общества получил? Да ведь сами же учителя его книги читают, гадости разные в них выискивают, чтобы про ужасы царизма на уроках рассказывать, но о самом Александре Николаевиче словом не обмолвятся. Зато в честь Пророкова улицу неподалеку от центра назвали. «А что до жадных и злых, они и среди бедных всегда были. Иначе кто же камышинских Можаевых извел, не добрые же люди», – не соглашалась в душе Поля. И что бы ни думали другие, – ни поддержать этого соратника, ни возразить ему никто не захотел.
После того учительница оставила надежды разговорить класс и на следующих уроках скучным монотонным голосом читала по бумажкам о событиях более отдаленных, а потому не столь спорных: хоть о восстании Спартака, хоть о Великой французской революции. Французский «хлеб равенства» воспевала, а про поволжское бесхлебье да голод – ни слова. Одна девочка возьми да скажи: «Хлеб-то ваш ржаной и того по четверть фунта на руки выдают, а у меня бабка болеет. Доктор говорит, белый хлеб нужен, пшеничный, а где ж его взять. Так что ж, пусть помирает?»
И молчит учительница, и сама, наверное, на голодном пайке сидит, и хорошо, если в обмороки не падает. И девочки на уроках молчат, у каждой – свой маленький, но уже весомый багаж прошлого, свое отношение к происходящему, своя семья, своя история. Вот такое обществоведение, несуразное, нечувственное.
Зато неприятностей и ссор в классе никогда не случалось, а Маше с Полей еще и легче, – вдвоем ведь. А скоро и Женечка Раевская появилась.
Сама Женя из Петрограда была. В Саратов приехала, потому что ее отца, инженера-путейца сюда как политически неблагонадежного направили. Как и девочки, знала Женя чуть больше, чем предполагалось, любила книги, музыку, и, как и Маша с Полей, не любила уроки политграмоты, считалась уязвленной буржуазной идеологией, и потому, кстати, учиться девочки вынуждены были на хорошо и отлично. (К счастью, в школе системой зачетов ограничивались.)
Благодаря знакомству с Женей и ходить в школу стало веселей, так что едва войдя в школьный двор, Маша с Полей издали выглядывали, не мелькнут ли где рыжие хвостики новой подружки.
А скоро и вовсе свободнее, радостнее дышать стало, – в мир пришел НЭП. Пришел как-то вмиг, сразу. В магазинах появилось все мыслимое и немыслимое. Рынки ожили, явив весь ужас нищеты и бессилие роскоши. За фамильные драгоценности можно было выручить резиновые калоши, за небольшую картину-подлинник известного художника – фунт серого хлеба. Повсюду открывались кооперативные лавочки. Каждый час, каждую минуту возникали новые сообщества, конторы, концессии. Город засиял газовыми, керосиновыми и электрическими огнями. Улицы заполнились, засуетились, запели: то звонок трамвайный, то пароходный далекий гудок, то детский смех…
Изменился и флигелек Можаевых. Открылись ненавистные ставни, исчезли с проемов одеяла. В домике посветлело. Обитатели людской огляделись хорошенько и давай мыть, драить, чистить. А папа Васенька Красным углом занялся.
Но больше всех взбудоражена была мама Вера. В глазах ее то и дело вспыхивал незнакомый девочкам блеск, на щеках играл румянец, движения стали легче, стремительней, словно она вынашивала в себе какое-то решение. И вот однажды вечером, когда все домочадцы собрались за столом, Вера сухо заявила, что уезжает с Горским в Прибалтику и девочек, разумеется, забирает с собой.
Данилыч с Петькой и Розой вышли из залы. Папа Васенька ничего не ответил, ни звука не произнес, коротко кивнул, встал, аккуратно задвинул за собой стул и сделал шаг к стене, будто показывая, что никому ни в чем перечить не будет, – в сторону отойдет. Зинаида Ивановна замерла, только на девчушек притихших взглянула, – а на глазах уже слезы, но ничего, молчит. Тут вдруг Арина поднялась и за спину к Зинаиде Ивановне зашла:
– Не поеду я никуда. Я уже выбрала, где учиться. И бабушку не оставлю. Кто за ней присматривать будет? – положила она ладонь на плечо бабушки. Та благодарно погладила ее руку, но продолжала молчать.
Мама Вера бросила на Арину быстрый и колкий взгляд и тут же к Поле с Машей обратилась:
– Ну, а мы едем! Красавицы мои! Море увидите! Отдохнете, нагуляетесь! – призывала она, уводя Полю с Машей в детскую.
В комнате девочек поднялась веселая возня: Маша вытаскивала баулы, коробки, Вера смеялась.
– А папа с бабушкой почему не собираются? – удивилась вдруг Поля.
– Они тут останутся. В Саратове, – объяснила мама Вера.
И представилось Поле, что вот сегодня она с мамой Верой и Машенькой уедет, а завтра уже ни папеньки, ни бабушки, ни Ариши, ни Розочки с Петькой – никого не увидит. И стало ей так страшно, так плохо, как давно уже не было. Да, без мамы Веры и Машеньки ей тоже грустно будет, но другие рядом останутся. А вот если без них… Поля тихо вскрикнула, и рванувшись обратно в залу, бросилась к папе Васеньке:
– Никуда я… никуда… не оставлю… бабушка… папенька… – повисла она на шее у Василия Николаевича, уткнувшись в его плечо, а он, подхватив дочь, молча гладил ее по головке, целовал в лоб, не умея выдавить ни слова. Первой осилила себя Зинаида Ивановна:
– А мама как же?
– Мама с Машей, – с детской простотой рассудила Поля, – я с папой, ты с Ариной…
Подошла Вера:
– Маша плачет. С кем ей в школу ходить? – спросила она Полю.
– Не знаю… – хлюпнула носом Поля. – Только папеньку не оставлю.
– Ну и сидите здесь. Перемрёте, как в Белой, на мне греха нет! – рассердилась Вера, и после краткой, но грозной паузы, указала на Зинаиду Ивановну и папу Васеньку, – Я вам, вам говорю! – и хлопнув дверью, вернулась в детскую.
День-другой ушел на сборы, время бежало неровно, взволнованно и как-то шепотом. Прощались тут же, у флигелька, под охраной людей Горского, – на вокзале того и гляди затолкают, обворуют… Полина с Машенькой обещали обо всем друг другу писать, все-все рассказывать, а как только можно будет, – сразу встретиться. Остальные вели себя суше, так что если кто и таил на душе печали, заметить их постороннему не было никакой возможности.
На следующее утро, проснувшись в комнате совершенно одна (Ариша уже вышла к столу, а без Маши комната была пуста), испугавшись, расстроившись, припомнив вчерашнее расставание, Поля попыталась представить себе лица Машеньки и мамы Веры, – как будто они все еще тут, рядом, и она желает им доброго дня. Но в воображении рисовался только один человек: мужчина среднего роста, худощавый, в черном кожаном плаще, в такой же фуражке; на шее то ли шарф, то ли башлык, так что всего лица как следует не разглядишь: лишь невыразительные, близко посаженные глаза и длинный прямой нос с глубокой горизонтальной складкой на переносице… – Горский, которого Поля боялась почти суеверным страхом, и рассмотреть хорошенечко решилась лишь однажды, когда прощалась с мамой и сестрой, уезжавшими в Ригу. И то потому что пряталась за юбками и коробками. Но теперь именно это лицо преграждало ей путь к милым образам, будто поглотило, вобрало в себя и сами эти образы, и память о них. И чтобы больше себя не мучить, Поля проснулась до конца и вышла, наконец, к завтраку.
Оглядела всех, кто был за столом, и почувствовала странное: будто, хоть и мысленно, но все-таки она сделала шаг в сторону от Можаевых, отдалилась от них. И стало сначала стыдно, потом радостно, что шаг этот был только воображаемым, а на самом деле все осталось по-прежнему, и так радостно, что даже жарко.
А после того как от мамы с Машенькой пришло первое письмо, Поля и вовсе успокоилась: ничего непоправимого не случилось, просто Маша теперь жила там, а Поля – здесь. И пока этого не изменить, но привыкнуть можно.
Зато с Женечкой еще больше сдружились.
Вдвоем они могли обсуждать все на свете, не спотыкаясь о новые смыслы, понятия, не боясь ошибаться и предполагать, говорить глупости и верить в высокие начала. Читали все, на что откликалось их сердце, читали по памяти и в списках, бывало, и сами переписывали… И стихи, и прозу читали, не думая озадачиваться официальными запретами. Хотя уже поняли, что в самой школе лучше проявлять осмотрительность, а то ляпнешь не подумав, – потом настроение и время теряешь, выслушивая внушения о том, почему нельзя думать так, как думается. Тем ценнее была их самозабвенная дружба.
И скоро Раевские с Можаевыми приятельствовали семьями.
Благодаря отцу Жени и при счастливом стечении обстоятельств, взяв в проводники папу Васеньку, а то и Данилыча, и Аришу, и Петьку с Розочкой (но обязательно оставив кого-то с Зинаидой Ивановной), – где они только ни побывали, каких чудес не видали!
Сначала, конечно, Саратов весь исходили.
Домом князя Баратаева любовались, его фасадом дворцового вида, обращенным на Волгу, парадной колоннадой, – все как на картинах Борисова-Мусатова, только дам с веерами и шалями не хватало. Но это ничего. Дамы они такие! а вот этот портик, этот газон[56], нисходящий к Волге зеленым торжественным ковром, – вот оно, не исчезло.
Или театр Карла Маркса[57], бывший Городской, сотни раз сгоравший и возрождавшийся. Было время на его месте стоял дом супругов Сервье, Эдуарда и Аделаиды, той самой, чьи шляпки так любили дамы дореволюционного Саратова, той самой, которая привечала у себя Александра Дюма, мимоходом заглянувшего в приволжский городок.
А синематограф «Мишель»! вернее, «Гранд-Мишель». Это сюда слетались когда-то коляски и экипажи, это тут по вечерам собирался высший свет!
Успели в Парусиновой роще побродить, пока она не закрылась. Вот где гулял так гулял Саратов! во всем своем блеске, с духовыми оркестрами, с фейерверками и буфетами, с дамами в пышных платьях с рукавами жиго и с авантажными господами. Гуляли гусары, задиристым весельем смущая девиц всех возрастов и тревожа покой приличных горожан. Говорят, и дуэли в роще случались. Но это когда было! Много воды с тех пор утекло, уже и деревья подросли, а некоторые вовсе обрушились, – а роща все стоит, шумит, шелестит…
Ходили на кафедральный собор Александра Невского[58] посмотреть, тенью и ароматом молодых лип[59] наслаждались.
По губернии много ездили. На взгория забирались, в ущелья спускались, тутовником прямо с веток лакомились, на реке Медведице раков ловили, а еще на краснокаменные столбы, видом своим напоминавшие лучи застывшего пламени, дивились.
И конечно, по Волге катались: на острова любовались, папа Васенька про соловьятников рассказывал, – и про тех, что ночи тут проводили, только чтобы диковинными трелями насладиться, и про тех, что отлов певчей птицы промыслом сделали. Не любит соловей в неволе петь, – так вот и придумали целую науку, как такую зверушку определить, которая, может, и таланта невеликого, зато послушания пригодного…
Вдоль пологого заволжья вниз легко-легко как по воздуху плыли и отвесное правобережье с супротивного берега рассматривали. Впервые Змеевы горы увидели, – впрочем, ничего змеиного Поля в них не нашла. А возможно, папа Жени с папой Васенькой столь практически о напластованиях и отложениях рассуждали, что Поля всю поэзию проглядела. Зато утесы-лбища, – вот уж подлинно лбища! – действительно напомнили ей огромных древних животных, живших много-много лет назад, однажды приникших к воде, да так и застывших на веки вечные.
А каким величием поражали Столбичи, огромными колоннами когда-то величественного, но однажды исчезнувшего храма вознесшиеся над водой!
Но главным чудом, главным открытием, главным полюсом притяжения юной души, стала, конечно, Волга! То тихая, как невеста, вся в серебре да шелке, то воинственная и яростная, как мать, бьющаяся за детей, то труженица, возводящая суда против течения, то муза, одним вдохновением низводящая барки вниз к морю. Мудрая и древняя, игривая и ласковая, переменчивая и ветреная, – какая бы она ни была, теперь это была ее Волга, ее, Поли Можаевой простор и мощь, ее рассветы и закаты.
Глава 9. Новые пути
Тяжело, неровно, рывками поднималась молодая страна, удивляя и пугая весь мир верностью новым представлениям.
Еще и представления эти были не вполне ясны, еще наверху шли споры о том, каким быть Советскому государству, но все отчетливее проступали сквозь бурьян разрухи уверенные очертания новых заводов и гидростанций, линии электропередач и дорог.
В доме Широких, после отъезда Горского, разместились приемные союзов, обществ, контор самого разного пошиба – от нэпмановских до партийных, а в здании мануфактуры – общежитие для батрачек. Лавка со складами отошла под сбор и хранение металлического лома; причем склады заполнились в первые же дни, и разгружать их никто не собирался, – вывозить лом было некому и не на чем. (Гужевых лошадок не хватало настолько, что иногда, при острой необходимости в упряжь лишенцев впрягали.) Вот и росли во дворе буро-черно-зеленые залежи чугуна, стали, меди и бронзы, отчего двор все более походил на одну большую свалку с узкими, красными от разливов ржавой воды тропинками между всхолмиями рельсов, люков, утюгов, битых колоколов, с наивысшим «пиком» на месте бывшей сушильни. Там батрачки поначалу помойную яму под бытовой мусор устроили, а как крысы со всех окрестностей сбежались, – известью все залили, землей прикопали, а сверху, для вящей надежности, лома побольше навалили. Тогда же сирени все извели. Хорошо, папа Васенька несколько черенков прибрал, вынянчил, потом у тележни пару кустов посадил. Кстати, из всех хозяйственных построек одна эта тележня и уцелела, потому что за Можаевыми значилась. Остальное на дрова ушло, освободив место под еще один «горный хребет».
Но несмотря на уныло-уродливый вид, вся эта картина была, видимо, столь ценна для властей своим содержанием, что для лучшей ее сохранности, у главного въезда во двор сторожа посадили, дабы воришек отпугивал, а то взяли моду: на одном пункте стащат – на другом по второму разу продадут. (Вот оно: «злость начало городов»[60]. В деревнях люди извека землю пахали, в селениях как умели жили, а в городах первым делом огораживались, потому как врагов да разбойников на уме держали. Отсюда и злость.)
Запасной въезд приказали силами жильцов заделать. А так как из постоянных жильцов только Можаевы и были, их ответственными и назначили. Зато обещали, когда вход перекрыт будет, – цветник со стороны двора развести позволят.
Данилыч тогда же на свалке столбики какие-то нашел, на месте домашнего въезда вкопал, проволоки колючей меж ними натянул. Папа Васенька эту путанку густым колючим кустарником обсадил, так что несладко пришлось бы разбойничку. А для добрых людей калитку сделали. Кто захочет войти, – достаточно в окошко людской постучать или в колокольчик дернуть, ему и откроют. А кроме как к Можаевым по той тропинке никуда и не пройдешь, ни в дом, ни в общежитие, – все пути металлоломом забаррикадированы.
Зато со стороны двора под окнами флигелька чудо-садик образовался. По выступавшей стене дома Широких виноград девичий пустили. В цветнике каких только цветов не высадили! от красоток с бархатцами до изысканных пионов с розами. Даже роскошный олеандр и тот принялся. И если случалось кому в этом палисаднике в тихий безветренный день очутиться, да к металлическому лому спиной оборотиться, – такая милая картинка взору представлялась, что про свалку само собой забывалось. Справа река дикого винограда, слева тележня в сирени, на месте старого въезда – пышная карагана[61], а к дому тропка мощеная ведет, от улицы калиткой отгорожена; сам домик всегда аккуратный, всегда в порядочке (спасибо Данилычу с Петькой), а уж чудо-садик какой! Зинаида Ивановна его «цветущим предгорьем» называла, чем порождала в душе Поли теплую, уютную смешинку.
Приветливей стало и в самом флигельке.
Мама Вера гостей не любила, и лишь после ее отъезда, в людскую вернулось можаевское хлебосольство. Наконец Поля воочию могла увидеть тех, о ком прежде знала, в основном, понаслышке.
Заходил милый Иван Оттович. Его не только без дома и без денег оставили, но даже на работу брать не хотели, – на то в верхах особое распоряжение было. Вот и оставалось человеку поденщиной зарабатывать, да и тут немногие навстречу шли, разве среди знакомых смельчаки находились или случайно кто нанимал. А человек ведь не милости – работы искал и христорадцем выглядеть не хотел, вот и начал людей сторониться. И сколько ни уговаривали его Можаевы заходить почаще, а то и пожить у них, – все тщетно. Зато каждый раз увидев его у калитки, радовались так, будто уж и свидеться не чаяли, лихорадочно придумывали, какой бы работой его озадачить, чтобы на прожитие хоть что-то подкинуть. А на прощание снеди «на дорожку» от всей души собирали!
К папе Васеньке все больше по вопросам духовным приходили, из батрачек некоторые часто забегали, да и со всего города жители шли, а бывало, и важные по виду, сверху откуда-то к нему заглядывали. Задержатся на минуту-другую, пошепчутся за закрытыми дверьми, на том и уходят, иногда – и Василий Николаевич с ними. От девочек не прятались, но от своих дел да разговоров подальше держали.
Знакомые по биостанции калитку можаевскую тоже хорошо знали. Однажды доктор Яблонский нового приятеля привел, некоего товарища Ванеева – преподавателя Высших сельскохозяйственных курсов из числа «красной профессуры», с которым папа Васенька особенно близко сошелся по своей любви к биологии. Чудное это было знакомство: истово верующий Василий Николаевич, которого женщины из общежития иной раз «молитвенником нашим» называли, и товарищ Ванеев, – атеист, избегавший даже слова «спасибо» за намек на Господа… Казалось бы, какие тут разговоры? А они иной раз так заговорятся, так увлекутся, что хоть полынь горькую вместо чая налей, – выпьют и не заметят, да еще чашечку попросят, и все в эмпиреях своих витают. Папа Васенька ему о своих тамбовских гербариях рассказывал, и даже некоторые, чудом сохранившиеся описания отдал. А он ему – про пшеницы разные, про то, как они от одной-единственной, как бы изначальной, по всей земле расселялись, и как человек может в эту естественную историю так включиться, что получит свойства, ранее невиданные, например, такую многолетнюю пшеницу выведет, которая самостоятельным, устойчивым видом в природу впишется. Это ж хлеборобам насколько легче было бы?! И так оба собеседника дорожили этими разговорами, что скоро товарищ Ванеев задумал Василия Николаевича на свою опытную станцию лаборантом устроить, но сам тогда же в долгожданную экспедицию отправился, поэтому и вопрос о переходе папы Васеньки на новую работу был временно отложен.
Две Аришины подружки приходили. Арина, как в медтехникум поступила, сразу с ними сошлась и других наперсниц уже не искала.
Одна подружка, Валя, чем-то напоминала Зинаиду Ивановну, тоже практичная, деловитая, но при этом очень родная. Даже ее низкий грудной голос, казалось, мгновенно переносил собеседника в мир домашнего уюта и спокойствия. Старшая сестра в рано осиротевшей, многодетной семье, она давно стала главной хозяйкой в доме, и теперь ко всем на свете относилась с ласковой заботливой снисходительностью, как к сестрам и братьям.