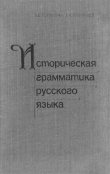Текст книги "Свои"
Автор книги: Инга Сухоцкая
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
К счастью, в этот момент в прихожую вышла Любинька:
– А мы заждались!
– Иду-иду! – живо откликнулась Варя, и стремительно направилась в комнату.
Любинька, провожая Зину, пыталась по интонациям, по выражению лица подруги угадать, что за разговор произошел между девушками, но так и не узнав, закрыла за гостьей дверь, и тоже поспешила к гостям, откуда уже доносился шум восхищения.
Больше Зинаида Ивановна на подобные встречи не соглашалась, и даже когда ей пообещали выступление «светила прогрессивной мысли», – предложение отклонила.
А сестры вскоре покинули Саратов. Впрочем, на этом дружба Зинаиды Ивановны с Любинькой не закончилась. Мало того, со временем удивительным образом переросла в родственную связь. Но об этом позже.
***
Здесь же, в Саратове, Зинаида Ивановна познакомилась с Николенькой, Николаем Сергеевичем Широких.
Семейство Широких было не столь многочисленно, сколь можаевское, зато богаче и известней. Отец Николая Сергеевича, почетный гражданин Саратова и личный дворянин[32], состоял в знакомстве со многими знатными семействами и даже из столичных. Матушка, также происходя из купечества, мечтала о дворянстве для сына, потому отправила его за образованием в Германию, – юноше, окончившему университет в Европе, и титул отыскать легче будет. Однако сам Николай Сергеевич, и до и после Гейдельбергского университета, к сословным вопросам относился безразлично, и с тех пор, как вернулся в Россию, своими утехами забавлялся: знакомства с краеведами и писателями водил, народные сказания собирал и на вопрос к чему ему это, – ничего вразумительного ответить не мог. Не знал он, как объяснить, что никакая Европа, никакое обилие науки и искусства, удобства и роскоши не заменят ему Саратова, вечно мятущейся матушки, отца, любившего насупить брови, чтоб никто не разглядел его добрых глаз, нянечку-калмычку, с ее веселыми сказками, собранного строгого учителя-немца. И никакая диковинная речка, со скамеечками по берегам, с хитро обустроенными островками и бухточками для катающихся на лодках, не станет милее широкой, своенравной Волги. Он всегда смутно понимал это, но после возвращения из Германии, его привязанность к родной земле обострилась настолько, что иногда доходила до почти благоговейного трепета, превращая самого Николая Сергеевича в отрешенного, обессиленного созерцателя.
Возможно, в решительности, с какой жила Зинаида Ивановна, в ее кипучей энергии, Николай Сергеевич встретил как раз ту здоровую, природную силу, которой ему так не хватало, чтоб перейти от эфирных мечтаний к будничной жизни. С неожиданным удовольствием слушал он о том, как перестраивается деревенская школа, как приходится объясняться с чиновниками и родителями, о школьном огороде, затеянном ради дополнительного питания детишек…
Господам Широких увлечение сына было не по душе. По их мнению, вернее, по мнению госпожи Широких, Зинаида Ивановна была особой хоть и яркой, и не бедной, но в невестки никак не годилась. Пусть Можаевы купцами были достаточными и нрава степенного; ладно, что из крестьян, в Саратове что ни купец – все мужичьего племени; но кем была сама Зинаида Ивановна? Про мать ее, Аксинью Можаеву, госпожа Широких даже говорить считала зазорным. (И откуда что знала?)
«Была в Саратове одна, из бывших актрис, частную школу держала, так та в Императорских театрах служила. А эта из крепостных! А эти домашние театры… Ву компрене[33]… Прости, Господи! – выговаривала она мужу свое горе, хотя дворянские фамилии Бахметевых[34], Нарышкиных[35], Поливановых звучали для нее сладкой музыкой. – И даже если дом порядочный, сам театр таков… А Зина… Что Зина? куда мать, туда и дочь… Словом, забавы забавами, но жизнь себе ломать?! Да и что он в ней нашел? Матрешка с подбородком! А Николенька и беды не чует, матери слушать не хочет, хоть ты бы ему сказал!» – наседала госпожа Широких на супруга.
Увы, на господина Широких в этом деле надежды было мало. Он хоть и дворянином был, да, строго говоря, не дворянских кровей, – к простому народу душевную слабость питал. И на гуляния народные любил заглянуть, и частушки с песнями послушать, и над супругой своей, ограничивавшей круг знакомств дамами дворянского звания (будь они самого захудалого рода), – частенько подтрунивал.
И тут, казалось, сама судьба пришла на помощь исстрадавшейся матери. Зинаиду Ивановну в тамбовскую управу к следователю вызвали. По слухам, речь о столичных бомбистах шла, о покушении на самого Императора. И хотя разговор в управе закончился самым взаимоуважительным образом, – мадам Широких свои выводы сделала: не будут люди попусту болтать, тем более к следователю без причины не вызывают. А уж если такое происходит, чего ж от Можаевых еще ждать?
Надеялась мать, что сын уже взрослый, сам все поймет, образумится и положит конец неподходящему знакомству, но уже на следующий день после вызова Зинаиды Ивановны в управу, Николай Сергеевич гостил в Белой у Можаевых и вместе с братьями-Иванычами слушал сумбурный рассказ избранницы: и про петербургских Можаевых; и про покушение, которое было на самом деле, и что стрелял в царя Павел Матвеевич (внук того Тихона Можаева, что в петербургские мещане записался) – то ли умом тронулся, то ли под влиянием Вари, то ли ради нее; и про Варю с Любинькой; и про то, что посадили всю их компанию под арест; а уже в заключении Павел Матвеевич на Любиньке женился. Так, по крайней мере, Зинаида Ивановна из разговора со следователем поняла.
Можаевы, хоть и слушали не впервой, но болезненные, смешанные чувства – жалости к безумцу, неисправимости, постыдности, возмущения и беспомощности – по-прежнему болезненно душили дружное, крепкое семейство.
Тогда же, вопреки надеждам матушки, Николай Сергеевич Широких, проникшись едиными с Можаевыми переживаниями, и, конечно, заручившись согласием избранницы, принял окончательное для себя решение, – жениться на Зинаиде Ивановне, жениться несмотря ни на что. Время спустя объяснился с родителями, и с тех пор, как бы его ни отговаривали, вел себя так, будто венчание с Зинаидой Ивановной – дело решенное, а само решение неизменно. Вскоре молодые получили благословение, но уж от семейных капиталов сыну было отказано. Впрочем, это не смутило молодых и не помешало господину Широких-старшему выделить сыну некую сумму и деревеньку с землей в подарок к свадьбе.
Николенькина матушка совершенно расстроилась, и опасаясь модной в ее юности аневризмы, отбыла поправлять здоровье в Европу, к теплому морю.
Глава 7. Васенька и Виринея
Вот поди, угадай этот мир! Личиком Васенька, русоволосый да голубоглазый, в отца, в Николая Сергеевича, пошел, а по чьей вине Бог падучую послал поди знай! Тут же «доброхоты» выискались, – хозяев Новоспасского припомнили, родню их, дескать, был там господин некий, вроде той же хворью страдал, но знали о нем мало, и спросить не у кого было, – упокоилась к тому времени Аксинья. А сам господин тот за границей жил, лечился всё, в Белой только однажды и побывал. Старожилы говорили, по имению индюком ходил, с толмачом[36] и приказчиком на нерусском бубнил, парк по примеру европейских устроить задумал, работников собрал, денег им посулил, – да всё в Тамбове на бега и спустил. Только его и видели.
То ли дело Васенька! Хвори своей не боялся. Хоть и родился в городе Саратове, хоть и рос под заботливые взгляды родни, даже учиться на дому начал (не хотели его без присмотра оставлять), но доучиваться – в гимназию напросился. Надоело страхами жить.
А уж Белую как любил! Тут ему и покой, какого в городе не бывает, и от «свиты» свобода полная и пригляд не менее прежнего. В деревне ж от людей ничего не скроешь, а о Васеньке радение особое. Полюбился он, – добрый, вежливый, уважительный. А болячка что? – ее не угадаешь. Дал Бог – живи не ропщи.
Васенька и не роптал, и без дела не сидел, хотя, что и говорить, к хозяйству расположения не выказывал.
Сначала помологией[37] увлекся. В школьном саду оранжерейку с летним кабинетом обустроил (на зиму-то в Саратов уезжал). Иногда «уроки» здесь же, в оранжерейке проводил, детишкам рассказывал, как умно все в природе, увязано, и какая она великая труженица.
Позже дикими растениями заинтересовался. Ради этого интереса наматывал он верста за верстой, ради него приносил ворохи трав и веток, гроздья мешочков с пробами земли и часами крючился над микроскопом, раскладывая что-то по бумажным пакетикам… И скоро на смену снисходительному «опять блажит, сердешный» пришло загадочное «ишь, морочится, – науку пытает».
Но более всего заимку любил. А кто бы не полюбил?! Речка лесная плещется, мельница водяная урчит, сосны дремлют… Диких пчел там себе приглядел и как хороший бортник за ними ухаживал. Ох, и вкусен, душист был мед с той заимки! Но другое, особое счастье было здесь у Василия Николаевича, – помолиться вволю любил, в стороне от глаз человеческих. Для того и шалашик себе приспособил.
Было дело, и на заимке падучая прихватила, но Васенька и тут не испугался. Как от хмари душевной оправился, рассказывал:
– Потолкались мы тут с анчуткой[38]. Тесно ему со мной! Тесно, так убирайся!
– Так его, в шею! Поделом дураку! – смеялись бабы, детишки и даже бородатые степенные мужики, не слишком одобрявшие его «науки»: мужицкое ль это дело – цветочки собирать.
А вот Зинаида Ивановна с Николаем Сергеевичем занятия сына уважали. И то правда, что среди их знакомых, тем более среди приятелей самого Василия Николаевича и в Архивной комиссии[39], и на Волжской биостанции[40], хватало тех, кто умел науку с хозяйством сочетать.
К тому же и сам Николай Сергеевич к мануфактурному делу с торговлей не сразу пристал. Пришлось, когда господин Широких, почетный гражданин и личный дворянин, после мучительного бракоразводного процесса, без капиталов остался (даже особняк продал). Вся надежда на мануфактуру! А что с нее толку? Дела расстроены, Широких-страший после семейных неурядиц совсем разболелся, Николай Сергеевич немногим лучше был: терялся, робел, хандрил. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не Зинаида Ивановна. Деловитостью и решимостью, с которыми она взялась порядок наводить, – и супруга воодушевила, и обоих Широких в волнениях их успокоила. Да и братья-Иванычы помогли. И скоро дела наладились.
Рядом с мануфактурой хозяйство образовалось, новый дом встал. Крепкий, просторный, в два этажа. Крыша железная. Фасад о пяти окнах на улицу выходит. Слева от него (вверх по улице) – арка главного въезда во двор вровень и вплотную к дому примыкает, за аркой – лавка Широких расположилась. С улицы в лавку покупатели, чаще покупательницы заходят, к материям приглядываются, щупают, на свет смотрят, нюхают, договариваются… Со двора посерьезней дела творятся: заезжают-выезжают подводы, суетятся работники, покрикивают приказчики с извозчиками.
За лавкой склады один за другим до самой противоположной стены выстроились. Широких же не только своим, – привозным тоже торговали.
В глубине двора, параллельно дому Широких и впритык к противоположной стене двухэтажное краснокирпичное здание – та самая мануфактура. Перед ней, огороженные заборами, – котлы с кипящей краской, рамы, тканями обтянутые, железные решетки в железных же оправах… За мануфактурой, в самом дальнем от лавки углу – сушильня, от остального двора сиренями огорожена, навесом от непогод и ненастей укрыта.
Правый торец дома Широких в заулок обращен. Вдоль него, впритирку к хозяйскому дому – одноэтажная, тоже о пяти окнах, людская вытянулась. Дальше – еще один въезд, его и домашним, и черным, и как только не называют. Тут уж по домашним нуждам ездят. За ним, в углу, – тележня. От нее и до сушильни выстроились в ряд разные службы и сарайки.
И все-то движется, трудится, старается… Тут и хандрить некогда, и хозяином быть приятно.
А как похорошел Широких-старших! Найдя прибежище у сына с невесткой, он вернулся к увлечениям юности, встречался с литераторами, историками, этнографами. С Васенькой у них и общие темы, и общие знакомые обнаружились! А после того, как в сельском экономическом журнале была напечатана «ученая» статья его внука, чуть не наизусть ее выучил и цитировал к месту и не к месту, как некую премудрость: «Культуры растительные безъязыкими и безмысленными сотворены суть, оттого существа своего разъяснить не могут. Понять его – дело ученого. Определить в культуре лучшие начатки и укрепить их – дело помолога».
А еще мечталось деду, чтобы жена внуку добрая досталась и нравом попроще, и чтобы правнуков на руках покачать. Но сам Васенька девушек сторонился, холостяцкую судьбу себе полагал, и, как оказалось, напрасно.
Кежедай Тингаев, из Азорских помещиков, как дочь Виринея народилась, закумиться с Можаевыми возмечтал. А те с ответом не спешили. Но уж когда Виринеюшка в самый возраст входить начала, указал ей самой за Васеньку взяться. Пусть нездоров, зато и ерепениться меньше будет. Что не хват, – на что ему, когда мать – из Можаевых, отец – фабрикант саратовский и богатчеств за ним видимо-невидимо.
Виринея же личиком прехорошенькой была: глазки серые, щечки – кровь с молоком, волосы цвета спелой пшеницы, с Василием Николаевичем держалась просто и ласково. Но самое удивительное, – хвори его как будто не боялась. Это-то более всего и восхищало Василия Николаевича, наполняя сердце его чем-то неведомым, трепетным и сладостным. И скоро молодые заговорили о свадьбе.
Зинаида Ивановна с Николаем Сергеевичем хоть и предпочитали держаться с Кежедаем на уважительном расстоянии, да ведь одно дело – сосед, другое – дочь его. А главное, что сам Васенька был счастлив безмерно, и свадьба получилась если не самая пышная, то уж точно затяжная. По началу Белая с Герасимовкой да Азорка гуляли, потом уж из других городов родня с поздравлениями приезжала.
Тут же в Белой, у Васеньки с Виринеей детишки народились. В 1909 году – Ариша, девочка сдержанная и серьезная; двумя годами позже – Машенька, хохотушка и проказница. Обе премиленькие – будущие красавицы и мамина гордость. Поленька, самая младшая, личиком не удалась. Разве что глазки голубенькие (это в папеньку), а в остальном, словно приятности на нее не хватило: нос грубоват, ноздри крупные, губы неровные. Зато характер ласковый, домашний, можно сказать, застенчивый. В 1915 году и наследник появился – Ванечка. И пока молодые с детишками обитали в Белой, в саратовском доме затеяли переделку, готовились две детские: розовая и голубая.
Но работы затягивались, – мануфактура получила большой срочный заказ на сукно. Россия оказалась ввергнутой в Мировую войну[41].
***
В Саратове возводили военный городок, открывали лазареты, собирали пожертвования, отправляли поезда с хлебом и фуражом на фронт, – жизнь все ощутимее определялась военными потребностями.
В Белой о войне, конечно, тоже знали, тоже хлеб в армию отправляли (за тем и из тамбовской управы приезжали, и от Зинаиды Ивановны с Николаем Сергеевичем), но печалям воли не давали. Уверены были мужики, что ежели сами с усердием землю работают, то и служивые в своем деле усердствуют, и чины разные о скорейшем благополучии ревностно пекутся, и каждый на своем месте о судьбе родной земли заботится, – а значит, никакой супостат не страшен. Да и не захочет супостат этот с русской зимой встречаться: и сам померзнет, и лошадей потеряет, и безоружным останется.
В 1916 году только и разговоров было – о Брусиловском прорыве, в 1917-ом мир казался близок. Но там, где хаос берет верх, всё обессмысливается, – в этом его суть, в этом его разрушительность.
Первые запасы быстро растаяли. Пополнение шло с перебоями. Собранное для фронта – мука, зерно, фураж, сукно, горючее – до армии не доходило: изгнивало, расхищалось, разворовывалось, перекупалось. Повсюду росли голод и недовольство. Война затягивалась. И все громче заявляли о себе те, кто за особую доблесть почитал надругаться над святынями и заветами отцов. Заявляли убийствами, изменами, предательством.
Война еще не закончилась, а в России – революция. Чины государевы от страха в столбняк впадают, солдатики из армии бегут, недоучки о политике рассуждают; а враг не ждет, пока все договорятся, ему чужие ссоры – хорошая подмога, только успевай вожделенные земли да богатства к рукам прибирать.
Тамбовщину и война, и первая революция не слишком задели. Всех-то эмиссаров она кормила, солдатикам отправляла, о сиротках и вдовах заботилась, христорадцев захожих и тех голодными не оставляла.
Зато уж Красные Советы, этим ни Бог, ни царь не указ, – таких злодеев да нехристей на мужика напустили, что от прежнего благополучия и следа не осталось.
Запасный магазин в Белой разграбили. Можаевский постоялый двор с заимкой Василия Николаевича, – с шалашиком, с деревьями некоторыми, с пчелами дикими, – все пожгли. Школу деревенскую под ружейный склад определили, в Азорке с кумышами[42] местными задружились, а сами в имении княжеском обосновались, штабом назвались и потребовали, чтоб отныне все зерно в округе к ним, в Новоспасское на помол везли. Кто не повезет, – у тех мельницы пригрозили порушить. Возили сначала, – потом перестали. Они же деньги за помол возьмут, а смолотого хорошо если половину отдадут, а то все «именем революции» изымут, – и живи как хочешь. Вот и перестали к ним ездить, в других деревнях мукомолов искали. Так эти «революционеры» по дворам пошли: муку, хлеб, посевное, овощи, сено, даже одежду, даже обувь, даже украшения бабьи, – все гребли. Припрятывать мужички начали, – «красные» и вовсе озверели, на какие изуверства не шли, чтобы схроны эти выведать. Вот и надвинулись на тамбовщину беды и смерти, голод и бесхлебье, каких отроду не бывало.
И те, кто прежде войну в деревне переждать надеялся, – в город перебираться стал, особенно, кто с больными да малыми. А кто на месте оставался, – обороняться готовился.
Папа Васенька (так называли Василия Николаевича в семье) к тому времени совсем разнедужился, приступ за приступом, да и за детишек страшно. Вот и согласился в Саратов идти, – Зинаида Ивановна уж который год уговаривала! Причем идти решили на лошадях. На железных дорогах тоже за хлеб воюют: составы под откос летят, мосты взрываются, рельсы разбираются. Да и в самих поездах неспокойно: лихие люди промышляют, больных много, тифозных, с холерой… Подводами, конечно, немногим надежней, а все вернее.
Собирались долго, на могилки родительские сходили, в монастыре службу отслужили, на прощание с Герасимовым семейством посидели (те уходить не захотели), с теми Можаевыми, что постоялый двор держали, с тингаевским семейством, с другими родственными и не родственными…
В назначенный день встали затемно, отслужили молебен о путешествующих, оделись потеплее, тюки с вещами по дну телег раскидали, сеном прикрыли, чтобы недобрым людям меньше соблазна было, сверху детишек посадили, армяками укрыли. Мама Вера (так называли Виринею Кежедаевну дома) с Василием Николаевичем и несколькими проводниками рядом пошли. Немногим бы те мужички помогли с топорами да вилами, но во множестве людям всегда спокойнее. Замыкали шествие братья-Иванычи с Михаилом Можаевым, – проводить вышли. У пепелища, где раньше постоялый двор был, остановились, чтобы попрощаться да напоследок на родные места взглянуть.
Пока собирались, светать стало. В утреннем сумраке ровно и гладко, как не бывает с уработанной землей, белела на полях изморозь. Промытые дождями от мучной пыли, неподвижно и черно поблескивали вдали ветряки. Сквозь ломкий стылый воздух колюче посверкивали кресты церквей. И ни человека в полях, ни возницы на дороге, ворота везде закрыты, даже конского перебора не слышно, даже собаки лаять как будто разучились, – прячется жизнь деревенская, уходит в погреба и землянки. И только вороны на пепелище орут, – за добычу дерутся.
Внезапно со стороны Тамбова, видимо, с какого-то поворота, донеслось нестройное, но узнаваемое:
«Пусть каждый и верит, и знает,
Блеснут из-за тучи лучи,
И радостный день засияет,
И в ножны мы вложим мечи.
Теперь же грозный час борьбы настал»…[43]
Донеслось, – и так же неожиданно смолкло. И с новой силой возобновилась воронья драка…
Машенька захныкала, Ариша принялась ее успокаивать, Поля крепче прижала Ванечку, мама Вера поежилась, Василий Николаевич чуть помолчав, широко перекрестился на маковку «Герасима»: «Спаси, Господи, не остави ны заступлением Твоим», – и коротко кивнув Иванычам с Мишкой на прощание, решительно обернулся к Белой спиной:
– Трогай, – бросил он вознице.
И подводы медленно двинулись в сторону Савалы, на Саратов.
Из дневников Зины II. Школьные годы
Новая запись.
Мама часто говорит, что я глупая. И мне от этого грустно. Я и правда глупая, но не так, как она думает. Я не мечтаю закончить школу с золотой медалью, играть в «Что? Где? Когда?» и прославиться остроумием. Но если бы я была умнее, могла бы лучше понимать мамочку. Вот, чего я действительно хочу.
Вряд ли я из тех глупых, которые просто не хотят узнавать, читать, учиться. Мне интересны история, архитектура, живопись. Будь у меня возможность, я бы училась играть на пианино, но у нас его нет. Зато я люблю читать, знаю наизусть много стихов и песен. Мы с Яной (моей подружкой по двору) часто обсуждаем разные книжки, ходим на концерты и в филармонию, иногда в лекторий. (А в театры я не хожу, мне там плохо.) Вряд ли я из тех, кто совсем ничего не знает и знать не хочет.
Но есть другие глупые, которых правильней тугодумами назвать. Они всё понимают, но медленно. И вот это точно обо мне. Но не только это…
Мне кажется, я часто хоть и понимаю, но не так, как надо, не так, как мамочка хотела бы. А как, – и сказать не умею. Будто само движение моих мыслей неверно, – стоит им попасть в мою голову, и они тут же становятся неправильными. Будто в ней, в моей голове, – бульон из заблуждений, ошибок и невежества. Он-то и пропитывает собой любую мою мысль. И этот бульон, эта глупость моя – она еще до разума… до мыслей…
Но думать все равно стараюсь, – и думать, как мамочка, и любить то, что она любит. И очень надеюсь, что если в этот дурацкий бульон, раз уж от него не избавиться, будет попадать больше правильного, умного, хорошего, то и сам мозг как-нибудь выправится, и мы с мамочкой будем ближе. Но пока, бывает, она совсем не верит, что я действительно стараюсь стать умнее, и мне от ее неверия больно. А кто виноват? Я и виновата. Тем, что глупая виновата.
Вот недавно в школе родительское собрание было. Обычно на эти собрания бабушка ходит. А тут… Живот у меня заболел, бабушка врача вызвала, тот осмотрел, таблетки выписал, уехал. А мамочка… подозрительным ей показалось такое совпадение: в школе – родительское собрание, а я заболела. Вот она и решила сама на собрание пойти.
После собрания приехала, – и сразу на кухню. Рассказывала бабушке, как ее наш классный нахваливал, за воспитание дочери (меня то есть) благодарил. Это я от бабушки узнала. А мне мама ничего не сказала, не объяснила, будто так и должно быть: да, заподозрила нехорошее, – но ведь все разъяснилось. Только мне от одних подозрений уже больно. И хоть бы слово от нее услышать, чтобы понять, как же так получилось? Вряд ли она хотела меня обидеть, тем более я никогда не давала поводов думать, что в чем-то обманываю.
Потом с бабушкой в Летнем саду гуляли:
– На маму обиделась? – спрашивала бабушка.
– Нет. Просто не поняла.
– Глупенькая еще. Мама за тебя очень боится, она же мама. А ты не грусти… Не обязательно человека понимать, чтобы любить. Ты же маму любишь?
– Конечно!
– И она тебя. И это главное. Все остальное мелочи…
То есть и думать не о чем, и в непонимании копаться не к чему, – достаточно просто любить друг друга. Когда бабушка объяснила, – все на свои места встало. А сама почему-то додуматься не могла, а ведь так легко, так понятно!
А мне с бабушкой всегда легко! И неважно, умная я или нет, просто гуляем, – и уже хорошо! Шагать бы с ней и шагать, чувствовать тепло ее руки, слышать ее дыхание, похрустывание влажного песка под ногами, глуховато-отдаленные звуки машин и трамваев, плеск голубиных крыльев… С неба мелкий-мелкий дождь сыплется – пыль небесная, нежная, тихая. А из нее то ствол, почерневший от влаги, покажется, то статуя умытой белизной сверкнет. На ворсинках бабушкиного коричневого пальто капли тумана драгоценными камнями подрагивают, а которые покрупнее, раз! – и под ноги скатываются, и тут же в землю уходят… И ничего не надо: ни людей, ни дел, ни разговоров, потому что дела и слова теряются, смыслы меняются, а ощущение счастья, полного, всеохватывающего, – это ощущение навсегда остается. Достаточно вспомнить о нем, – и вот оно! в душе, в сердце горит-разгорается. И ни беды, ни время над ним не властны.
И уж не знаю, что для менее ценнее вот эти мгновения тихого счастья или наши с бабушкой разговоры о семейных делах, о Можаевых, о любимом ею Саратове, о моей учебе… И то, и другое без бабушки немыслимо.
Новая запись.
Мама с бабушкой очень разные.
У бабушки, например, много знакомых, – и все интересные и очень непохожие.
Больше других она с тетей Женей Раевской дружит. Тетя Женя руководит музыкальной школой и много знает об архитектуре, помогла нам одну гравюру отреставрировать, ее еще в герасимовской типографии оттиснули. Зовут тетю Женю Евгенией Леонгардовной, но каждый раз, когда я пыталась назвать ее по имени-отчеству, она меня останавливала: «Не ломай язык, деточка. Нас с твоей бабушкой юность и война так породнили, что ближе некуда. Так что “тетей Женей” в самый раз будет». Это тем более справедливо, что внуки самой тети Жени мою бабушку «тетей Полей» называют. В последнюю субботу месяца бабушка с тетей Женей вместе собираются то у нас, то у нее. Угощения разные готовят, знакомых приглашают. Это у них Ассамблеями называется. К нам, в основном, бабушкины знакомые приходят, к тете Жене – ее знакомые. Бывает, и общие знакомые встречаются.
К бабушке кто только не заглядывает: и те, кто с нею на заводе работал, и те, кто детишек к ней в Дом юношеского творчества (в ДЮТ) водил, да и сами ее ученики. Но самые примечательные, конечно, те, с кем ее театр связывал.
Взять хотя бы Господина Актера. Всегда в цилиндре (а он мужчина и без того высокий), в визитке[44], в перчатках, с тростью… Щегольски ею на каждый второй шаг отмахивает, будто вот так запросто, пешком из прежних веков пришел, при этом чувствует себя в этом так естественно, что никого его внешний вид не смущает. С тех пор как Господин Актер еще и преподавать начал, он историей театра всерьез увлекся. И во многом именно их с бабушкой разговоры помогли восстановить историю Аксиньи Можаевой.
Иван Петрович иногда заходит. Он не из театра, там совсем другое… Всегда сдержанный, молчаливый. У него жена с дочерью во время блокады, в одной из первых эвакуаций погибли. Так он один и живет. Сколько его помню: седой, в серой кепочке, в коричневом плаще… и с алыми розами. С ним об истории интересно поговорить. Он такое знает, о чем редко вслух рассказывают. И кстати, у него история представляется куда более связной, понятной, чем, например, в школьных учебниках.
О Зинаиде Станиславовне я уже говорила. Недавно она мне щенка подарила – черного королевского пуделя. Переполох был ужасный. Ни я, ни мама, ни бабушка о собаке даже не думали. А тут на тебе! Но что поделаешь, пошла в библиотеку набираться знаний… Щенка Томом назвали. Выгуливаю теперь. Чаще всего – у Михайловского замка. Там же познакомилась с другими собачниками, но самое интересное, – с женщиной, которая цирковыми собаками занимается, ухаживает за ними. Она-то и стала мне главным учителем в собачьих премудростях. Заодно и с дрессировкой помогает.
А вот из маминых знакомых, кажется, только Таисию Ивановну знаю. Это мамина однокурсница по институту культуры. Когда они учились, хрущевская «оттепель» была, и они вместе по разным выставкам, вечерам, встречам бегали, в кино, в театры, на танцы. Впрочем, с тех пор многое изменилось. Таисия Ивановна в аварию попала, инвалидом стала. Уже сидя в инвалидном кресле, в одиночку двух детей подняла. Мама с ней все больше по телефону общается. А больше я из маминых знакомых никого не знаю. Не любит она гостей домой приглашать. Кафе – вот ее стихия. А мне что в них делать?
Новая запись.
Удивительное дело: и бабушка, и мама – обе актрисы, и это могло бы добавить им сходства, но нет…
Бабушка говорит: «служить» в театре, а мама «работает» на эстраде.
Бабушка любит вспоминать своих учителей и тех, с кем работала, об учениках-студийцах из ДЮТа часто рассказывает, много читает и рассуждает о тех, чьи имена уже вписаны в историю театра. Особенно о Ермоловой. Мария Николаевна для нее всегда примером была, образчиком мастерства, человечности и скромности.
Маме, в основном, реакция зрителей интересна.
Глядя на бабушку, никогда не поверишь, что перед тобой настоящая актриса, – такая она простая, естественная, родная очень. Хоть дома, хоть на улице. Ну разве что одевается всегда элегантно, хотя и небогато. Зато и шьет как!
(Не просто шьет! Эскиз, выкройку, сметку, прострочку, утюжку – все сама… Несколько систем кройки знает. А как о них говорит! – заслушаться можно. Столько там премудростей, хитростей! – целая наука! Сам математик Чебышёв не зазорным считал над формулами кроя голову ломать! Как же не наука? Но это меня в сторону понесло. А с бабушкой всегда так. Начнешь с какой-нибудь мелочи, и столько всего открывается, что сам мир в Страну чудес превращается.)
Другое дело мама!.. На минутку во двор выскочит, и сразу видно, – актриса. По улице как царица идет. Разговаривает всегда громко, уверенно, зная, что ее слов ждут. И ведь действительно ждут. Только если за бабушкиными словами тайны мира скрываются, то за мамиными – чувства, волнения души, эмоции. А так как она еще и красавица, то смотрится все это завораживающе. И она это знает.
Оттого и речь у них разная. Бабушка всегда извинится, прежде чем «обеспокоить», никогда не прервет, а если прервут ее, всегда уступит. И говорит просто, прямо, без намеков, двусмысленностей… Мама любит напор, размах, многозначность, эффект…. Поэтому всё у нее «колоссально», «грандиозно», «феноменально», всё каламбуры с остротами... А то и вовсе сарказмы, которых я, при своих медленных мыслях не люблю.
Я спрашивала маму, почему они такие разные. Мама говорит, у бабушки воспитание старое, – воспитание, в котором человек не больше винтика представлялся. Да еще война, сталинские времена, – вот и вышло, что страха больше, чем души.
Я спрашивала бабушку, почему они такие разные. Бабушка говорит, что дети всегда лучше чувствуют время, охотнее идут ему навстречу, а она уж по старинке, как привыкла.