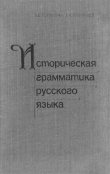Текст книги "Свои"
Автор книги: Инга Сухоцкая
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Другая девочка – Леночка. Грустная, нежная, задумчивая, с тихим взглядом больших серых глаз, она как будто тяготилась необходимостью жить среди людей, разговаривать, слушать, слышать. Что-то мучило ее настолько, что и будучи умненькой и старательной, училась она очень средне. Зато любила музыку, книги, и, казалось, только в них и забывала о своих печалях.
А вот Поленька без подружки осталась. Женечка к тому времени домой, в Ленинград, уехала, так что переписка – единственное, что им осталось. Зато уж и письма какие были! Тут тебе и строчки стихотворные, вензелями разукрашенные, и «рисунки на полях», и открыточка какая-нибудь. Ну, и конечно, о себе писали. Женя рассказывала, что после школы в музучилище поступать решила, и если с первого раза не получится, будет пытаться, пока не поступит. А Поле даже ответить было нечем: с будущим она не определилась, а настоящее уходило на школу и на Ликбез[62], которые не оставляли ни минуты свободного времени и, по ее мнению, не привносили в жизнь ничего интересного и заслуживающего внимания.
На курсы учителей по программе ликвидации безграмотности Полю за год до окончания школы пригласили. (Женя к тому времени уже покинула Саратов.) Отказываться Поля не стала, чтобы не испытывать судьбу, учитывая свое не вполне революционное происхождение, и несколько месяцев со вниманием слушала лекции методистов, добросовестно их записывала, перечитывала, повторяла. Наконец, напутственные речи от представителей комсомола, горисполкома и даже какого-то американского представителя выслушала, – и вперед.
Первые уроки еле жива от страха была. Ученики всё старше нее, – разное повидали, по-разному и держались: где прислушаются, где посмеются, где побранятся. Случалось, на занятия с малыми детьми приходили или в сопровождении ревнивых мужей, дабы доказать, что никаких безобразий на ликпункте[63] нет и быть не может. И вся эта взрослая, бойкая аудитория почтительно называла ее Полиной Васильевной и ждала от нее чего-то умного, правильного... А ей, девчонке, откуда было что взять? Даже школьные уроки по обществоведению вспоминались: неужели такими же бестолковыми были для Полиных учеников часы, проведенные в пункте.
Но со временем душевной крепости поприбавилось. Благо, среди подопечных много добрых и охотных до учебы попадалось, они-то и спасали. Да еще Зинаида Ивановна помогала. Вместе с Полей они придумывали ребусы, шарады, упражнения-загадки, чтобы пробудить во взрослых умах детскую любознательность.
И все-таки неприятного было больше.
Не нравилось Поле, что учить приходилось по букварю, от которого в злую дрожь бросало. О Пушкине, Фете, Тютчеве ни слова (до того дошло, что «Аленький цветочек» Аксакова запретили), зато сплошь «бары с рабами да бабы с арбами», – и то спасибо, а ведь и такие «просветители» были, что вовсе без школы обойтись предлагали, кино и театром довольствоваться.
Не о том и не так училась сама Поля; не о том и не так, по ее мнению, говорила с людьми русская литература; не о том и не так хотела бы она рассказать своим ученикам, тем более в Саратове, где при всем обилии языков, русская речь выделялась чистотой и правильностью. Спасибо Екатерине Второй. Не любила императрица тех, кто мог ей хоть в чем-то вызов бросить, – хоть в красоте, хоть в талантах, хоть в ее, царицы-матушки воображении. Вот и ссылала сюда неугодных фрейлин да придворных, а с ними утверждались в Саратове и столичные манеры, и столичный выговор. Тут уж и местная аристократия подтягивалась, и народ за собой подтягивала. Потом столыпинское губернаторство: земские школы, училища, создание Саратовского университета… К моменту революции начальную или, как теперь говорили, азбучную грамоту знали все, а из тех кто постарше, разных школ да пансионов более половины позаканчивали. А еще Высшие курсы, Университеты (сначала только Казанский, потом и Саратовский)!
А теперь возмущаются: до какой безграмотности царизм людей довел! А причем здесь царизм? Это после революции все школы, даже церковно-приходские, позакрывались, а в язык столько мутного, грязного, ругательного хлынуло, будто это не достояние духа человеческого, а яма помойная. Такой язык, понятное дело, и изучать не хочется.
Но чтобы всякие недоразумения заранее устранить, молодым учителям про классовый подход рассказывали, про сознательность пролетариата, про обиды угнетенных, и про то, что нет у них причин уважать угнетателей, а вот презирать и проклинать – полное право, потому и язык такой стал.
Только Поле одних схем мало, ей жизнь подавай, не ту что в теориях, а ту что вокруг. Классовый подход? А класс-то где? «пролетариат» этот самый, в интересах которого якобы вся революция затеяна? В царское время были, конечно, в Саратове сотни три ломовых да грузчиков, в Царицыне, пожалуй, и того больше, – да разве это «классом» назовешь? Это в 1920-ых пролетариат так разросся, что уж и классом стал. Многие тогда в рабочие записались, чтобы хлеба по карточкам больше получать, льготы разные выбивать, да и просто жить спокойнее. Но у такого бумажного пролетариата какая может быть сознательность? Вот идет один, кругленький, беленький, светящийся от сытости, – а по бумагам пролетарий; а другой, – руки натруженные, по всему видно, работяга, а сам, может, из мещан, а то и купеческого звания. Зато у сытенького и справочки правильные, и документики охранные, и удостоверения на любой вкус. А тот что трудяга, с утра до ночи вкалывает, – не до справочек ему… Вот и записывают во враги революции.
Не помогли с «классовым подходом» и ленинградские Можаевы разобраться.
Поля к тому времени школу закончила и по-прежнему в ликпункте работала. В Саратове Дни молодежи проводились. Вот Павла Матвеевича и пригласили как почетного гостя в торжествах поучаствовать, подрастающее поколение на верный путь наставить, на строительство социализма вдохновить, комсомольские билеты самым достойным вручить, в марксистском клубе с лекциями выступить. Словом, целая программа предполагалась… Вот уж кто должен был в этих вопросах лучше других понимать!
С Павлом Матвеевичем и бабушка Люба приехала. Уж как Зинаида Ивановна дорогих гостей ждала! Это ж подруга далекой юности и какой-никакой, но кузен!
Но встреча безрадостной получилась.
Сначала бабушка Люба одна пришла. У них с супругом уговор такой был: он с утра по мероприятиям отправляется, она – по знакомым, а позже у Зинаиды Ивановны встретятся. И пока Павел Матвеевич по митингам и встречам воодушевлял и представительствовал, женщины в можаевском флигельке прошлое вспоминали, о сегодняшнем говорили.
Бабушка Люба рассказывала, что живут они по-прежнему на Петроградской стороне, в доходном доме Можаева, но уплотнили, конечно; что дочь в Музее Революции работает, в Зимнем; на работу во дворец ходит, во как! что супруг дочери, зять то есть, исчез однажды, словно в воду канул, ходили слухи, что к белым подался, – чудом дочки не коснулось; Варе спасибо, замолвила словечко… а дочь снова Можаевой стала.
– А с Варей что? – поинтересовалась Зинаида Ивановна.
– У Вари своя жизнь. В Москве. У нас своя в Ленинграде. И вряд ли что-то изменится, – погрустнела бабушка Люба. – Горела, мечтала наша красавица… Музей Революции кое-что из ее вещей себе попросил. А теперь не выставляют. Как узнали, что беспартийная, все в запасники спрятали. Да и характером Варя плоха стала, со всеми перессорилась…
– А сколько страсти, сколько огня было, – задумалась Зинаида Ивановна. – Казалось бы, дождалась. Радоваться надо!
– Да чему радоваться?! Все только боишься чего-то. Время-то какое: никого не щадит, ни-ко-го, – испуганным шепотом произнесла бабушка Люба последнее слово и тут же вернулась к прежнему тону. – Вот и болит душа за детей, за внуков. Вот и думаешь, как бы им понадежнее устроиться. А как оно надежней, кто знает? У вас-то что?
Зинаида Ивановна, в свою очередь, рассказала о Горском, об отъезде Веры с Машенькой, об Аришиных успехах, о том, что Поля все не придумает, как дальше быть…
Тут как раз и Павел Матвеевич подошел. Был он в прекрасном, благостном настроении, чуть под хмельком и крайне расположен к разговорам. Поесть отказался («накормили уж!» – довольно похлопал он себя по животу), но почаевничать согласился. Поля тут же поставила ему один из самых красивых чайных приборов, оставшихся от можаевских сервизов, из белоснежного тонкого фарфора с золотистой росписью, и налила – как гость и просил, – крепкого, горячего чая. Павел Матвеевич одобрительно крякнул, и в ожидании, пока чай остынет, присоединился к общему разговору, а узнав про Полю, посоветовал ей прислониться как-нибудь к рабочему классу.
– Это как же, интересно? – озадачилась Зинаида Ивановна. – Ты-то сам прислонился ли? Кем сейчас значишься? Пролетарием? Служащим? Вот здороваешься и говоришь: я такой-то, такой-то… Ну-ка, что говоришь? Антонов наш, который Саратовский[64], сразу председателем исполкома представляется. Вопросов о происхождении не любит. Сам-то дворянских кровей, вот и не любит.
– Павлуша у нас член Общества бывших политзаключенных и ссыльнокаторжных. У них там все свое, заслужили. А мы как-нибудь, как-нибудь… – мягко, умиротворяюще упрашивала бабушка Люба.
Зинаида Ивановна хоть и с трудом, – однако промолчала, сдержалась, но чувствовалось, что разговор дальше не пойдет. И гости наскоро попрощалась.
Позже Поля, удивленная вспышкой гневливости у Зинаиды Ивановны, – всегда у той хватало мудрости и доброты, чтобы сглаживать, извинять, понимать, – попыталась выспросить, что же так возмутило бабушку. Та, хоть и не сразу, но открылась: «Из-за Любиньки все. Такая девушка была, романтичная, добрая, великодушная, отважная! А теперь смотрит на него затравленной собачкой, слово сказать боится, а он и рад. Как у них там что – не мое это дело. Но там ведь внучка растет. И с детства все это видит, и что с ней, с ее душой будет? Вот что больно, вот что противно». «Хотя, ради Любиньки, нужно было сдержаться, – добавила Зинаида Ивановна, – но не смогла»! И еще день или два на ее глаза то и дело наворачивались слезы.
А Поле только досадовать оставалось: и бабушку жалко, и нового ничего не узнала. Про благосклонность новых властей к пролетариату, – это она и так знала. В конце концов, именно наличие двух «пролетарских элементов», Данилыча и Петьки, спасало жителей флигелька от уплотнения.
Зато теперь Поля окончательно уверилась в том, что если и вступать на стезю учительства, – то не в это время, не с таким отношением к русскому языку.
Вот и оставалось присматриваться и примериваться, полагаясь на собственные впечатления, и делать собственные выводы. Увы! выводы эти оказывались невеселыми и по большей части бесполезными.
Получалось, по ее, Поленьки наблюдениям, что если и есть люди с ярко выраженными талантами, как та же Женя или с пониманием своей цели, как Ариша, то таких счастливчиков – единицы. И не всегда их природная одаренность так уж знаменательна.
Тому же Ивану Оттовичу ни способности, ни знания не помогли. Присоединись он красной профессуре, отрекись от братьев, – кто знает, как бы сложилась его жизнь, а теперь вот на кладбище работал, да совсем плох был.
Папа Васенька в голодные годы, откажись он от Бога, – так бы и читал свои лекции, и поощрения мукой да картошкой получал, и жили бы сытнее. Но он и отречься не захотел, и сколько лет дворником в больнице работал, – и никогда о своем решении не пожалел.
Нет, есть в человеке что-то такое, что иной раз посильнее талантов оказывается.
Больше всего нравилось Поле, как сочетались интересы и жизнь у бабушки. Понадобился вдове Герасимовой человек со школой помочь, – Зинаида Ивановна учительницей стала, да еще и в попечительский совет вошла. Чтобы сыну помогать, жизнь в Белой и в школе лучше устроить, фельдшерскую школу закончила. В сложную для Широких минуту вполне успешно мануфактурой занялась. И уже при Советах, при всей революционной безработице, санитаркой работала. И, по словам доктора Яблонского, даже врачи у нее иногда совета спрашивали, ее мнением интересовались. Увы! в себе Поля ни такой силы, ни такой многогранности не чувствовала.
Пойти туда, где не нужно было особых знаний, например, делопроизводителем или библиотекарем в «книжный трамвай», – слишком неуверенная, неверная это работа в такие-то времена, когда только «пролетарий» человеком считается.
А ничего не делать, как Машенька, – та и школу бросила, и работать не работала, замуж собиралась удачно выйти, – Поля тоже не хотела. Не такой она была красавицей, да и сидеть без дела – скучное это занятие.
***
В 1929-ом, в год «великого перелома»[65], Поля поступила в ФЗУ. Решение, при всей его неожиданности, вполне в духе времени.
Всего два года проучился, – и рабочая профессия в руках. А Поле и вовсе год учиться предстояло: хорошее школьное образование и требование времени помогли. И пусть занятия проходили по сокращенной, но не облегченной программе, по три-четыре урока за один, но вся страна спешила выполнить досрочно, свыше нормы, сверх ожидаемого…
«Пятилетку – в четыре года!»[66] – призывал Вождь. «Эн тео!»[67] – отвечал народ, ища не разнеженности и благополучия, а трудов, непосильных для человека, и побеждал время и нищету, разобщенность и разруху.
И нет, не революционеры прошлого с их отвлеченными мечтами, а эти люди, все жизни, все судьбы которых были искалечена революцией и войнами, нэповским разгулом и бесконечными чистками, преследованиями и подозрениями, – эти люди не просто поднимали страну из руин, они поднимали новую, могучую, великую державу.
Порядок объединял бравурными маршами и парадами, страхом и голодом, восхвалением новых героев и презрением к прежним, – но все-таки объединял.
Эта была победа над хаосом, победа жестокая и жесткая, но кто знает, могла ли она быть иной. Да, она обрекала невинных на смерть и голод; «перевоспитывала» душевно беспокойных годами лагерей; заставляла метаться от страха к страху, переопределяла крестьян в рабочих, перекраивала саму землю… Сколько ее, благословенной, под воду ушло! Вон, где Белая была – водохранилище устроили. А сколько по всей России таких «Белых»! Но кто не мечтал, чтобы улицы по вечерам освещались ярко как днем, а по рельсам мчались звонкие, неутомимые трамваи? А главное, чтобы еды, наконец, было вдоволь, чтобы тиф да холера навсегда ушли в прошлое, чтобы не нужно было волноваться за будущее детей. Кто не мечтал, чтобы пришла поскорее та самая светлая жизнь, ради которой были все эти усилия! Так, по крайней мере, объясняли газеты, призывая опережать и перевыполнять… И ради этого, ради новой счастливой жизни, уже закончив ФЗУ, Поля каждое утро шла на завод с пышным революционным названием, предъявляла на проходной пропуск и направлялась в химическую лабораторию.
По началу даже дойти до нужного корпуса казалось непросто, – все двигалось, громыхало, ехало, ревело. Чуть зазеваешься, – накричат, толкнут, посмеются: «Не спи, не спи, девушка. Тут пекло, тут металл плавят, это тебе не бумажки…».
«Причем здесь бумажки?» – удивлялась Поля. В лаборатории больше с колбами, спиртовками, микроскопами возиться приходилось, а иногда и в доменный цех сбегать случалось, пробу чугуна на анализ взять.
И все-таки бумажки… Вспоминалось ей почему-то, как она фигурки разные из бумаги складывала, когда только в Саратов приехали, и она учиться отказывалась. А потом ничего, навострилась. «Вот и с заводом все сложится, просто время нужно, терпение», – уговаривала себя Поля.
А скоро и сама знала, чутьем угадывала, где и как удобнее пройти, знала, что кричат не на нее, а по привычке перекрикивать шум, знала, что там, в лаборатории, ее ждет неизменное «доброе утро, Полина Васильевна». Так, в шутку, приветствовали ее бывшие ликбезовские ученики, так вскоре приветствовали и другие заводчане.
Поля, по началу конфузилась: ну какая из нее Полина Васильевна? Полтора метра ростом, и по возрасту… некоторые ее сверстницы еще в школе учатся. Но со временем примирилась и даже благодарна была, рассудив, что «Полина Васильевна» звучит лучше, чем «товарищ Поля» или «Васильна». Тем более что прошлое учителя действительно давало себя знать. Для рабочих и без ликбеза много разных школ, курсов, форм обучения предполагалось. Но учили везде по-разному, а времени как следует во все вникнуть не хватало. Вот и подходили к Полине Васильевне прямо на заводе выяснить, спросить, посоветоваться, подходили в обед, после работы, и когда минутка свободная выпадет.
Потом и вовсе постановили при заводском клубе специальную группу создать: «За грамотную речь». Там учились не просто читать, а читать вдумчиво, с выражением (как Зинаида Ивановна учила когда-то Полю), разбирали тексты по словам, по предложениям. Книги только из заводской библиотеки брали, дабы избежать возможных недовольств со стороны многочисленных кураторов.
Так сама жизнь подправила выбор Поли, непонятный для Можаевых и даже для нее самой.
А вскоре ни объяснений, ни оправданий не требовалось. В Саратов опять пришел голод. Старики говорили, за «немую» пасху 1930-го расплата: такое празднество для православных! – и без колокольного звона! Не захотели люди восславить Господа, своими силами обойтись решили, – вот ни с чем и остались.
Самым страшным 1931-ый был – год засухи. Речки тогда обмелели, даже рогоз иссох. Где раньше ягоды собирали, даже мха не было. Сушь стояла убийственная, всю-то зелень как раскаленным утюгом выжигало, если где сныть-лебеду найти удавалось, так то за великое счастье было! Муку из перекати-поля толкли. Ремни варили, опилки да хвою настаивали, в ход кора и корни шли. И это в городе. Про деревню и слушать страшно было, до чего там голод людей доводил. И это в деревне-то, на земле!
Не прогадала Зинаида Ивановна, когда уговорила папу Васеньку в Саратов переехать. Не прогадала и Поля со своим выбором. Карточки у нее, конечно, не такими «сытными», как у рабочих доменного цеха были, но вместе с Петей и Данилычем хлеба они получали столько, что всем семейством с голодом кое-как справлялись.
И только Зинаида Ивановна не выдержала. В 1932-ьем умерла. Но тут скорее возраст сказался. Она ведь очень немолодой была, хотя назвать ее ветхой старухой язык бы не повернулся, – такую ясность ума до последнего дня сохраняла.
Никаких богатств Зинаида Ивановна не оставила. Не таким человеком была, чтобы в голод о сокровищах печься. Заветная коробка с «семейными архивами»: с Аксиньиной куклой, с гравюрой из типографии Герасима, с несколькими акварелями, перстень, подаренный Николаем Сергеевичем в честь рождения сына, связка нотных листов да еще несколько заветных безделушек – вот, кажется, и все, что осталось домочадцам в наследство.
А еще что-то свое, сокровенное связывалось с Зинаидой Ивановной у каждого из Можаевых.
Петька смог, пережив свои беды, не ожесточиться, не наделать глупостей и уже после гражданской войны закончить транспортный политехникум.
Данилыч… Кто б еще отнесся к нему, как господа Широких? А после революции, после того как их дело прикрыли, разве не Зинаида Ивановна подвела Данилыча к мысли об обучении в подходящем училище, не она ли сделала все, чтоб он мог уже немолодым человеком подготовиться и поступить в топографический техникум. Даже фамилию Можаевых разрешила взять, и теперь он работал в союзной геологической конторе.
Ариша… Несмотря ни на что, она всегда следовала однажды избранным путем. В самое трудное время чудесным образом и благодаря Зинаиде Ивановне появлялись у нее необходимые книги, учебники, программки. И вот теперь, окончив медтехникум, Арина поступила на медицинский факультет университета.
Поля… Поля умудрилась получить неплохое, хотя и смешанное образование (тут и домашние занятия, и школа), а позже могла пребывать в своих рассеянных мыслях о будущем, принимая совершенно неожиданные, хоть и оправданные жизнью, решения. Но главным было даже не это.
Поля ведь не в сказке жила, – знала, сколько нехорошего в жизни творится.
Аришину подругу Леночку перед самым окончанием техникума отчислили без объяснения причин, а на словах дали понять, что все дело в неподходящей биографии. Мало того, обязали все ее семейство на Север переехать. Тогда же Леночка, вместе с отцом и тетей, к Можаевым попрощаться приходила, а Поля причину всех ее прежних печалей узнала. Выяснилось, что все то время, пока Лена в техникуме училась, отец ее в лагере сидел, а дочь с сестрой (с тетей Леночки) его возращения ждали. И вот вернулся, наконец, узник долгожданный, – и можно бы эту страницу перевернуть и в прошлом оставить. Ан-нет, тут-то Леночку и отчислили. Да еще неизвестно куда вместе со всем семейством отправиться приказали. Посидели Можаевы вместе с гостями, погрустили напоследок, а помочь-то и нечем. Так, в расстроенных чувствах и расстались. И только один папа Васенька почему-то уверен был, что все у них хорошо будет.
Товарищ Ванеев после возвращения из экспедиции сначала в немилость властей впал, потом арестован был. Девочки пробовали и насчет его будущего у папы Васеньки вызнать, раз уж предсказатель такой нашелся, но тот кратко ответил: «покаяться бы рабу Божьему да собороваться», а Данилыч метнул на Полю с Аришей такой острый, сердитый взгляд, что больше они ни о ком не выпытывали.
Да что товарищ Ванеев! Того видного большевика, что в Саратове влияние церкви подорвать требовал, – врагом народа объявили и из страны выслали.
Словом, видела Поля и доброе, и злое. Видела, как меняли людей страх и голод, как одни грызунами становились, где хитростью, где подлостью выгрызая себе лучшую долю, а другие – Человеками оставались, последним делились, слабейшим помогали и ни на что, ни на кого не жаловались. Видела, и конечно, тоже Человеком хотела стать. А для этого и учиться надо было у Человеков, у таких как Зинаида Ивановна.
Ведь это благодаря ей обитатели флигелька таким единодушием, таким единоустроением и бесхлебье, и нищету, и все беды вместе переживали. И в голодные дни, встретив знакомого, – к себе его приглашали. Угостить нечем было, – так водички теплой предлагали, а главное, всегда время и силы находили выслушать, успокоить. И всегда-то этих сил и на себя, и на других хватало. Может, оттого и не ожесточались, не остудевали их сердца. Может, это и позволяло им двигаться дальше, не застревая в обидах, унынии и печали.
Хоронили Зинаиду Ивановну там же, в Саратове. Попрощаться из больницы пришли, из учителей, даже из знакомых Николая Сергеевича. А вот Ивана Оттовича не было. Может, появляться на людях лишний раз не хотел, а может, и случилось что, кто знает… Постояли молча, папа Васенька молитв вслух читать не стал, чтобы пищи для сплетен не давать, – только про себя что-то побормотал тихонько. А как с кладбища уходили, выпивошки какие-то вслед злое цыркнули: «А важные, важные-то какие! Ну сдохла буржуйка, – тудыть ей дорога». Поля как услышала, – за Аришину руку ухватилась. Но та руку высвободила, тепло и крепко приобняла Полю, как бабушка когда-то, и шепнула: «не оскорбляй своего слуха, не омрачай светлую память». Так они дальше и пошагали, прильнув друг к другу, как будто вместе, вдвоем охраняли горечь потери от чужого пригляда да злых ветров.
Позже выразить соболезнования кто только ни приходил.
Последней помянуть Зинаиду Ивановну приезжала Машенька Горская с супругом Антоном Андреевичем. Вернее, он по делам в Саратов ездил, а Маша заодно с ним увязалась, – родных повидать и самой показаться. А почему нет? Красивой, ухоженной молодой женщине зачем от восхищенных взглядов скрываться? Правда, с Можаевыми Антон Андреевич заранее решил не сближаться. Чем больше родни, – тем больше хлопот, тем больше обязанностей и неприятностей жди. Сегодня благонадежны, а завтра? Маша все поняла, с разумным мужем спорить не стала, вроде даже наоборот, умилилась его жизненной мудрости, даже в лоб поцеловала: умненький же у меня супруженька. И оба в который раз порадовались, что к вопросу брака подошли вполне практически, и теперь были довольны, может, и не слишком открытым, зато достаточно уверенным существованием. Особенно как взглянуть на голодуху да бедность вокруг!
«Да и вам не поздно все исправить, – убеждала Машенька Полю. – Переедете в Ригу, и ни голода вам, ни свалки за окнами. Мужчины если помогут… А они помогут, куда денутся!.. – уверенно смеялась она. – Ариша за своей медициной в Европу уедет. Глядишь, там и останется. А ты про завод свой забудешь. Жениха не хуже Антоши подберем! Сделаешь модную причесочку, шляпку наденешь, пальтишко шелковое, чулочки со швом и пяточкой, а то и нейлоновые достанем, туфельки такие подберем, Золушка обзавидуется! И вот они у нас где!» – распалялось ее воображение, и всякие печали отступали, и в душе пробуждалась привычная веселость.
Полина же и скорби своей не забывала, и за Машеньку искренне радовалась. Разве не за эту ее легкость тянулась она к сестре? А что слишком разными стали, – еще бы! столько лет врозь прожито! И хотя обеим страстно хотелось сократить это расстояние, – как только командировка Антона Андреевича закончилась, девушки ни секунды не задумываясь вернулись каждая к своей реальности. Сказки сказками, но у «рижан» (так Можаевы иногда называли семейство Горских) – своя суматоха, у Можаевых – своя.
Меж тем в сердце Поли поселилось необоримое уныние. Она вспоминала жизнерадостность Маши, сравнивала с собой, и понимала, что уже забыла, когда сама чувствовала в себе такую же безмятежность. И не в женихах, не в шляпках дело, – а в том, что сама способность радоваться, казалось, ушла из ее души. Но разве не радовалась она за своих учеников, разгадавших вдруг ребус или шараду? Ведь вместе как дети малые смеялись! Разве не умилялась, созерцая посиделки папеньки с товарищем Ванеевым? И Поле всем существом хотелось снова ощутить такую же радость. Такую же или другую, – только чтоб сердце до краев счастьем и весельем полнилось. Но она оглядывалась, и что бы ни попадалось ей на глаза, – все говорило о грустном.
Василий Николаевич как будто терял последний ум, исходясь в своих молитвах, и все более походя на призрак. Ходил, бубнил несуразное, последнее время и вовсе сердитое слышалось… Ариша объясняла, что он с уходом Зинаиды Ивановны справиться не может.
Поля кивала, но даже голос сестры навевал ей печальные мысли. В памяти всплывал образ Леночки, ее грустные серые глаза, суровое слово «Север»… – «и что это папа Васенька придумал, что все у них хорошо будет?»
И даже неожиданное преображение свалки металлолома в обычный уютный дворик… (Сам дом Широких стал теперь обычным жилым домом, прежний двор разделили надвое. Меньшая часть, с прежней лавкой и складами, отошла «Вторчермету», а большая – была расчищена и передана жильцам, и уже скоро в нем появились газоны, кусты, скамейки, веревки для сушки белья)… увы, вся эта «окультуренность» не могла рассеять Полиной тоски. Она смотрела на этот уют, на «цветущее предгорье» и вспоминалось, как вдруг однажды поседела Зинаида Ивановна, когда исчезла саратовская родня, как онемела после тамбовских событий, как на похоронах брякнул кто-то «Сдохла буржуйка», – и становилось больно, невыносимо больно за бабушку, за папу Васеньку, за Петьку, за всех хороших людей…
Невесело было и на заводе. Поля уже приучилась видеть в нем ту мощь, к которой упорно рвалась молодая страна, и даже уважать эту рукотворную стихию, которая обрушивалась на своих творцов грохотом стремительных вагонеток, утробным гулом вулканоподобных домен, рычанием готовых взорваться труб, облаками пыли и чада, – ведь только так и можно было насытить страну чугуном и сталью. Полюбила Поля и прохладную, стеклянную тишь своей лаборатории, ее серые, высокие, узкие, созерцательно устремленные внутрь себя шкафчики и царство приборов, напоминавших смешных, нелепых человечков, хранивших, однако, великие тайны, – «алхимию» той величавой стихии, что бушевала рядом.
Но в последнее время не стихия, не ее тайны были главным содержанием заводской жизни, а мясорубка кадровых «чисток», выявлявшая не только «врагов» и «изменников», но и подлость доносчиков, клеветников, лизоблюдов, и это было особенно противно. Тогда же была распущена группа «грамотеев». В комнатах, где раньше вчитывались и вдумывались в значения и смыслы, теперь вершились товарищеские, комсомольские и партийные суды.
Угасла и жизнь заводского клуба, ограниченная отныне творческими встречами с идеологическими проверенными людьми и коллективами, говорившими одинаково скучно, безлико, но «правильно». А какие люди, какие поэты выступали здесь раньше: вечно юный Жаров, субтильный романтик в поисках славы; пожилой, маленький Стриков, словно не тронутый революцией, всегда душистый, бритый, с розовой припудренной лысинкой; клочной, неопрятный последователь Алексея Крученых с невыговариваемой фамилией и милый, скромный поэт Костя Чащин, похожий на молодого добросовестного служащего… А теперь всё как будто ушло в никуда. И даже следа не оставило.
После и чистки прошли, и на других заводах секции, студии, ТРАМы[68] создаваться стали, в РНП[69] – новый театр открылся, с двумя, русской и немецкой, труппами. Со всего мира туда любопытствующие нагрянули: режиссеры, актеры, литераторы. А на заводе с пышным революционным названием – тишина. Это как же так вышло?
Надо сказать, что открытие Немгостеатра в левобережном Энгельсе долго оставалось для заводчан событием незамеченным. Во-первых, интересного и в правобережье хватало: то завод новый заложат, то комбинат, то столовую откроют, то кинематограф новый … А во-вторых, Энгельс, бывший Покровск, теперь столицей Республики немцев Поволжья стал, столицей бывших немецких колонок. А там и заботы, и газеты, и даже язык, – все свое.
Но со временем этот театр все больше внимания привлекать стал: в том-то и дело, что обычные, хоть и немецкие, колонисты, – те же крестьяне, те же рабочие, те же трудяги, и на тебе! Первая немецкая труппа. Будто заводчане хуже!
Забеспокоилось в людях творческое начало, ожило, закипело, ну и решили однажды собственную постановку делать, причем строго своими силами, разве для сценария кого-то со стороны пригласить. Затея была дерзкой, пожалуй, даже авантюрной, но заручившись согласием молодежного и клубного актива, – решили попробовать.
Для работы над текстом пригласили журналиста Алекса Руфа и поэта Константина Чащина (того самого, который в клубе когда-то выступал). Алекс за драматургию отвечал, за диалоги и «терминологию», а Костя – за монологи и стихи. При этом текст создавался «с учетом общих пожеланий». А потому в первые же дни решили, что действо будет происходить на заводе (отсюда и необходимость «терминологии»).