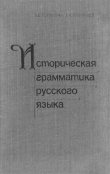Текст книги "Свои"
Автор книги: Инга Сухоцкая
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Повесть «СВОИ»
Из дневников Зины I. Детство
Первая запись.
Зовут меня Зина, Зинаида Яновна Дивнич.
А это – мой личный дневник.
Живу я с мамой и бабушкой.
Наша мама – Фрида Александровна Дивнич. Самая красивая, умная, хорошая мама на свете! Она работает актрисой в Ленконцерте, много гастролирует, и дома бывает редко. Такая у нас мамочка! – вся в работе, в разъездах. Труженица наша! Это потому что она очень талантливая и люди ее любят и ждут. Я тоже ее люблю, но очень часто расстраиваю: то троек нахватаю, то замечаний. И только мы всё обсудим, мои недостатки разберем, – она уезжает. А мы с бабушкой остаемся.
Моя бабушка, по маминой линии, – Полина Васильевна Шефер, в девичестве Можаева. Мы с ней очень дружим, книжки разные вместе читаем, стихи разучиваем, фигурки из бумаги складывать любим, в Летнем саду гулять. Он бабушке Саратов напоминает (город ее юности). Только у нас, в Ленинграде – река-Нева, а в Саратове – Волга, такая широкая, что с одного берега другого почти не видно, разве на Соколову гору забраться. Нева поуже будет: Васильевский остров, Петроградка, Выборгская сторона – всё как на ладони.
Зато и мостов у нас больше, – расстояния поменьше, оттого и строить легче, да и Ленинград когда-то столицей был, вернее, тогда он Санкт-Петербургом назывался. А через Волгу мост проложить – это сколько сил, сколько времени нужно! Бабушка одно время жила на правом берегу, в самом Саратове, а работала на левом, в городе Энгельсе. Там же, в левобережье, дед, Александр Шефер, жил, – вот и перебирались летом на речном трамвайчике или на пароме, а зимой – на лыжах или санях с длинными полозьями, у нас их финскими называют.
Но больше всего люблю, когда бабушка о Можаевых рассказывает. Особенно о Зинаиде Ивановне Можаевой. Это бабушкина бабушка. «Зинаида Яновна» (это меня так зовут) звучит почти как «Зинаида Ивановна», но сколько сил, ума и доброты было в Зинаиде Ивановне! – я совсем не такая. И названа в честь Зинаиды Станиславовны.
Зинаида Станиславовна – тетя моего отца. Живет она в Москве, тоже актриса. У нас бывает редко а жаль. Такая она необычная и замечательная. Так разговаривает, так двигается, так ведет себя, – такими, наверное, аристократки были. Бабушка и говорит, что в их семействе, давным-давно, когда те еще в Санкт-Петербурге жили, кто-то из барышень в Смольном институте воспитывался, – отсюда и манеры, и речь, и вкус. И удивительное сочетание душевной живости и благожелательной ровности. Так что даже когда Зинаида Станиславовна замечания делает, – обидно не бывает, а только легче становится, потому что сразу понимаешь, в чем ошиблась.
Одно мне с ней не нравится, – когда она про отца рассказывать начинает. Мне кажется, я должна на эти рассказы как-то отзываться. Увы! Каким бы он ни был милым и душевным человеком, что бы ни было у них с мамой, и как бы ни жил он сейчас, – мне это все равно. Если он и был в моей жизни, – то в далеком, бессознательном детстве. Больше я его не видела, не встречала, никаких чувств к нему у меня нет, и пишу про него только потому, что про маму написала, про бабушку написала, даже Зинаиду Станиславовну не забыла, вроде и про отца надо. А нечего. Вот я и называю Зинаиду Станиславовну бабушкиной знакомой. Мне так понятнее.
Теперь о том, зачем мне этот дневник.
Я плохо соображаю. Медленно и туго. Читать, слушать – это с удовольствием, а самой думать, связывать, делить на главное и неглавное, даже ясно высказываться – редко получается.
Мысли, если и появляются в моей голове, то им в ней как будто темно, они как будто не замечают друг друга – не встречаются, не дружатся, не спорят, просто обозначаются призрачными домыслами в тумане неведения и растворяются в нем. Если какая и задержится, не всегда я ее до конца понять могу, не всегда словами выразить умею. Мама правильно говорит: попади я в Сад Пятнадцати камней, – так и не решила бы, как его назвать Сад Пятнадцати камней или Четырнадцати? или Четырнадцати видимых и Одного невидимого? Сама бы запуталась и других бы запутала. И это когда мысль одна. А когда мыслей много, я и вовсе теряюсь, будто немею. А ведь они должны развиваться, изменяться, спорить, уточнять друг друга. И мне бы хотелось научиться так думать, самой думать. Ведь если этого не уметь, – символы и знамена мусором показаться могут. Или наоборот, ухватишься за яркую соринку, будто в ней смысл какой-то есть, всяких глупостей вокруг нее нагородишь, а она соринка и есть. Ненужная, лишняя, грязная.
Врачи говорят, мое «недоумие» с болезнью может быть связано, – с эпилепсией. Я им верю, но мне от этого не легче. А чтобы было легче, посоветовали дневник вести. Разные мысли и впечатления от руки записывать. Можно и картинки вклеивать, и разноцветные надписи добавлять, но главное, – писать больше, чтобы пальцы работали. Говорят, это для головы хорошо, – сообразительность развивает.
Вот и завела дневник. Вдруг и правда поможет, – и думать, и писать лучше стану, а то с правописанием и то не всегда справляюсь, – иногда буквы при письме пропускаю, иногда местами их меняю, а потом жалуюсь, что ясности в голове не хватает.
Новая запись.
«Я – поэт. Этим и интересен», – писал Маяковский. Я не поэт. Пишу в дневник для себя. Ничего интересного.
«Чужое – мое сокровище», – писал Батюшков. И мне это ближе.
Мама говорит, у меня нет чувства собственного достоинства. Она права, я даже не понимаю, в чем оно состоит, это чувство. Для начала, что в человеке собственного? Он рождается в теле, которое дала ему природа, приходит в мир, сотворенный и обустроенный до него, перенимает язык, на котором говорят дома, во дворе, в детском саду, набирается знаний из написанных кем-то учебников и книг. Что еще бывает собственного? Одежда? У нас бабушка прекрасно шьет, но ткань все равно покупаем. А я только воротнички к форме пришиваю и дырки заделываю, опять же потому что бабушка научила. Тут мое собственное где-то есть? Воротничок и тот покупной.
Теперь о достоинстве. С одной стороны, это что-то близкое к личным заслугам: «достоин высокого звания», «достойный товарищ», «достоин высоких наград» – достойный по делам, по поведению, то есть заслужил человек. С другой стороны, – это не только о заслугах. «Достойные сыны своего Отечества» предполагают наличие Отечества, «достойные продолжатели» есть там, где были достойные начинатели. Тут и страна, и славное прошлое, и семья, – то, чего человек заслужить не мог, что уже до него, а точней, без него сложилось.
Мне трудно, невозможно представить себе, чтобы я жила как-то иначе, чтобы у меня были другие мама и бабушка, и чтобы я их любила так же, как люблю сейчас своих маму и бабушку. И какой бы глупой я ни была, я стараюсь делать для них все что могу: радовать их, поддерживать – но часто этого оказывается не достаточно, чтобы быть достойной дочерью. А значит, есть в чувстве собственного достоинства что-то такое, чего я пока не улавливаю. А надо бы. Об этом чувстве где только ни говорят: по радио, в газетах, в книжках, и пока все это остается для меня непонятным.
Ой! А какая история у меня однажды с лентами приключилась! Можно сказать, история с пионерией.
Однажды Ирина Дмитриевна, бабушкина знакомая, учительница русского языка и литературы, которая в Риге живет, подарила мне шелковые ленты для школы, коричневые и белые. Настоящие шелковые ленты! двухслойные, сшитые изнутри. В Ленинграде я такие видела только на портретах гимназисток. Как же мне эти ленты нравились! Как я за ними ухаживала, как осторожно стирала, отпаривала, – это же шелк! А в школе в те дни о приеме в пионеры заговорили. Рассказывали, что пионеры достойными должны быть, учиться хорошо, взрослых слушаться. Я, конечно, сразу «тормозить» начала: неужели нельзя быть хорошим без того, чтобы в пионеры идти. Но другие, видимо, понимали, и радовались. И чтоб не портить этого веселья, я свои вопросы при себе оставила.
Принимать в пионеры собирались торжественно. Девочкам сказали явиться в белых фартуках и с белыми капроновыми бантами. А мне эти банты страшно не нравились. Я и надела любимые шелковые! На том праздник для меня и кончился.
Одетых не по форме к торжеству не допустили. Пионерские значки на следующий день после уроков выдали, – и даже без выговоров, без вызовов родителей в школу обошлось, так что никто почти не расстроился. Разве совсем чуть-чуть. А я все не могла понять: неужели чувство собственного достоинства от правильных бантиков зависит.
И до сих пор это чувство – загадка для меня. Один свою грубость разговорами об этом чувстве прикрывает. Другой, – человек и правда уважаемый, вежливый, мудрый, ведет себя сдержанно, скромно, никому не мешает, не грубит, – а его оттолкнут, обзовут, высмеют. Но тут уж каждый сам решает, каким ему быть и насколько крепко его решение.
Новая запись.
Расскажу-ка я о своих «сокровищах».
Живем мы в центре города, на Литейном проспекте. Тут тебе и пыль, и автобусы с машинами, и запах бензина, и дым от выхлопных труб. Редко где зеленюшка встретится – деревце или кустик, асфальтом, металлом и резиной теснимые. А у нас не только двор зеленый. У нас за окном – терраса, огромная-преогромная, почти как маленькая комната, только под открытым небом. Такое вот сокровище!
Сколько себя помню, там все время что-то росло. Лучок, укропчик, любисток – на вкус та же петрушка, только многолетняя, каждый год сажать не надо. Но главное, конечно, цветы. Вдоль дальней решетки – высокой густой стеной мамины любимые золотые шары. Они ей детство напоминают, Ригу. По вечерам вокруг них хвостики тумана вьются. Недолго видны, тают быстро, – но так это красиво, так сказочно, что я даже ботанику полюбила. И наверное, хотела бы стать биологом, когда вырасту. А пока мы с бабушкой землю таскаем, деревянные ящики, ведра, тазы – всё, в чем растениям устроиться можно. Цветов-то у нас хватает. Терраса на теплом подвале расположена, на юг выходит, даже пионы хорошо растут. Их мы в честь Зинаиды Ивановны (бабушкиной бабушки) посадили. В честь папы Васеньки (Василия Николаевича Можаева, бабушкиного отца и моего прадеда) – васильки разноцветные, махровые, очень крупные. В честь моего деда, Александра Шефера, – цветы хоть и не броские, зато ароматные, – душистый табак. Сам дед из немцев Поволжья был. Бабушка говорит, там эти цветы очень любили. Он на войну добровольцем ушел, а в 1943-ьем погиб. Я о нем только из рассказов бабушки и знаю. Зато благодаря цветам не забываю.
А вот с бабушкиными любимыми розами просто беда! Долго не принимались. Однажды принялись, и шли хорошо, дружно, и первые цветы красные-красные были, как бабушка мечтала, – но недолго мы радовались. Как-то ночью хулиганы на террасу забрались, все цветы переломали, а розовый куст совсем погубили. Так что бабушка космеей ограничивается, «красотками» ее называет. Это у Можаевых так говорили.
Бывает, возимся на террасе, а бабушка нет-нет и вспомнит что-нибудь интересненькое из прошлого, мне бы записать, собрать все воедино – да все не случалось. А тут с дневником этим ерунда какая-то. Не получилось у меня свои мысли записывать, – глупые они, неинтересные. Вот и решила семейные истории, бабушкины воспоминания, фотографии старые, вырезки – все в один дневник собирать. Потом можно будет записи по времени выстроить, а там и целая история получится, где каждый Можаев свое место займет, почти как в книгах бывает. Только книги выдумываются, а Можаевы действительно жили. И для меня – не просто жили. Не будь их, и меня бы не было.
И в этом смысле «Можаевы – мое сокровище».
ТАМБОВСКИЕ ГЛАВЫ
Глава 1. Дикое поле
«Дикое поле» – звучит нормально. «Дикое поле» – обычно звучит. Но если вслушаться, если вдуматься, не все с этим звучанием гладко. «Поле», – каким оно по-русски бывает? Бескрайним, ровным, хлебным, гречишным… Все как будто взгляда человеческого ждет, рук умелых да сильных. Какое же «дикое»? Дикими у нас степь бесплодную, зверя лютого да человека неприкаянного называют. Про поле – «чистое» говорят, «раздольное».
Расступался густой туман,
Расстилалось широко поле.
Запахать бы его, да нет сохи,
А была бы соха, – нет пахаря,
И кручинилась земля-матушка,
Что слезой, росой умывалася.
Утереть бы слезу, да некому,
Лишь туманы, густые, душные
Все печали возносят трепетно
К небесам премудрым, преласковым.
От Москвы до Казани, от Казани по Волге вниз до Царицына, до Астрахани, оттуда по землям Поволжья с Придоньем до Крыма и Белграда, и от Белграда вверх, вдоль границы с Речью Посполитой, до самой Москвы распростерлось безлюдное поле. Столько земли нетронутой, – виданое ли дело?! Да ведь одной земли для хозяйства мало. Ей работник нужен, а работнику – защитник. Вот и жались мужики к городам да крепостям, а те – к Новгороду.
А что Новгород? Новгород не хлебородством, – торговлей велик был. Со всей Руси товары к нему стекались, со всех сторон купцы заморские съезжались. А вот земля урожаями не баловала, постоянного ухода требовала. Оттого всяк вершок со тщанием урабатывали и духов как след задабривали. Да видно, плохо задабривали, что беда за бедой посыпались: то сухмень, то ливни да заморозки, то землю трясет, то солнце средь бела дня гаснет… В городе мор начался, бесхлебье, – люди на Волгу и подались. Там просторы другие: земли и воды всем хватает.
Вот ушкуйники[1] новгородские,
Кто в ладьях, кто в долбленках-лодочках,
Кто с товаром да ратной свитою,
Кто с сумой да с пустой утробою,
Все по Волге шли, повдоль берега:
Кто искал себе места торгового,
Кто спасался от голода лютого;
Где одни находили пристанище,
Там другие шли себе далее,
Но от Волги уйти не думали,
От кормилицы-благодетельницы.
Как присмотрят место, – обустраиваются. Кто побогаче дело заводит, торг открывает, – ему от реки уходить глупо. Кто поскромнее в работники идет, хозяина себе ищет, с другими мужичками сговаривается. Человекам во множестве жить способнее: и веселей, и спокойнее. Но слаб человек, слаб и ко греху удобопреклонен. Где одни честностью да терпением невзгоды одолевают, – другие на хитрость да жадность полагаются, а то и вовсе воровские мысли вынашивают. Которые в добродетели устоять умеют, – тем от людей почет и уважение, а которые в соблазны нечестивые впадают, – тем осуда[2] и недоверие. Это дело ясное. Да как ты сразу все угадаешь, чтобы добрую душу приветить, а злочинную отвратить. И без разбойников неспокойно в Поволжье. Пустынно да неспокойно.
Вот из ханств степняки-кочевники
Ястребами, пыльными бурями
Возлютуют, взовьются, вскинутся,
Поле вмиг одолеют ровное,
Чтоб разграбить, сжить, сдушегубствовать,
Ни детей, ни жен не жалеючи,
Возвращаются с новой добычею
Иль до смерти едва не убитыми,
След кропя слезами да кровию.
Плачь-оплакивай, земля-матушка,
Изнапащенных, обездоленных,
Искалеченных, полоненных!
Долго от них на Руси покоя не было. Против князей русских и с чарами, и с подличанием, и с оружием выступали. Но сколько ты ни хитрозлобствуй, сколько соседей ни ссорь, ни стравливай, – рано или поздно они же против тебя и объединятся. А пока ты по чужим землям гостейничаешь, дом без хозяина остается, и уже не соседи, а свои же, домашние, в распрях тонут. Словом, как были ханства в силе, не до земледелия им было, не та жизнь, чтоб поля боронить[3] да каши варить, а как ослабли, – тем более не до хлебопашества стало. Всё за власть спорили, пока и вовсе могущества не лишились. Разве на город какой приволжский, на склады да пристани с набегом обрушатся, да ведь такими вылазками хорошенько не проживешь и людей против себя настроишь.
Только ханства успокоились, Речь Посполитая взволновалась: как бы ей земли русские, пустынные да бескрайние, за собой на века оставить.
Вот из дальней Польши ли Франции,
В жупане из сукна диковинна,
Господин хороший поезживал,
На коне сидел не по-нашенски,
На просторы смотрел прищурившись,
Где какой ручеек ли, всхолмие, —
Все на карту себе записывал,
Чтобы знали в Польше ли Франции,
Что пустынно здесь, дух погибельный,
Не поля, чтоб пахать да сеять их,
Не земля, чтобы жить да множиться.
И не стало поле широкое
Помогать господину хорошему,
Отвратило неведомой силою:
Ни к чему тебе тут поезживать,
Ни к чему тут искать-выискивать,
Возвращайся-ка ты, родименький,
То ли в Польшу, а то ли во Францию.
Мсье Боплана[4] такой поворот дел не слишком расстроил. Человек он был хотя и военный, и ляхам служил, но все-таки человек. Душа французская, небось, домой просилась, туда, где при Дворе на клавесинах и лютнях музицировали, а самый угрюмый голоштанный капитан пехоты на последний экю кружавчики покупал, чтобы к форме, к шляпе или воротнику, пришпандорить.
А тут – поле, поле, поле… Неухоженное, однообразное, угнетающее бескрайностью и безлюдьем. Хоть день, хоть неделю, хоть пеш, хоть верхом иди, – те же унылые виды, те же пыль да грязь под ногами, нет бы тропочка хоженая попалась! Так в картах и написал: место пустынное. По-латыни «Loca deserta». То есть никак не назвал. Так и ушли его карты в Речь Посполитую. Это там русские земли польскими объявить торопились. Это там «Loca deserta» в «Дикое поле» превратилось. Это там решено было, что коли европейское величие от кочевников защищать, где как ни в Поле заграждения строить: захочет убивец «в гости» сунуться, – до городов европейских не достанет, а коли голову на подступах сложит, – не жаль ни его, ни земли пустынной. И приказали поляки мсье инженеру места подходящие под рвы да крепости приискивать.
И надо сказать, молодцом этот мсье оказался: крепостей несколько заложил. А что пшекам[5] служил, – какой с чужестранца спрос, если свои же, русские князья да бояре Польского короля на Московский престол чуть было не возвели. И тут Господь упас. Сначала русские ополченцы помогли, – боярам и господам пановным хорошенечко все объяснили. А вскоре и вовсе ослабла Речь Посполитая. Тут-то мсье Боплан на родину и отбыл. Земли описал, крепости заложил и отбыл.
Широка ты, земля привольная,
Да не с каждым гостем приветлива,
Вот и нет тебе утешения
От заблудшего да заезжего.
Лишь туманы, густые, душные,
Все кручины твои баюкают,
Все печали возносят трепетно
К небесам, премудрым, преласковым.
Все-то видят они, все-то ведают,
Всякой грусти найдут утешение.
Не печалуйся, земля-матушка,
Отряхни свои слезки жемчужные,
Уж идут к тебе гости званые,
Уж несут тебе дары чудные.
Впереди – мужи светоносные,
Сердцем чисты, умом богомыслены,
Божьей милостью, крестной силою
Путь творят для идущих-следующих.
По лесам и пещерам, не славы ради, а по благословению Божию, заселяли Поле иноки-чернецы. Чуть пройдут, – часовенку поставят, и сами при ней остаются.
Местные к ним как зверьки присматривались, – страх как хотелось узнать, что за люди такие, с чем прибыли, а ну как с виду только такие мирные? Узнать хотелось, а напрямую спросить боязно было, а порой и языка русского не знали. Но уж со временем и смелости набирались, и знакомились, и побеседовать заходили, и даже в гости к себе приглашали. Мнихи[6], добрые души, и шли. Возвращались, увы, не все, не всегда. Гости гостям рознь: от одних – почет и радушие, от других – коварство злочинное.
Но дела Божьего этим не остановишь. И где какого инока погибель настигала, – новый храм вставал, новые чернецы Господа прославляли.
Вслед за ними – чины государевы,
Чтоб смирять смутьянов-разбойников,
Да солдатики, буйны головы,
И в бою, и в веселье удалые.
На освоение Дикого поля казенных средств отпущено было немного, – откуда их много после разорений и междоусобиц. Главная надежда на землю: небось, всех прокормит. Солдатики ж, плоть от плоти мужицкой: землю увидят, сами смекнут, как ее пользовать, – у них крестьянская наука в душе написана. Сотники да стольники, – где умом, где кнутом поспособствуют. А чтобы жизнь быстрее затевалась, в крепостях торговлю заводили. Тут уж и местные жители страхи свои забывали, – мед, рыбу, дичь, скотину разную на базар везли.
Крепость за крепостью вставала, город за городом, а земля все лежала оброшена[7]. Что полкам да приказам на прокорм отвели, – тем раздолья бескрайнего не унять. Решили всех желающих пригласить.
Первыми дворян позвали: заселяйте, засевайте, хозяйства налаживайте, – вам прибыток, столице спокойствие. Те нос воротят: у нас дела государственные! нам судьба при дворе оставаться, царю служить, а земля – мужичьи заботы. Уж их так и сяк уговаривали, но только тогда дело сдвинулось, когда жалование десятинами выдавать начали. Запишут слуге государеву надел в глуши неведомой, – вот и думай, как с ним управиться, и себе, и семье достаток добыть. И не пожалуешься, и не откажешься, – одно оставалось: крепостных на места засылать, может, и немного сделают, но будет с кого спросить.
Потом об остальных, всякого роду и звания, вспомнили. Чего только ни обещали, как только ни заманивали! Тамбовский воевода новоприбывшим по пять рублей подъемных платил, – небольшой семье как раз отстроиться да на год пропитаться хватит. Изблизка-издалека пришли некоторые: кто из казенных[8] крестьян, кто из староверов, случалось, и сбеглые.
А последним шло племя мужицкое,
Не смотри, что вразброд да потиху,
Ему тайны такие ведомы
Про печали твои, земля-матушка, —
Не заметишь, когда утешишься,
От тоскливой дремы пробудишься,
И такое явишь благоплодие,
Что взликуют силы небесные,
Благодать ниспошлют некрадомую,
Только радуйся, изобильная!
Потчуй, матушка, утешителей!
Да насытятся от щедрот твоих!
Да восхвалят благость небесную!
Много тогда землевладельцев в этих краях объявилось, да немногим Поле тайны свои открыло, потому как тайны эти мало умом, – их руками, спиной, всей кожей прочувствовать надо, и каждый день утверждать, раскрывать, чтобы благодать Божия не оставляла. И если ненастье случится или сухмень с пожарами, – опять же отступаться нельзя. Земле после всех нестроений забота еще нужнее. И забота, и молитва, и защита. Иначе не та это земля, которая человека прокормить захочет, и не та, за которую человек Бога отблагодарит.
Глава 2. Деревня Белая
Можаи, крестьяне черносошные, на тамбовщину с отчаяния подались. Семейство большое, человек поболе двадцати. Хозяйство тоже немалое, – и вмиг все погорело. Хорошо, сами живы остались. А жить-то чем? Да и где жить? Помогай, Господи!
В ту пору князь-батюшка и предложил невесть куда ехать, с ничего да сызнова подниматься, денег хороших на всё про всё обещал. На то у барина свой резон был. Дали ему жалование землями под Тамбовом, и десятин немало, и места благопотребные: справа – большак снизу вверх, от Савалы на Тамбов идет, слева река, ниже отвода – обитель женская на берегу реки стоит, от нее дорога вправо, к большаку тянется, сысподу[9] надел княжеский окаймляет… Но глушь-то, глушь какая! Ее ж обустроить надо, земли расчистить, под севы разные расписать, под пары да пашни определить, и чтобы во дворе на всякую нужду строений хватало. А какой из князя землевладелец, когда он всю жизнь в переходах да гарнизонах? Тут бы особый разумник нужен, который в сельское рассуждение войти умеет. Да ведь такому и платить хорошо придется, и довериться вдруг нельзя. Ну, как плут подвернется? Задаток возьмет, а сам сбежит. Думал-думал князь-батюшка, и решил на Можая понадеяться, – ходоком на новое место послать и всем семейством там посадить. Пусть присмотрится, приживется, глядишь, и присоветует что.
Мужик этот на особом положении у князя состоял. От деревни в стороне жил, считай на выселках, но в сходах участвовал исправно, всякую страду или когда беда придет, – тяготы наравне с другими брал. Нрав имел степенный, ровный, надежный, к Богу – благоговейный, к людям – уважительный, к старине – почтительный. Однако смиренности не добирал. Чтобы с равными или малыми заноситься – такого в помине не было, однако и с высшими не принижался, будто места своего не понимал. Грамоте зачем-то выучился и детей выучил, – на что это мужику? И на все-то ему смекалки хватало. С приказчиками и то спорить не боялся. Бывало, слушает, кивает, а все на своем стоит. За то и бит был, и наказан не раз, но нрава своего не переменил.
Вот и решил барин: коли любо мужику особняком держаться, ему что в глуши, что на выселках, – все одно где жить. И плутовать не с руки, – с детями да бабами далеко не убежишь, а мужики в семействе головастые, трудов не боятся. Оттого Можаями и прозвали, что все им под силу. А тут пожар этот… Князь с уговорами тянуть не стал: «решайся, голубчик, решайся. Не захочешь по доброй воле, – эдак и на каторгу угодить можно, и семейство без головы останется». Однако ж и самому барину от такой суровости пользы бы не было. Земле-то уход нужен, а не распри человеческие. Да и добрым был князюшка; князь – добрым, Можай – понятливым, потому и согласился на глушь тамбовскую, и никогда о том не пожалел.
Пока ехали, – к новым местам присматривались да по старым вздыхали. К счастью, дорожные хлопоты не давали загрустить совсем. Обозным поездом идти – сплошные злоключения. Постоялый двор лишь однажды попался, да и тот холодный, грязный, голодный, стряпня безвкусная, овес – мокрый, подгнивший, местами сплошная солома. Потом уж где придется ночевали: то у мужичка какого на сеновале, а если погода была, – так и в чистом поле под телегами, как цыгане устраивались.
Зато по дороге каких только сказок не наслушались: про князя эрзянского Цефкса-Соловья; про мокшанского богатыря Илейку Муромца; про чувашей, у которых небо на четырех столбах лежит, и на каждом столбе гнездо, в каждом гнезде по утке. А у хальмгов[10] что ни сказка, – всё один по одному: стрелы, лягушка, свадьба. Тут бы в пору заскучать, да уж народ такой веселый, – сколько ни пересказывают, каждый раз как в первый счастливому завершению радуются.
Слушали Можаи, слушали… Мужики только хмыкали недоверчиво, детишкам представлялось, что едут они волшебные места расколдовывать. А бабы – у этих разум легок, а сердце мягко, – наберутся разного, потом уж по-своему про Иванов-дураков (кто б сомневался!), про Поле чистое да Бабай-Агу сказочки плетут. Так и ехали.
Едва на место прибыли, опять кручиниться некогда, – вышку ставить надо. Бабы с детьми, спасибо сестрам-инокиням, в обители расположились, а мужики за дело взялись. Вышку возвели, сарай с навесом поставили, – тут и жены к хозяйству вернулись. А мужики снова в трудах: одни общую избу строят, другие за путевой дом для князюшки принялись, третьи к земле примериваются: где корчуют, где рыхлят, а где уж и сеют. И все до холодов успеть стараются, чтобы зимой под открытым небом да с пустыми закромами не остаться. Долго ли, коротко, а князев дом на славу вышел. Просторный, теплый, с тесовым навесом. Тут и князь-батюшка пожаловал, чтобы с отводчиками дела покончить, название имению дать, да про урочище одно, про Белый камень решить.
Было там такое. Ниже княжеского отвода бесхозным лоскутом от монастырской дороги на несколько верст вниз лежало, снизу лесной речушкой окаймлялось. И хоть и граничило с землей обители, но сестры за него не брались, – уж очень неровное. Азорские мужички… (деревня Азорово много ниже княжеского отвода за ертеем, так они речушку лесную называли, с другой стороны от почтовой дороги стояла) Азорские мужички тоже не знали как подступиться, – непривычны к хлебопашеству были, – с огородов да коневодством жили, охотой промышляли. А тамбовским властям от Белого камня – одно беспокойство: что как поселятся там люди сомнительные! Вот ежели бы помещик какой себе взял, – и земле присмотр был бы, и властям облегчение. Князь, как сельской идиллией ни пленялся, лишних забот себе не желал, от урочища отказаться думал. Да Можай попросился на пустоши этой с семейством поселиться.
Князь только диву дался, но в мужицкие рассуждения входить не стал, с властями обо всем договорился, новое имение Новоспасским назвал, урочище за собой записал, под проценты в пользование Можаю тут же и передал, но с условием хозяйское имение трудами не оставлять и за новосельцами, по прибытии их, присматривать, пока от князя доверенный управитель не пожалует, литургию в монастырском храме отслужил и отбыл.
А Можай в Белый камень отправился место под двор столбить. Уверенно направился, решительно, а потом словно отяжелел, оробел, – шаг грузным, медленным сделался. Не верилось Можаю, что въяве все происходит. Уж больно место то непростым было, с историей. Вернее, с легендой.
Давным-давно, еще и обитель не встала, и задолго до этого, жили в этих местах три инока. С утра до ночи в молитве и трудах пребывали. Господа пламенно любили. Любовью своей всех и вся освещали. Люди к ним и тянулись: добрые и злые, здоровые и больные, простые и не очень, словом, всякие.
Однажды пригласили их в племя далекое – не то к бусурманам, не то к язычникам, – погостить пригласили. Стали братья советоваться кому идти. Путь неблизкий, тернистый предстоял. Решили инока помоложе отправить. Собрали его в дорогу, о подарках для гостей не забыли, сообща молитву справили, юношу проводили, сами к делам вернулись и стали брата ждать.
Вот дни за днями идут, а брата все нет и нет. И спросить – вдруг кто видел? – не у кого. Непогоды в те дни разыгрались, люди и звери по дворам запрятались. Братья разволновались, мысли дурные от себя гонят, совсем покой потеряли. Решили на молитву встать и до тех пор молиться, пока Бог весточки не пришлет. Говорят, три дня стояли. Встали, когда птаха в хижину залетела, о стены биться, бедная, начала.
Поймали братья птичку-невеличку, похотели на волю выпустить, выглянули за дверь, – а там все тихо, небо ясно, травы стоят не шелохнутся. Обрадовались иноки, птаху на куст травы посадили: лети, куда хочешь. А та только крылышками встряхнула, чуть перепорхнула да тут же снова села, и на братьев косится, будто за собой зовет. Те и пошли.
Привела их птаха к большому серому камню, – был там такой, словно со дна морского кто поднял да посеред Дикого поля поставил. Смотрят, у камня чернец молодой лежит. Подошли ближе, увидели, что упокоился брат их. Застонали иноки, заплакали, хворост собирать стали, чтобы тело юноши к хижине перенести да похоронить по-божески. А как вернулись к покойному, – показалось им, что шевельнулся он, восподвинулся. Колени у них подогнулись, руки сами крестное знамение сотворили да сложились молитвенно. Так и застыли мнихи, глаз с покойного не сводят. А тот словно сиянием изнутри наполняется, и сияние это ввысь устремляется, пламенем светлым в воздухе переливается, и голос из него – инока погибшего голос – ласковый, негромкий:
– Не горюйте, братия, – говорит. – О прахе моем не заботьтесь, Господь уже позаботился. Убили меня люди злые, да Господь не оставил. Вынес тело мое к вам, братия, на травы мягкие уложил, чтобы попрощаться нам. Радуйтесь же, братья! В вере нашей вместе пребудем! Бога любите, приходящих во Имя Его принимайте, в милости никому не отказывайте, и не в чем нужды знать не будете. До глубокой старости доживете, а там и невесты придут.