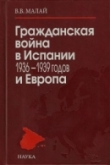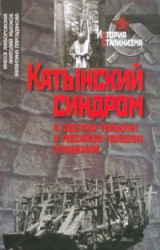
Текст книги "Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях"
Автор книги: Инесса Яжборовская
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 46 страниц)
К тому времени тверские мемориальцы уже предприняли попытки отыскать захоронения пленных из Осташковского лагеря.
Наконец эта проблема зазвучала в стенах «святилища официальной дружбы» – в Обществе советско-польской дружбы. Первым ее сформулировал с парадной трибуны, вызвав недоверие и ошеломление, военный прокурор из ГВП А.В. Третецкий. Вскоре, в марте 1989 г., в лектории общества лекцию о «белых пятнах», с указанием на виновников катынских злодеяний и формулированием задачи искать другие захоронения, прочла Яжборовская. В зале уже нашлись такие, кто поверил и откликнулся.
«Гласность вырвалась из рамок»{22}, – пишет теперь М.С. Горбачев.
К тому времени в связи с работой комиссии Второго съезда народных депутатов по политической и правовой оценке советско-германского договора 23 августа 1939 г. вопрос о катынском злодеянии встал на уровне законодательной власти. Инициатором постановки этого вопроса выступил В.М. Фалин как заместитель председателя комиссии. Его активно поддержал председатель комиссии А.Н. Яковлев. Хотя принято было вести обсуждение катынского вопроса только по линии ЦК КПСС, на этот раз запрос Особому архиву, его директору A.C. Прокопенко, о катынских материалах был направлен и по депутатской линии. По линии же ЦК КПСС Фалин звонил хранителям архива Сталина – в общий отдел (традиционно получая ответ об отсутствии такого рода материалов) – и в архивы КГБ. В последних он пытался разыскать решения Особого совещания при НКВД СССР, но там всегда отвечали, что материалов Особого совещания по польским военнопленным не сохранилось.
По мнению В.А. Александрова, консультанта международного отдела и помощника секретаря ЦК Фалина, в свое время судьба поляков была предрешена органами «по сложившемуся стереотипу» уничтожения «ненужных» людей, а их руководство позже «излишне боролось за честь мундира, хотя мундир этот им не принадлежал»{23}.
В этих делах сотрудники аппарата ЦК КПСС и даже его секретари проигрывали соревнование с руководством КГБ. Как сказал журналисту М. Рогускому заведующий польским сектором В.А. Светлов, «видимо, руководство КГБ, используя свое достаточно серьезное влияние на самые высшие органы партийной власти, сумело защитить свою точку зрения и свою позицию по этому вопросу и получить поддержку со стороны Михаила Горбачева»{24}.
Обращения В.М. Фалина в общий отдел к В.И. Болдину и в КГБ ничего не давали. В отделе говорили, что никаких документов нет, в КГБ уверяли, что протоколы «троек» уничтожены{25}.
Однако времена менялись, и открывались определенные возможности расширения использования исследователями архивных документов. К этому времени к поискам материалов Нюрнбергского военного трибунала подключился преподаватель Военно-дипломатической академии Советской армии доцент Ю.Н. Зоря, сын помощника государственного обвинителя от СССР на процессе, который имел отношение к рассмотрению Катынского дела и скончался во время процесса при загадочных обстоятельствах. Имея допуск к секретным материалам и благодаря исключительной настойчивости, а также везению, он сумел добиться доступа к фондам закрытого Особого архива. Там уже работала, получив наконец необходимую поддержку в ЦК КПСС как член двусторонней комиссии, В.С. Парсаданова. Она пользовалась материалами на основе строгого режима секретности и обрабатывала фонд Главного управления по делам военнопленных и интернированных (ГУВПИ). К этому же фонду директор архива А.С. Прокопенко в мае 1989 г. допустил и Ю.Н. Зорю, а в конце года там начала работать и Н.С. Лебедева.
Уже в первых числах июня Зоря сообщил о найденных документах, касающихся судеб польских военнопленных, начальнику Главархива СССР Ф.М. Ваганову. И был со скандалом выдворен из архива, а его тетради с выписками были конфискованы. Это не остановило Зорю. Он стал настойчиво продвигать свое открытие. Встреча с Г.Л. Смирновым, передавшим информацию В.М. Фалину, привела к беседе с последним и его попытке добиться разрешения для Зори продолжить работу над документами Особого архива. От Ваганова был получен категорический отказ.
По рассказу В.А. Александрова, Фалин, воспользовавшись авторитетом всевластного ЦК, нажал на архивистов. Ему были доставлены фельдъегерской связью затребованные по названным Зорей номерам материалы, каждое дело в особом брезентовом мешке. Фалин отобрал и спрятал в сейф три дела, чтобы показать Горбачеву. В письме в Конституционный суд от 19 октября 1992 г. Александров сообщает, что Фалин брал с собой документы каждый раз, когда, по его мнению, «возникала возможность обсудить с Горбачевым этот вопрос. Однако принципиального согласия Горбачев не давал». Александров уточняет: «Ссылки, о которых нам говорил Фалин, состояли в том, что все материалы, которые найдены, являются вторичными, а первичных нет. При этом говорилось: ищите убедительные доказательства».
Зоря добился возможности работать над документами в отделе Фалина и через десять дней составил справку о польских военнопленных с выборочным сравнением фамилий из списков-предписаний на отправку пленных из Козельского лагеря в УНКВД по Смоленской области и эксгумационных списков из Катыни в немецкой «Белой книге». Их очередность совпадала, что было весомым доказательством роли НКВД в уничтожении поляков в 1940 г.
Фалин доложил об этом Яковлеву. Вскоре Зорю вновь допустили к документам Особого архива, где с помощью архивистов – заведующей сектором О.С. Киселевой и научного сотрудника О.А. Зайцевой он закончил исследование и к концу октября составил «Документальную хронику Катыни» (с подробным докладом на имя Яковлева). На документальной основе были описаны содержание военнопленных в лагерях и их отправка в апреле—мае 1940 г. в распоряжение управлений НКВД Харьковской, Смоленской и Калининской областей. Эти данные подкреплялись опубликованными воспоминаниями избежавших расстрела Ю. Чапского и С. Свяневича. Были проанализированы материалы немецкого расследования 1943 г. в Катыни и сравнены с материалами НКВД. Наконец, был представлен ход рассмотрения дела в Нюрнберге. Справка завершалась выводом о причастности органов НКВД к расстрелу около 15 тыс. польских военнопленных в апреле—мае 1940 г.
Проведенное по договоренности с Фалиным сопоставление списков узников, отправлявшихся из Козельского лагеря, и опознавательных списков из катынских могил, полученные «потрясающие совпадения» стали для последнего основанием (а кадры с его рассказом об этом включены в фильм «Выстрел в Нюрнберге») для направления Горбачеву очередной записки. Как пишет Александров, вначале он вместе с Зорей сделали из его доклада «краткую записку (так как длинную бумагу могли не прочесть). Эту записку Фалин отправил Яковлеву со своим сопроводительным письмом для доклада Горбачеву». В письме, судя по фонограмме фильма, Фалин подчеркивал, что после получения таких данных никаких дополнительных доказательств уже не требуется – массовое убийство поляков является преступлением Берии и его подручных. И это нужно сообщить полякам без обиняков.
Генсек был ознакомлен с этими материалами. «Механика окончательного принятия решения мне неизвестна, – пишет Александров, – но именно после этого сжатого изложения, почти анатомического анализа, произведенного Зорей, создалось ощущение, что план передачи документов Ярузельскому будет реализован. Хотя, честно говоря, до последнего дня не было твердой уверенности на этот счет»{26}.
Почти одновременно с передачей текста доклада Яковлеву аналогичный текст был передан на имя председателя КГБ СССР Крючкова. Наступило затишье.
28 ноября 1989 г. в Особом архиве прошла конференция архивистов и историков по проблеме использования документов, поступающих в научный оборот в результате открытия некоторой части фондов. В материалы конференции вошла и справка «Документальная хроника Катыни», что, по существу, явилось ее публикацией, хотя и весьма ограниченной по тиражу.
С сообщением по катынским материалам архива выступила и Парсаданова.
Контакты с международным отделом ЦК КПСС Зоря поддерживал через консультанта Александрова (с Фалиным встреч больше не было), который заангажировался в решение проблемы о судьбах польских военнопленных и держал на контроле прохождение информации по ней. Через него 26 октября 1989 г. Зоря передал на имя Яковлева заявление о рассмотрении выявленных документов на комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному расследованию репрессий.
Отсутствие явных признаков продвижения дела вынудило Зорю предложить передать текст доклада еще одному члену Политбюро – министру иностранных дел Э.А. Шеварднадзе. Александров этого не одобрил, разъяснив, что в ЦК принято действовать по какому-то одному направлению. Зоря посчитал это правило для себя не обязательным и передал копию направленных Яковлеву материалов начальнику историко-дипломатического управления МИД СССР Ф.Н. Ковалеву, который немедленно доложил их Шеварднадзе. Министр дал указание затребовать копии документов из Особого архива и в дальнейшем играл важную стимулирующую роль в продвижении дела.
В течение января 1990 г. в Особом архиве Прокопенко и Зорей было проведено копирование документов ГУПВИ по польским военнопленным. ЦК КПСС и МИД СССР получили по комплекту копий документов. Отправка документов из МИД на рассекречивание в Главархив привела к их изъятию. Отбор и передачу документов В. Ярузельскому пришлось готовить по единственному комплекту, находившемуся в ЦК. Однако это уже не могло изменить того факта, что информационная блокада вокруг проблемы судеб польских военнопленных была прорвана на высоком уровне, на уровне принятия решений. В основе этой подвижки фактически лежало соединение усилий нескольких энтузиастов, и прежде всего двоих ученых – Зори и Парсадановой. В ЦК Г.Л. Смирнову позже подтвердили, что В. Ярузельскому передавалось «в основном то, что нашла Парсаданова»{27}. Надо сказать, Светлов предупреждал ее: можно «не сносить головы», если вдруг «все не так обернется».
Собственно, проработка вопроса о передаче корпуса катынских документов В. Ярузельскому во время его визита в СССР весной 1990 г. и о признании виновности органов НКВД началась на Старой площади после того, как примерно в ноябре—декабре 1989 г. с материалом Зори был ознакомлен М. Горбачев{28}. А 22 февраля 1990 г. Фалин изложил в письме на его имя итоги поисковых работ в архивохранилищах. Он сообщал, что «рядом советских историков (Зоря Ю.Н., Парсаданова B.C., Лебедева Н.С.)... выявлены ранее неизвестные материалы Главного управления НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных и Управления конвойных войск НКВД за 1939—1940 годы, имеющие отношение к т.н. Катынскому делу», что эти материалы доказательны и на этой базе уже подготовлены соответствующие публикации. Фалин формулировал выводы следующим образом: «Появление таких публикаций создавало бы в известном смысле новую ситуацию. Наш аргумент – в госархивах СССР не обнаружено материалов, раскрывающих истинную подоплеку катынской трагедии, – стал бы недостоверным. Выявленные учеными материалы, а ими, несомненно, вскрыта лишь часть тайников, в соответствии с данными, на которые опирается в своих оценках польская сторона, вряд ли позволят нам дальше придерживаться прежних версий и уклоняться от подведения черты. С учетом предстоящего 50-летия Катыни надо было бы так или иначе определиться в нашей позиции»{29}.
Показательно, как по-разному восприняли и представили процесс обнаружения секретных документов и их характер соприкасавшиеся с делом высокие чиновники из ЦК КПСС. Секретарь ЦК и член Политбюро В.А. Медведев точен: это было сделано «не усилиями Комитета госбезопасности, руководителей Главархива СССР, а скорее вопреки им группой историков при поддержке международного отдела ЦК КПСС». Он называет ГУПВИ, найденные там списки военнопленных, совпадение фамилий в этих списках с фамилиями эксгумированных в 1943 г.{30} В. Светлов перечисляет в той же последовательности, что и Фалин, троих специалистов, работавших с документами{31}.
Вот как представляет дело А. Яковлев, на стол которого уже несколько месяцев ложились материалы об изысканиях Зори, но не получали хода. Яковлев отреагировал тогда, когда (на рубеже 1989– 1990 гг.) к нему пришел С.Б. Станкевич с сообщением о неожиданной находке коллеги по институту Лебедевой – документах конвойных войск. Такая ситуация требовала какого-то действия. Во введении к русскоязычной публикации документального сборника «Катынь: Пленники необъявленной войны» Яковлев рассказывает, что на прямой вопрос Станкевича, как лучше распорядиться документами, он попросил передать их ему. Документы, которые принес А.А. Чубарьян, произвели сильное впечатление, были подлинными и убедительными. Встал вопрос о возможности их опубликования.
Принципиальным оставался вопрос получения разрешения на это. Яковлев решил не докладывать сразу Горбачеву, размножил документы в пяти экземплярах и разослал по пяти адресам, в том числе в международный отдел ЦК, КГБ, МВД. Заметим, что это был типичный прием в высших эшелонах партийного аппарата того времени, если возникало желание все же решить какой-либо вопрос: следовало распространить информацию в узком кругу, не беря на себя ответственность за ее представление и оценку. Постепенно накапливался «критический объем» информированности, игнорировать которую становилось невозможно.
Разослав документы, Яковлев сообщил о находке Болдину, но просьбу выслать их немедленно курьером не выполнил, послал «обычным путем – через канцелярию, рассчитывая на то, что на документах появятся, как и положено, красные печати и номера, что сделало бы их „бюрократически защищенными“». Только после этого он проинформировал Горбачева, который «встретил информацию без эмоций», «без особого интереса»{32}.
А вот что пишет о реакции Горбачева на обнаружение этого корпуса документов его помощник Г.Х. Шахназаров: «Я передал Горбачеву материалы в связи с визитом Ярузельского и он сказал: – А ведь мы генералу в некотором роде преподнесем подарок. Только что мне дали донесение о найденных документах. Что любопытно – все дело было подчистую уничтожено, никаких следов не оставалось. И вот теперь нашлись списки где-то в архиве караула. История – коварная вещь, ее не обманешь.
Честно говоря, я усомнился, что архиважную бумагу случайно нашли в последнюю минуту. Скорее, не искали или не хотели искать»{33}.
Версия Шахназарова сводилась к утверждению: «Михаил Сергеевич заставил-таки комитетчиков, покопавшись в архивах, извлечь на свет божий истину о случившейся трагедии»{34}.
Разумеется, это было не совсем так. Или, точнее, совсем не так.
В.А. Медведев в своих оценках был ближе к истине.
В письме от 22 февраля 1990 г. Фалин предлагал принять следующую модель поведения в отношениях с Ярузельским, сопряженную, по его мнению, «с наименьшими издержками»: сообщить, что прямых свидетельств (приказов и распоряжений), точно определяющих время и виновников трагедии, не найдено, но обнаружены материалы, «которые подвергают сомнению достоверность „доклада Н. Бурденко“. На основании означенных индиций можно сделать вывод о том, что гибель польских офицеров в районе Катыни дело рук НКВД и персонально Берии и Меркулова». В какой форме и когда довести до сведения польской и советской общественности этот вывод – «здесь нужен совет Президента РП, имея в виду необходимость политически закрыть проблему и одновременно избежать взрыва эмоций»{35}.
К тому моменту ПОРП уже самораспустилась и перестала существовать имевшая от нее полномочия польская часть двусторонней комиссии по истории отношений между двумя странами.
Как следует из рассказа Фалина, включенного в документальный фильм «Выстрел в Нюрнберге», его линия была линией признания вины без основополагающего документа Политбюро, с указанием только на Берию и его подручных на основании представленных Зорей материалов. Он намеревался «аннулировать» документ высшего уровня принятия решений, не затрагивая «особого досье» с грифом «Вскрытию не подлежит», а просто «обойдя» его.
Ответа от М.С. Горбачева не было. Лишь в начале апреля его намерения определились. Было принято предложение В.М. Фалина положить в основу передаваемых документов списки узников трех лагерей (идея исходила от членов комиссии историков).
В.С. Парсаданова и Ю.Н. Зоря вместе с В.А. Светловым начали готовить материалы для передачи. Окончательного решения все еще не было. Г.Л. Смирнов, по его свидетельству, в эту акцию не посвящался до завершающей стадии. В международном отделе было проведено узкое рабочее совещание. Трое подготовивших материалы о польских военнопленных авторов были сориентированы на их публикацию сразу после передачи документов Ярузельскому, в подкрепление, и в различных изданиях. План поломал главный редактор «Московских новостей» Е.В. Яковлев, выведший на эту тему Г. Жаворонкова. Узнав от Станкевича, что его коллега по Институту всеобщей истории Лебедева вышла (по наводке В. Абаринова) на материалы конвойных войск, он при помощи Жаворонкова организовал к середине февраля ее публикацию для еженедельника. Обстоятельная же научная статья В.С. Парсадановой, принятая журналом «Новая и новейшая история» еще в январе, ждала сигнала сверху. Репортажи Жаворонкова уже вызывали неудовольствие Горбачева: он по телефону укорял руководство АПН за «недостаточно аргументированные» катынские сюжеты{36}. На этот раз публикация едва не сорвала передачу документов и официальное признание вины. По свидетельству Александрова, Горбачев потерял интерес к этому, поскольку был поставлен в ложное положение, будто его вынудили, а ему и деться некуда. Он посчитал, что проще передать дело в руки ученых – «пусть копаются». С трудом удалось отвести его от этой мысли.
Подготовленные для передачи материалы Особого архива с их перечнем были вручены В.М. Фалину, который доложил их руководству КПСС. В Политбюро перечень передаваемых документов был урезан, объем соответственно сокращен.
Наиболее демократичную и последовательную позицию занял тогдашний министр иностранных дел и член Политбюро Э.А. Шеварднадзе. Он не только помог с раскрытием материалов, но и простимулировал издание ожидавшей публикации несколько месяцев статьи В.С. Парсадановой о гибели польских военнопленных в СССР в 1940 г. – первой научной работы по этой проблематике с привлечением широкого круга архивных материалов.
Не случайно именно Парсадановой была поручена подготовка сообщения ТАСС с признанием вины в этом массовом убийстве органов советской госбезопасности. Светлов принес от руководства записанные на клочке бумаги рекомендации в отношении содержания этого документа с формулировками, которые должны были быть в нем употреблены. В ходе совместного обсуждения Парсаданова составила требуемый текст, который затем был отнесен в аппарат Политбюро, откуда вышел в подредактированном и сокращенном виде.
Такой порядок подготовки так называемого «Сообщения ТАСС» свидетельствует о его фактическом высоком политическом ранге, о том, что ему придавалось огромное значение.
Правда, передача документов столь сложного характера до последнего момента вызывала определенные сомнения и колебания, появлялись различные варианты смягчения ее эффекта и последствий.
13 апреля 1990 г., в день встречи Горбачева с Ярузельским, Политбюро рассмотрело вопрос «О консультациях с В. Ярузельским по вопросу Катыни» и утвердило следующий установочный текст:
«Сов. секретно
Для беседы с В. Ярузельским
Сказать В. Ярузельскому следующее:
„В результате длительных поисков обнаружены косвенные, но достаточно убедительные доказательства того, что расправа с польскими офицерами в Катыни была осуществлена тогдашними руководителями НКВД.
Найденные материалы обнаружены вне пределов ведомственных архивов. В последних, к сожалению, никаких документов не сохранилось.
Хотел бы посоветоваться с Вами, Войцех Владиславович, как лучше сделать, чтобы внесение окончательной ясности в катынскую трагедию не пошло во вред польским друзьям, а сам факт объявления об этом сейчас не был бы представлен как результат давления.
Возможен, например, обмен письмами между нами, опубликовав которые в советской и польской печати, мы могли бы, как представляется, политически закрыть эту проблему, хотя, разумеется, исследование этого вопроса на базе обнаруженных новых документов продолжается“»{37}.
В этом документе борются между собой желание окончательно закрыть политически одну из самых трудных проблем советско-польских отношений и стремление одновременно сохранить лицо, смягчить эффект разоблачения виновных и взрыв естественного негодования польского народа. Все эти искусственное дипломатничание, сомнения и опасения были несоизмеримы с эффектом обнаружения и передачи документов, несущих подлинную информацию о погибших, с удовлетворением, испытанным поляками и их Президентом. Любые хитрости и уловки были не к месту.
В.А. Александров пронумеровал документы в двух темно-синих папках, похожих на картонные коробки, по специальному пропуску пронес их в Кремль. Они были положены Вагановым на стол перед Г.Л. Смирновым, «который их передал Горбачеву непосредственно в момент вручения затем Горбачевым Ярузельскому»{38}. Собственно, предполагалось, по рассказу Смирнова, что первый том вручит Горбачев, а второй – Смирнов. Но это создало бы определенную заминку, искусственно осложнило бы ситуацию. Поэтому на деле вышло по-иному.
Задуманный порядок передачи должен был продемонстрировать успешное завершение работы двусторонней комиссии историков. Нельзя не признать, что в итоге преодоления многих трудностей и мучительных усилий именно комиссия проложила дорогу обнародованию правды, в том числе передаче документов и подготовке всех подкрепленных материалами Особого архива публикаций.
В составе официальной польской делегации, принимавшей документы, был и Я. Мачишевский, формально уже переставший быть председателем самораспустившейся польской части комиссии. Теперь можно с полным основанием сказать: хотя все окончательно решала политическая воля, какая в тот момент оказалась возможной, важнейший вклад в выявление правды внесли поддержанные советскими исследователями польские ученые с их экспертизой сообщения комиссии Бурденко.
На следующий день было опубликовано заявление ТАСС, гласившее, что «выявленные архивные материалы в своей совокупности позволяют сделать вывод о непосредственной ответственности за злодеяние в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных. Советская сторона, выражая глубокое сожаление в связи с катынской трагедией, заявляет, что она представляет одно из тяжких преступлений сталинизма»{39}. Это заявление трактовалось как политическое решение советского руководства. Лидер КПСС не принимал на себя и партию ответственности за происшедшее в 1940 г. А Президент СССР?
В Декларации двух Президентов от 13 апреля говорилось лишь о том, что «важно довести до конца работу по восстановлению исторической правды о трудных моментах в русско-польских и советско-польских отношениях, всемерно способствовать развертыванию конструктивного советско-польского диалога на всех уровнях, с широким участием представителей общественности, науки и культуры»{40}.
В то время Горбачев пропагандировал идею создания двустороннего научного института, который продолжил бы изучение истории отношений между СССР и Польшей. Однако в дальнейшем она не получила развития.
В аппарате ЦК КПСС в тот период нарастали критические настроения. Весьма показательны в этой связи и мнения о том, кто был виновником катынской трагедии, имевшиеся по крайней мере у его части. Например, у В.А. Александрова «сложилось убеждение, что решение по поводу расстрела польских военнопленных не могло приниматься на партийном уровне. Во-первых, главным орудием Сталина была не партия, а карательные органы в лице руководства НКВД, во-вторых, партия как идеологический инструмент всегда отодвигалась в сторону с некоторым недоверием Сталина к своим же партийным соратникам. Практически Сталин был не руководителем партии и государства, а единоличным диктатором». Берия же, по мнению Александрова, «наверняка сыграл зловещую роль в катынской истории, скорее всего, в вопросе о судьбе польских военнопленных опирался на благословение и согласие Сталина»{41}.
Во время визита В. Ярузельского Александров в рабочем порядке передал гостям данные об общем числе польских военнопленных в СССР, о количестве расстрелянных. Он также сообщил фамилии архивистов и ученых, принимавших участие в установлении истины на основании материалов Особого архива. В перечне ученых, как и в докладной записке Фалина Горбачеву от 22 февраля 1990 г. и в книге-беседе М. Рогуского с В. Светловым по вполне понятным причинам первую строку занял Ю. Зоря. Одержимо добиваясь решения проблемы, изучение которой оборвало жизнь его отца, как говорится, не ради славы, а ради правды, Зоря прорвался сквозь все препоны строго стерегущего свои секреты режима и сумел поставить верхний эшелон власти перед фактом убедительного раскрытия зловещего преступления, полвека тщательно окутанного пеленой государственной тайны. Он так громко и настойчиво бил в набат у дверей партийно-государственных руководителей, что тайна перестала быть собственностью одного ведомства или одной персоны и уже никто не мог «спрятать концы в воду»{42}.
Когда В. Парсаданова закончила свою работу, а Ю. Зоря добился доступа к материалам и сумел передать свои разработки нескольким высшим чиновникам, эти разработки, в кратком виде, легли на стол Горбачеву. Использованные дела вернулись от В. Фалина в Особый архив и перешли в ранг более доступных, хотя и с существенными ограничениями. Но в целом конъюнктура стала более благоприятной для исследователей. Именно тогда, по следам Парсадановой и Зори, в архив пришла Лебедева.
Она шла по следам коллег, которые, не без основания видя в ней одного из плодовитых защитников «официальной версии», всячески старались ее переубедить и щедро делились информацией, указаниями на архивы и литературой. В ее скоропалительной публикации не имели большого значения ошибки и неточности, проистекавшие от спешки и непрофессионализма, которые автору пришлось исправлять в следующих статьях. Важна была правда.
Через неделю в «Новом времени» были опубликованы соединенные в один текст из фрагментов написанные ранее и более компетентные статьи В. Парсадановой и Ю. Зори{43}. Однако все эти долгожданные публикации, знаменующие реальные демократические сдвиги в стране, все еще с трудом освобождавшейся от тоталитарного наследия, получили несколько искаженный резонанс. Вне подлинной гласности падкие на сенсации журналисты построили свои материалы на первых впечатлениях и особенно на интервью Лебедевой, которая сочла возможным не только умолчать о вкладе коллег, но публично приписать себе открытие материалов о польских военнопленных – те заслуги, которых она не имела. Затем в ущерб другим исследователям она любыми средствами старалась отстоять эту версию. Такие публикации, как интервью в еженедельнике «Солидарность» в 1994 г.{44}, продемонстрировавшие ее нездоровые амбиции и фантазии, стремление к самовосхвалению, к тому, чтобы раздуть свое значение в исторической науке и принизить роль коллег, вызывают только печальное недоумение. Среди специалистов и прежних работников партаппарата, занимавшихся этим вопросом, широко известно, что приводимые в ее интервью сведения, мягко говоря, не соответствуют действительности.
В дальнейшем Лебедева действительно нашла в этой проблематике свою нишу, приобщившись к двустороннему изданию «Катынь: Документы преступления». Участие в этом издании других российских специалистов было невозможным ввиду их привлечения как экспертов в Главную военную прокуратуру, что автоматически накладывало обязательство неразглашения тайны следствия и его материалов. Расширенный доступ к корпусу документов публикации помог Лебедевой издать монографию «Катынь: преступление против человечества», в которой была последовательно воспроизведена история лагерей польских военнопленных и их уничтожения. Ее рецензирование не входит в намерения авторов. Следует только отметить, что книга написана на материалах НКВД, но без знания польских источников и историографии, что было отмечено польскими рецензентами. Вопрос о деятельности комиссии Бурденко не нашел в ней должного решения, а «официальная версия» до конца не преодолена{45}.
К сожалению, погоня за приоритетами и монополией не обошла и эту, требующую нравственной чистоты проблематику, внесла вредящий интересам дела дух нездорового соперничества и антагонизм, выходящие по своим последствиям далеко за рамки личных амбиций. Поэтому ответственный секретарь советской части комиссии по «белым пятнам» Т.В. Порфирьева сделала в прокуратуре официальное заявление о том, что пальма первенства в открытии новых документов о судьбах польских военнопленных принадлежит не Лебедевой, а Парсадановой. Лебедева шла по ее стопам, но в силу определенного стечения обстоятельств «сумела быстрее опубликоваться, и тем самым сложилось впечатление, что это открытие сделано вне или даже вопреки комиссии»{46}.
Наверное, не сложно понять тех немногих отважных людей и подлинных энтузиастов, которые, делая свое многотрудное дело один на один с тоталитарным режимом, смело противостоя не только глухой враждебности системы, но и подстерегавшей их на каждом шагу опасности – ломки избранного пути, лишения свободы и даже жизни, негативно воспринимают стремление других «сорвать по случаю куш» на раскрытии тайны страшного преступления. Вклад этих исследователей действительно огромен, их борьба за защиту доброго имени невинноубиенных, за неотвратимость возмездия виновным достойна всяческого уважения, а окрыляющее ощущение первопроходца на этом полном препятствий пути вполне естественно. Понятна их ревность в отношении каждого вновь открытого факта, каждой детали и каждого нюанса, добытых столь дорогой ценой. Пусть читатель не думает, что сдергивание завесы секретности, государственной тайны было таким легким делом, доступным одному исследователю, как следует из некоторых публикаций.
Иллюзией оказалось представление, будто достаточно одной высокой декларации (что уж говорить о нескольких публикациях в печати), чтобы секретные фонды, да еще такой степени секретности, открыли свои тайны перед исследователями, как свидетельствует в письме в Конституционный суд В.А. Александров{47}.