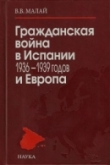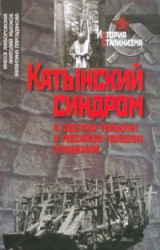
Текст книги "Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях"
Автор книги: Инесса Яжборовская
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 46 страниц)
Но для большинства членов советской делегации в Нюрнберге Катынское дело стало, по свидетельству Т.Р. Ступниковой, поистине тяжелым испытанием: «Каждый воспринял это печальное событие по-своему, исходя из собственного жизненного опыта, но тяжело было, бесспорно, всем советским. И судьям, внезапно утратившим свою самоуверенную окаменелость, и обвинителям, которым суждено было на примере Катыни еще раз убедиться, что Нюрнбергский трибунал – это не суд Союза Советских Социалистических Республик. Наконец, тяжело было рядовым членам делегации, переживавшим все, что происходило в зале суда, и делавшим свои выводы... Многие из этих статистов молча думали о своем, скрывая эти мысли, так как официальное право на существование имела лишь одна кремлевская версия»{37}.
1 июля 1946 г. именно Ступникова вела синхронный перевод допроса немецкого свидетеля, командира стоявшего осенью 1941 г. в районе Катынского леса 537-го полка связи Ф. Аренса. Слабость советского обвинения была ей очевидна. Хотя защита не имела права ставить вопрос о том, кто виноват, страшный вывод напрашивался сам собой: «это чудовищное преступление XX века останется на совести сталинского руководства (если у него есть совесть!), и тень его падет на нашу Родину». Не сговариваясь, советские граждане, присутствовавшие в тот день в зале суда, назвали 1 июля 1946 г. «черным днем Нюрнбергского процесса». В своих воспоминаниях Ступникова пишет: «Для меня это был действительно черный день, хотя я была всего лишь переводчиком в зале суда. Слушать и переводить показания свидетелей мне было несказанно тяжело, и не из-за сложности перевода, а на сей раз из-за непреодолимого чувства стыда за мое единственное многострадальное Отечество, которое не без основания можно было подозревать в совершении тягчайшего преступления.
В этом, к моему великому ужасу, и заключалась Правда, ничего кроме Правды!»{38}
Разгром фашизма, суд над главными военными преступниками подвели основные итоги Второй мировой войны. Утверждался новый международный правопорядок. Катынское дело с официально принятой Международным военным трибуналом (МВТ) квалификацией «геноцид» на несколько десятилетий осталось «белым пятном». Его дальнейшее рассмотрение вписывалось в условия начала и окончания «холодной войны».
В 1953 г. издательство «Большая Советская энциклопедия», фабрика официальной информации, выпустило в свет 20-й том второго издания одноименной энциклопедии, дополненного и актуализированного. На букву «К» в нем был опубликован новый текст статьи «Катынский расстрел». Апробированный на высшем идейно-политическом уровне, он содержал полный набор обязывающих долгие десятилетия формулировок.
Краткая канва основных событий и их хронология приводились и интерпретировались в духе сталинистской катынской мифологемы 1943—1944 гг.: поляки были взяты в плен в ходе «освободительного похода» 1939 г. в Западную Украину и Западную Белоруссию; они были захвачены гитлеровцами в августе 1941 г. и осенью расстреляны в Катынском лесу штабом 537 строительного батальона и т.д. Эта заведомая дезинформация, поставленная под сомнение во время Нюрнбергского процесса, в очередной раз «подкреплялась» ссылкой на материалы комиссии Бурденко. Для пущей убедительности ей на ноте высокого пафоса приписывалось «раскрытие перед всем миром подлинной картины злодейского умерщвления гитлеровцами польских офицеров». Эта тональность бескомпромиссного разоблачения геноцида польского народа была призвана усилить по контрасту восприятие действий сталинского руководства как подлинно гуманных и дружественных, отвечающих высшим ценностям мирового сообщества. Для усиления этого эффекта утверждалось, что Специальная комиссия Бурденко начала свою деятельность «тотчас же после изгнания гитлеровцев из Смоленска (25 сентября 1943)...». Это мифотворчество не было совместимо с реальностью, но на этот раз оно было призвано закамуфлировать подготовительные работы для увеличения неопровержимости «правоты» советской позиции апреля 1943. Этой же цели служила ссылка на высокий международный авторитет: «В 1945—1946 Международный военный трибунал в Нюрнберге признал Геринга и других главных военных преступников виновными в проведении политики истребления польского народа и, в частности, в расстреле польских военнопленных в Катынском лесу». Этой очередной официальной ложью подкреплялись фальсифицированные сведения о том, что якобы «по подсчету судебно-медицинских экспертов общее количество трупов достигало 11 тысяч». На деле эти эксперты участвовали во вскрытии всего 925 трупов и никак не могли вести счет на тысячи. Подобная псевдоинформация служила ведомственным целям НКВД/КГБ, заметая другие следы преступления.
К анализу истории комиссии Бурденко и ее наследия авторы вернутся в другом месте, опираясь на изучение ее материалов. Здесь же важно выделить другой момент – причину появления статьи «Катынский расстрел» в «Большой Советской энциклопедии» (БСЭ) в 1953 г. и ее идеологическую «сверхзадачу».
С нагнетением атмосферы «холодной войны» перестала действовать договоренность союзников о сокрытии трудных моментов в недавней истории советско-польских отношений. В Конгрессе США была создана специальная комиссия Р. Дж.Мэддена по Катыни, ко торая обнаружила многие доказательства совершения катынского преступления сталинским режимом и НКВД: устно 81 свидетель и письменно сотня свидетелей подтвердили его подлинные обстоятельства и указали на истинных виновников. Возбуждение американцами этого дела стимулировало стремление советских правящих кругов и редколлегии БСЭ в очередной раз подтвердить неопровержимость сталинской версии и убедительность ее идеологического обоснования. Со ссылкой на ноту советского правительства от 29 февраля 1952 г. «империалисты США» были обвинены в преступной политике разжигания новой мировой войны, в стремлении «оклеветать Советский Союз и реабилитировать, таким образом, общепризнанных гитлеровских преступников». В примененном методе парирования обвинения «органов советской власти» просматривается прямая аналогия со стилем претензий к правительству В. Сикорского по поводу «пособничества геббельсовской пропаганде». Правда, на этот раз разоблачительный пафос звучал еще сильнее, поскольку он включал указание на нарушение вердикта Международного военного трибунала. На самом же деле это была сознательная фальсификация.
Повторная констатация вины немцев была использована для актуализации идеологических клише: указание на расчет «поссорить русских с поляками» имело в подтексте укоренившийся в сознании советского общества стереотип советско-польской дружбы и сотрудничества; этот стереотип трансформировался в новое качество «всеславянской общности». Тезис, гласящий, что «немецко-фашистские захватчики последовательно осуществляли свою политику физического уничтожения славянских народов», использовался для придания убедительности ложной версии при помощи антигитлеровских идеологических стереотипов того момента, демократического международного звучания.
Мощное идеологическое обоснование «официальной версии» катынского преступления завершалось для «абсолютной» убедительности гневным осуждением самого «желания получить какие-то „доказательства“ относительно убийства военнопленных польских офицеров»{39}.
У читателя, наверное, не осталось сомнений в отношении того, что опубликованная в «Большой Советской энциклопедии» статья – типичный образчик официозной «авторитетной» информации со всеми ее атрибутами: строгой обязательностью предписываемой «истины в последней инстанции», которая на деле является изготовленной по случаю дезинформацией, прикрытой мифотворчеством; строжайшим запретом любых сомнений и поисков правды.
Нет оснований не верить рассказу опытного аппаратчика – заведующего польским сектором международного отдела ЦК КПСС в 60—70-е гг. П.К. Костикова, который не без большого внутреннего смятения попытался уяснить для себя тайну Катынского дела. Весьма существенно, что он, услышав об этом деле случайно, ощутил, что оно тяжким грузом лежит на советско-польских отношениях. Лично для Костикова это была прежде всего проблема судьбы отца его польского коллеги Р. Фрелека, с которым его связывали дружеские отношения. Сквозь призму частного случая, судьбы одного польского офицера, который «вероятно» погиб в Катыни, влиятельный партийный функционер пытался выяснить у опытных коллег следы Катынского дела. Даже на таком высоком аппаратном уровне всевластного ЦК КПСС ему всего лишь «дали понять», что его любопытство «не будет удовлетворено, так как в ЦК КПСС ничего на эту тему нет. Если и есть какие-либо следы польских офицеров, которые не попали в армию Андерса или Берлинга, то в совершенно иной организации, но и там тоже ничего не скажут»{40}. Практика отношений между госбезопасностью и аппаратом ЦК была именно такой: бразды управления государственными тайнами держала в своих руках государственная безопасность, а партийное руководство с полным респектом относилось к прерогативам «соседей» с Лубянки. Те, в свою очередь, руководствовались в этом деле лишь собственными секретными инструкциями, создавая сложные, многоярусные внутренние заслоны утечке сверхсекретной, раскрывающей чинимый ими произвол информацией.
Обстановка строгой секретности способствовала укоренению и расширению применения противоправных методов и действий. Предпринимаемые время от времени внутриведомственные попытки пресечь крайние формы злоупотреблений и убрать свидетелей противозаконных действий стимулировали повышение степени внутренней засекреченности всякой информации, и в том числе в самих карательных органах, – возникновение «секретности в секретности».
Важнейшее значение для понимания отношения чиновников этого ведомства к любым запросам по Катынскому делу имеет и информация П.К. Костикова о беседе с генералом КГБ Г.С. Жуковым, во время войны уполномоченным по созданию иностранных формирований в СССР и, в частности, личным представителем Сталина по польским делам. Хлопоча о своем восстановлении в правах (получении пенсии) и стараясь быть максимально убедительным в глазах компетентного партийного функционера, Жуков признал роль НКВД в ликвидации польских военнопленных. Ведомственному, клановому интересу он, однако, не изменил, ограничившись полуправдами о сроке, мотивах и обстоятельствах катынского расстрела. «Никаких документов по Катынскому делу нет, и нет никакого смысла их искать»{41}, – заявил он со всей решительностью человека осведомленного. Оставив на его совести эту профессиональную ложь, приведем другое его признание, имеющее для истории Катынского дела весьма важное значение. Так вот, по его словам, он впервые заговорил об этом деле с кем-либо вне службы безопасности. И далее: «...Равно в НКВД, как и в КГБ было строго запрещено вести какие-либо разговоры о Катыни, даже как о немецком преступлении»{42}.
Примечания
1. Безыменский Л. Секретный пакт с Гитлером писал лично Сталин: «НВ» получило доступ к личному архиву вождя // Новое время. 1998. № 1. С. 30-33.
2. Документы и материалы по истории советско-польских отношений (далее – Документы и материалы). Т. VII. М., 1973. С. 198-199.
3. Там же. С. 198.
4. См.: Соколов Б.В. Похвальное слово Виктору Суворову и эпитафия катынским полякам // Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? Незапланированная дискуссия. М., 1995. С. 24—29.
5. Документы и материалы. Т. VII. С. 199.
6. Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 495. Оп. 75. Д. 434. Л. 37; Ф. 17. Оп. 128. Д. 1161. Л. 84, 87 и др.
7. См.: Gomułka Władysław. Pamiętniki. Т. II. W-wa, 1994. S. 293-302; Яжборовская И.С. «Согласовать со Сталиным»: (Советско-польские отношения и проблема внутреннего устройства Польши в конце 1943 – начале 1945 г.) // У истоков «социалистического содружества». М., 1995. С. 37, 73.
8. Там же. С. 40-41.
9. РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 440. Л. 1 и др.
10. Документы и материалы. Т. VIII. М., 1974. С. 15.
11. Там же. С. 21-22.
12. Там же. С. 23.
13. Там же. С. 24.
14. Там же. С. 27.
15. Переписка Председателя Совета министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны. 1941—1945. Т. 2. М., 1957. С. 127.
16. Там же. Т. 1. М., 1957. С. 214.
17. Архив внешней политики (далее – АВП). Фонд секретариата Вышинского. Оп. 13. Д. 10. Л. 63. Материалы из этого фонда предоставлены Ю.Н. Зорей.
18. Там же. Л. 20. См. также: Нюрнбергский процесс: Сборник материалов в 8 томах. Т. 1. М., 1987; Т. 2. М, 1987; Т. 3. М., 1988; Т. 4. М., 1990.
19. Лебедева Н. Сталин на Нюрнбергском процессе // Московские новости 1995. № 19. С. 15.
20. Государственный архив Российской Федерации (далее – ГА РФ) Ф. 7445. Оп. 2. Д. 391. Л. 43—46.
21. Цит. по: Абаринов В. Катынский лабиринт. М., 1991. С. 164.
22. Плутник А. Тайны Нюрнбергского процесса не раскрыты и 50 лет спустя // Известия. 13 октября 1995 г.
23. Seidl A. Der Fall Rudolf Gess. 1941—1987. München, 1988. S. 170.
24. Лебедева Н. Указ. соч.
25. Плутник А. Указ. соч.
26. Kostikow Р., Roliński В. Widziane z Kremla. Moskwa—Warszawa. Gra o Polskę. W-wa, 1992. S. 196.
27. См.: Зоря Ю. Режиссер катынской трагедии // Берия: конец карьеры. М., 1991. С. 183.
28. Ступникова Т.С. «...Ничего, кроме правды...» Нюрнберг – Москва: Воспоминания. М., 1998. С. 103, 104.
29. Kurczab-Redlich К. Prokurator, którego nie było // Sztandar Młodych. W-wa, 27—29, 30 czerwca, 1 lipca 1997; Eadem. Raport Zorii // +Plus-Minus. 2000. № 30. S. 1, 6; Курчаб-Редлих К. Доклад Зори // Новая Польша. 2000. № 9. С. 73-82.
30. ГА РФ. Ф. 7445. Оп. 1. Д. 64. Материалы обсуждения Катынского дела (по стенограмме) обстоятельно цитирует и анализирует В. Абаринов в книге «Катынский лабиринт».
31. Главная военная прокуратура (далее – ГВП). Д. 159. Т. 8/60; Т. 10/62.
32. Там же. Т. 10/62.
33. Byłem w Katyniu. Rozmowa z dr. Hieronimem Bartoszewskim, lekarzem, członkiem Komisji Technicznej PCK w 1943 r. // Przegląd Tygodniowy. 1989, № 18. S. 15.
34. ГА РФ. Ф. 7021. On. 114. Д. 18. Л. 1-36.
35. Report of the massacre of Polish Officers in the Katyn wood: facts and documents. London, 1946; IV Facts and documents concerning the Polish prisoners of war captured by the U.S.S.R. during the 1939 campaign. London. 1946 XII; Biliński P. Marian Heitzman – badacz zbrodni katyńskiej // Arkana. 2000. № 2; Nowak-Jeziorański J. Rozmowy o Polsce. W-wa, 1995. S. 182.
36. ГВП. T. 8/60. Л. 64.
37. Ступникова Т.С. Указ. соч. С. 104.
38. Там же. С. 109-111.
39. Большая Советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 20. М., 1952. С. 389—390.
40. Kostikow Р., Roliński В. Op. cit. S. 192.
41. Ibid. S. 196.
42. Ibid. S. 197.
Советско-польские отношения под бременем «официальной версии» катынского преступления в годы «оттепели» и десятилетия «застоя»
Смерть Сталина и наступление хрущевской «оттепели» открыли новую эпоху, которую с нетерпением ожидали народы «социалистического содружества». Крах автократического сталинского режима, XX съезд КПСС создавали новый климат в СССР, открывали путь конструированию новых международных отношений. Динамика советско-польских отношений являлась показателем их развития.
Еще недавно сам Хрущев нередко ставил свою подпись вместе с другими членами сталинского руководства по сталинской воле под расстрельными документами, деля ответственность, за массовые репрессии, за депортации и расстрелы в УССР и Западной Украине, за чудовищное избиение своих бывших друзей и соратников. Впрочем, он и не скрывал, что при жизни Сталина находился полностью по его влиянием. Однако, как не без основания утверждает Ф. Бурлацкий, «его роль несравнима с ролью ближайших соратников Сталина»{1}. Он был мало информирован в тайных, закулисных делах и решениях Политбюро, оставался фигурой противоречивой, сохраняя в себе потенциал человечности, искренности и чувства вины. Это и подвигло его выступить инициатором разоблачения сталинщины. Правда, он делал упор на разоблачение культа личности Сталина, не будучи в состоянии глубоко переосмыслить порочные свойства автократического режима, да и сознательно не желая сказать всю правду о репрессиях.
Для польской общественности, напряженно следившей о развертывании событий в Советском Союзе, мерой его демократизации было отношение к мрачным страницам исторического прошлого двусторонних отношений, к сталинским злодеяниям, жертвами которых неоднократно становились поляки. К катынской теме Хрущев подошел не сразу. Новации во внешней политике, трансформация ее принципов и норм начались на XX съезде КПСС с их определенным переосмыслением и смягчением. Вырвавшись, как ему казалось, из цепких оков воспитанного сталинско-бериевским режимом клана, новый лидер партии-государства позволил себе действовать на внешнеполитической арене более раскованно, а временами и весьма радикально. В «социалистическом лагере» большой резонанс вызвала содержавшаяся в его докладе на съезде мысль о «возможности новых форм перехода к социализму», отличных от советских. Она была воспринята как свежее веяние, как многообещающая декларация равноправности отношений.
Однако сталинская пуповина держала Хрущева крепко, поэтому не следует преувеличивать масштабы переосмысления им деформированной Сталиным внешней политики СССР. «Отпускать» Центральную и Юго-Восточную Европу он не собирался. Наоборот, ее реакция на XX съезд, быстрый рост свободолюбивых настроений, которые он воспринял как всплеск антисоветизма (а среди получаемых в Москве информационных сообщений из Польши были упоминания и о Катыни, о требованиях со стороны организаций ПОРП, интеллигенции – например, в Щечине, Торуни – пересмотреть принятую версию Катынского дела, изменить отношение к Варшавскому восстанию, к событиям 17 сентября 1939 г. и т.д.{2} вызвали прежний рефлекс немедленного воздействия на польское руководство.
Хрущев продолжал руководствоваться сталинскими догмами – для обеспечения «единства и сплоченности социалистического лагеря» по-прежнему применялись прежде всего методы прямого давления.
После смерти Б. Берута Хрущев пытался продолжать прямой нажим на руководство ПОРП, старался поставить его под непосредственный контроль.
Накануне VIII пленума, на котором польские руководители предполагали выдвинуть Вл. Гомулку на пост первого секретаря партии, из Москвы через посла в Варшаве П.К. Пономаренко была передана «настойчивая просьба» Хрущева. Он полагал, что вопрос о кадровом составе верхнего эшелона ПОРП должен решаться в Москве согласно установленному Сталиным коминтерновскому ритуалу. Для этого он приглашал прибыть в СССР весь состав Политбюро вместе с Гомулкой.
Гомулка однажды уже поломал эту традицию, заняв пост секретаря партии 23 ноября 1943 г. без требуемого согласования, на основе выборов в ЦК ППР, вопреки рекомендации запретить такую акцию «на ближайшие 2—3 месяца»{3}. Это имело последствием длительное осложнение отношений.
И на этот раз поляки твердо и решительно (Хрущев беседовал по телефону с Охабом) отклонили «приглашение». В ответ приказом от 18 октября министра обороны СССР Г.К. Жукова советские войска, находившиеся на польской территории, а также Балтийский военный флот были приведены в боевую готовность. Пономаренко поставил первого секретаря ЦК Э. Охаба в известность, что в день открытия пленума ЦК в Варшаву намерена прибыть делегация КПСС во главе с Хрущевым. В связи с этим было рекомендовано отложить пленум. Срочно собранное Политбюро ЦК ПОРП подтвердило намерение пленум проводить, не уступая давлению.
Утром 19 октября пленум был открыт, а Гомулка кооптирован в состав Центрального Комитета. Его позиция в руководстве была легитимизирована. После этого был сделан перерыв в связи с прилетом самолета с Молотовым, Микояном и Кагановичем на борту, а вслед за ним личного самолета Хрущева. Польские руководители напряженно следили за тем, как он, спустившись на бетон аэродрома вблизи польской столицы, в ярости грозил им кулаком и демонстративно двинулся в сторону встречавших его советских генералов. Только после обмена приветствиями с ними Хрущев, как рассказывал Т. Тораньской Э. Охаб, «подошел к нам и снова начал махать у меня перед носом кулаком». Охаб подчеркивал: «Разумеется, это был афронт не только по отношению ко мне, но по отношению ко всей польской партии. [...] Я сказал ему: в польской столице мы хозяева и нет нужды устраивать спектакль на аэродроме, поехали в Бельведер, где мы нормально принимаем наших гостей. В Бельведере я заявил ему: мы не отменим пленум, я много лет просидел в тюрьмах, не боюсь никакой тюрьмы и вообще меня ничем не запугают. Мы отвечаем за свою страну и делаем то, что считаем нужным, потому что это наши внутренние дела. Мы не делаем ничего, что бы угрожало интересам наших союзников, и особенно интересам Советского Союза»{4}.
Конфликт был острым. По словам самого Хрущева, «разговор шел грубый, без дипломатии». Он требовал объяснений, грозил вооруженной интервенцией, кричал: «Мы разберемся, кто враг Советского Союза», клеймил за измену. Позже, в воспоминаниях, Хрущев включил в изложение канвы визита оговорку: «хотя мы и считали, что это все-таки накипь, которая образовалась в результате прежней неправильной политики Сталина». Но на аэродроме он демонстративно спросил посла, указывая на Гомулку: «А это кто такой?» Советские дивизии уже были на марше, часть членов ЦК не ночевали дома, боясь арестов.
Гомулка проявил выдержку и характер. Он тонко уловил ноту демократизма в противоречивом облике ниспровергателя сталинщины и опередил посла с ответом по-польски: «Я – Гомулка, которого вы три года держали в тюрьме». В ходе горячей ночной беседы советской стороной высказывались претензии по поводу того, что кандидатура Гомулки и другие кадровые решения не были согласованы с Москвой, что польские руководители терпимо относятся к «антисоветской агитации». Хрущев, видимо не посвященный в детали событий 1947—1948 гг., отрицал роль советской стороны в репрессировании Гомулки. Тон непримиримой конфронтации удалось преодолеть с трудом. Польские лидеры добились прекращения движения танков на Варшаву. Долго велись переговоры – «трудные, горькие, очень детальные»{5}.
Для понимания тональности и содержания этого резкого и принципиального выяснения отношений важен подтвержденный Ю. Циранкевичем эпизод. Когда Молотов пытался вставить в дискуссию свою реплику, Гомулка оборвал его словами: «А Вам, товарищ Молотов, нечего здесь говорить. Польский народ помнит Ваше выступление на Верховном Совете Советского Союза о том, что „уродливое дитя (детище. – Авт.) Версальской системы перестало существовать“». После этого Молотов оставил попытки участвовать в споре. Хрущев посчитал должным указать в воспоминаниях на сложности в отношении поляков к СССР с 1939 г., когда Сталин разделил с Гитлером Польское государство, а советские пропагандисты попали в «трагическую ситуацию», не имея возможности поддержать освободительную борьбу польского народа. Подчеркивая, что на низовом уровне «никаких польско-русских коллизий национального порядка... не возникало», и камуфлируя собственную роль в преследовании польского национального меньшинства на Украине, он кивал только на Сталина: в 1936—1938 гг. велась «настоящая „погоня за ведьмами“, какому-либо поляку трудно было где-то удержаться. [...] Все поляки были взяты в СССР под подозрение»; еще до Второй мировой войны «в украинской партийной среде поляков почти не осталось, всех их уже уничтожил Сталин», который «вообще сохранял самое острое недоверие к Польше», но после войны, встречаясь с польскими руководителями, как в другом месте подметил Хрущев, «умел их приласкать, занимая позицию ухаживания, чтобы они забыли о 1939 годе». Подчеркивая, что давление на переговорах было неуместно, но все же признав, что он прибегнул к этому традиционному методу общения, Хрущев в итоге осознал следующее: «...необходимо время, чтобы у людей создалось доверие к нам и те, кто заблуждается, убедились на деле, что мы являемся друзьями польского народа, что наша дружба обеспечивает Польше безопасность и неприкосновенность западных земель»{6}.
Внезапно наступивший перелом в поведении Хрущева, отказ от вооруженного вмешательства советских войск в события в Польше были связаны, как выяснилось позже, и с позицией китайского руководства. Лидеры КПСС, направляясь в Варшаву, поставили в известность о своих намерениях руководителей Чехословакии, ГДР и Китая. Последние опротестовали правильность подобной акции как излишнего вмешательства в дела партнеров по Варшавскому Договору. Хрущеву пришлось вернуть войска на базы. Однако Венгрию вооруженная интервенция не миновала.
Попытки продолжать в Центрально-Восточном регионе прежнюю линию, когда уже наступили радикальные перемены, оказывались неэффективными и диктовали пересмотр отношений. Было заявлено об их вступлении в новую, более высокую фазу. Датированная 30 октября 1956 г. «Декларация Правительства Союза ССР об основах развития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и другими социалистическими странами» констатировала, что их взаимоотношения будут строиться на базе равноправия, уважения территориальной целостности, государственной независимости и суверенитета, а также невмешательства во внутренние дела друг друга. Впервые в документе такого ранга подчеркивалась необходимость учета уроков исторического прошлого и национальных особенностей каждой страны.
Хрущев, который с большой политической прямотой старался—и умел – завоевывать приверженцев, интуитивно почувствовал в Гомулке лидера большого формата и близких ему установок. Он принял Гомулку, проникшись к нему уважением и стараясь поддерживать добрые и близкие товарищеские, в своей излюбленной манере – компанейские отношения. В международном отделе ЦК КПСС, по сведениям П.К. Костикова, считали, что Хрущев видел в Гомулке сторонника перемен, который «будет его полезным союзником в Москве в борьбе с противниками оттепели»{7}. Однако это были люди очень разного склада, согласование позиций давалось им не без труда.
Процесс избавления от наследства сталинщины оставался сложным и противоречивым. Существовали опасения усиления антисоветизма, антикоммунизма. Политика в значительной степени была прагматичной.
Сухой, суровый до жесткости Гомулка, принимавший решения по здравому размышлению и взвешенному учету обстоятельств, последовательный и бескомпромиссный, периодически посещал Москву по случаю ритуальных празднований годовщины Октябрьской революции, совещания коммунистических и рабочих партий, XXI съезда КПСС. Каждая такая поездка сопровождалась близким контактом с Хрущевым, который в раскованной полуофициальной обстановке, за рюмкой водки – и не одной – раскрывался во всем богатстве своей невоздержанной, импульсивной натуры, слабо представляющей, что такое тактичность. Московский хозяин часто действовал по наитию, не додумывая до конца свои шаги и позволяя себе быть непоследовательным в оценках, полагаться на интуицию.
Вставал ли во время этих визитов вопрос о Катыни? Прямых свидетельств этого нет. Но косвенные существуют.
Проблема расстрела польских пленных на территории СССР в течение многих лет была в поле зрения Гомулки. В его «Воспоминаниях», даже в сокращенной версии, она занимает объем более печатного листа. Автор берет на себя определение позиций руководства ППР и собственных взглядов по этому вопросу. Он открыто признает, что в заявлении от 23 апреля 1943 г. в газете «Трыбуна вольнощи», в статьях и заметках на ее страницах в мае того же года и в специальном обращении к обществу, как и в послевоенных изданиях материалов периода оккупации позиция ППР соответствовала официальной позиции советских властей. В начале мая 1943 г. Гомулка и сам опубликовал в газете «Глос Варшавы» подобную статью. Зато в издании своих произведений 1947 г. он ее уже не публиковал, «имея совершенно другую точку зрения на катынское преступление».
В «Воспоминаниях» Гомулка осмысливает политический контекст катынского вопроса, позицию союзников и возможные последствия подрыва их единства, к чему вела в годы оккупации поддержка идеи «советского следа». Позже он публично не поддерживал «немецкий след», а с октября 1956 г. рекомендовал пропаганде молчание по этому вопросу – или, как это формулирует А. Верблян, «неангажирование в принятии какой-либо версии». «Большая всеобщая энциклопедия» Польского научного издательства должна была отказаться от публикации статьи «Катынь». Было распоряжение не помещать на кресте в Катынской долине Повонзковского кладбища в Варшаве никакой даты. Ведутся споры вокруг проблемы отношения Гомулки к вопросу о предложении Хрущева довести до общественного мнения, что катынское убийство было совершено по предложению Сталина, а Гомулка якобы воспрепятствовал этому. Споры явно носят черты политической борьбы. Гомулка высказался по этому вопросу в своих «Воспоминаниях» в контексте публикации в израильском издании «Курьер и Новины» в апреле—июле 1973 г. апокрифа «Мои сорок лет – откровения Владислава Гомулки» (во фрагментах этот текст передавало и радио «Свободная Европа»).
Гомулка называет эту публикацию «клеветой, сконструированной со злым умыслом», одновременно указывая, что эта публикация была результатом ведшихся против него интриг «партийной верхушки», «руководящих партийных верхов».
А. Верблан считает, что нет никаких достоверных свидетельств, подтверждающих предложение Хрущева и такого рода информация создает впечатление «конъюнктурного вымысла»{8}. Более того, он убежден: из решения от марта 1959 г. (практически из записки Шелепина) вытекает, что Хрущев знал о преступлении и не хотел его обнародовать. В действительности решения Политбюро не было: была только записка Шелепина и не оформленный как заключительный документ проект решения. Даты возможной беседы Хрущева с Гомулкой и записки не совпадают. Но это не убеждает.
Можно ли полностью отрицать объективность информации о том, что Хрущев во время одного из приездов Гомулки в Москву в неофициальной атмосфере предложил ему при благоприятных обстоятельствах публично сказать о Катыни?
Представляется, что целиком отрицать это нельзя.
По свидетельству В.М. Фалина, Хрущев, как человек настроения, «идеологические вольности» и сам практиковал, и от других терпел. Он к XXII съезду КПСС «собирался докопаться до нижних кругов сталинского ада и предать гласности сводные данные о совершенных под водительством Сталина» преступлениях. Собирался и отказался. Главная причина: «Хрущев не был человеком, готовым сводить счеты с самим собой. Отводя правду от себя, ему не оставалось иного, как приглаживать Сталина». Он не сумел перешагнуть через сталинизм и оказался мастером «шлюзования информационных потоков»{9}.