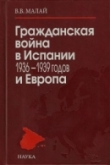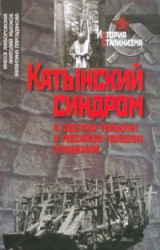
Текст книги "Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях"
Автор книги: Инесса Яжборовская
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 46 страниц)
Информация о том, что Хрущев поставил перед Гомулкой вопрос об обнародовании правды о Катыни во время одного из визитов последнего в Москву, появилась в книге записанных Б. Ролиньским воспоминаний сотрудника ЦК КПСС П.К. Костикова «Увиденное из Кремля. Москва—Варшава. Игра за Польшу». У авторов появилась возможность не только проанализировать эти воспоминания, просто обойти которые они не в праве, но и провести беседу с Костиковым, уточнив ряд существенных моментов.
П.К. Костиков ничего не слышал об израильской публикации. Его источник – непосредственный участник, в большей мере свидетель разговора двух крупнейших деятелей, присутствовавший при встрече по долгу службы сотрудник ЦК КПСС Я.Ф. Дзержинский. Это делает факт разговора вполне правдоподобным. Однако, в какой мере можно принять на веру свободный пересказ с его слов, с включением фрагментов прямой речи, записанный Ролиньским на кассету, расшифрованный и отредактированный без авторизации со стороны хотя бы Костикова? Получившееся в результате усилий нескольких человек обширное живописание с существенными элементами реконструкции трудно считать имеющим подлинно документальное звучание.
В ходе разговора с Костиковым удалось уточнить, что беседа, собственно, не была, видимо, даже полуофициальной. Это был сделанный мимоходом, необязывающий, доверительный зондаж, общий смысл которого Дзержинский понял, можно надеяться, так, как он изложен в книге Костикова. А в ней говорится, что разговор произошел во время официального визита Гомулки в Москву, накануне выступления на митинге дружбы на одном из предприятий. Хрущев был основательно под хмельком, рассуждал в привычном ключе о Сталине и его преступлениях и неожиданно предложил сказать на митинге о Катыни как злодеянии Сталина, с тем чтобы Гомулка поддержал это выступление заявлением, что польский народ осуждает это деяние. Оба руководителя отдают почести убитым и (в духе принятых идеологем) завершают митинг констатацией, что общие несчастья, порождение политики Сталина, сплачивают народы, укрепляют дружбу и братство.
Вот как эта сцена завершается в книге Костикова:
«Гомулка слушал это в огромном напряжении. Через минуту он отозвался сдавленным голосом:
– Вы не отдаете себе отчета, какое эхо это может вызвать в нашем народе, какие реакции и настроения, как это может повлиять на польско-советские отношения. Это для нас очень трагичное дело, серьезное, оно не годится для того, чтобы о нем говорить на митингах. Это могло бы вызвать цепную реакцию. А документы у вас есть? А где лежат офицеры? Все в Катыни? Или еще где-то? Вы готовы ответить на все вопросы семей? Нет? Этого дела, Никита Сергеевич, так решить не удастся. Если вопрос созрел для выяснения, надо это сделать, но серьезно, и знать, как повести себя по отношению к последствиям, которые вызовет публичное обнародование дела. Нет, на митинге не будем это начинать.
Хрущев еще пробовал уговаривать Гомулку завершить Катынское дело на завтрашнем митинге, но Веслав не уступил»{10}.
Таков ли был внезапно возникший, краткий обмен мнениями или даже только репликами? Не преувеличен ли его ранг, его значение? Вообще, возможен ли он был?
Предлагаемая логика обращения Хрущева к Гомулке и хода рассуждений вполне типична для этого весьма прагматичного, но спонтанно действовавшего деятеля. Современный читатель, разумеется, не может не припомнить Хрущеву участие в сталинских репрессиях, расстрелы на территории Украины узников Старобельского лагеря и тюрем Западной Украины, безжалостные депортации населения. Однако, зная менталитет, состояние правового сознания и морали сталинского окружения, а также их трансформацию в период XX съезда КПСС, трудно усомниться в правдоподобии именно такого поведения Хрущева.
Факт этой беседы, с передачей основного смысла аргументации Гомулки, подтвердила в доверительном разговоре со своей приятельницей и московской соседкой В. Гостыньской, некогда обучавшейся в Институте красной профессуры и возглавившей в Варшаве Отдел польско-советских отношений, Н.П. Хрущева. Об этом были проинформированы авторы этой книги как редакторы томов «Документов и материалов по истории советско-польских отношений». По воспоминаниям С.Н. Хрущева, его отец не имел особых тайн от семьи, которая всегда была достаточно хорошо информирована о его действиях. Нельзя сбрасывать со счетов масштабность личности и политическую зрелость, заангажированность жены Хрущева, с которой он познакомился в Промышленной академии, где она преподавала ему политическую экономию.
Соответствующие запросы делались издателями документов и по официальной линии – через международное ведомство ЦК КПСС.
Хотя Никита Хрущев не был в составе узкого руководства Политбюро, рассматривавшего 5 марта 1940 г. «вопрос № 144» – а такова была оперативная практика тех времен, это не ставит под сомнение его осведомленность в данном деле, а также готовность почти через два десятилетия признать «советский след» в Катынском лесу, чтобы при поддержке Гомулки усилить антисталинский резонанс своих выступлений. Он любил делать «жесты благоволения» для завоевания расположения своих партнеров.
Когда мог иметь место такой жест в адрес Гомулки? В книге Костиков не называет даты, но в личной беседе он высказал мнение, что на начальной стадии урегулирования отношений двух руководителей, уже при первой встрече в Москве, то есть 15—19 ноября 1956 г. Именно тогда детально обсуждались принципы двусторонних отношений, которые были записаны в совместной декларации, – полное равноправие, уважение территориальной неприкосновенности, независимости и суверенности, невмешательства во внутренние дела.
Можно предположить, что обмен репликами о Катыни происходил неоднократно: например, мог состояться на рубеже 1958—1959 гг., когда Гомулка во время визита 24 октября – 10 ноября 1958 г. выступал на фабрике «Красный пролетарий», возможно, и 27 января – 5 февраля 1959 г., когда Гомулка находился в Москве для участия в работе XXI съезда КПСС, или 15 февраля 1959 г., когда наведывался к Хрущеву с рабочим визитом. Именно в этот период в поле зрения последнего была катынская проблема. Результатом этого стала записка председателя Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР А. Шелепина, датированная 3 марта 1959 г. и служившая обоснованием для предложенного проекта постановления ЦК КПСС о ликвидации дел «по операции, проведенной в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 5-го марта 1940 года...»{11}.
Из записки Шелепина однозначно следует, что Хрущев, который не входил в состав узкого руководства Политбюро, рассматривавшего «Вопрос НКВД СССР» (п. 144) 5 марта 1940 г., и не привлекался к оформлению соответствовавшего решения, получил достаточно полную информацию о времени и обстоятельствах преступления, о характере принятого политического решения – постановления Политбюро ЦК КПСС о порядке расстрела – на основании учетных дел, заведенных на поляков как военнопленных и интернированных, без суда – они были «осуждены» лишь на основании решения «тройки». Готовя записку, Шелепин затребовал и получил – с датой 27 февраля 1959 г. – выписку из протокола Политбюро ЦК ВКП(б) с решением от 5 марта 1940 г. Вероятно, он познакомил с нею Хрущева, тем более что его подписи на документе не нашел.
Шелепин настаивал на сохранении дела в строгой секретности. Этот принцип строго соблюдался и должен был обязывать и впредь, поскольку «для советских органов все эти дела не представляют ни оперативного интереса, ни исторической ценности. Вряд ли они могут представлять действительный интерес для наших польских друзей. Наоборот, какая-либо непредвиденная случайность может привести к расконспирации проведенной операции, со всеми нежелательными для нашего государства последствиями».
Председатель КГБ считал допустимым и возможным вернуть Хрущева к «нашей версии» (хотя вполне откровенно делится данными об истинном положении вещей) и указывал на обоснованность и безопасность ее поддержания. Он писал: «Тем более, что в отношении расстрелянных в Катынском лесу существует официальная версия, подтвержденная произведенным по инициативе советских органов власти в 1944 году расследованием Комиссии, именовавшейся „Специальная комиссия по установлению и расследованию расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров“.
Согласно выводам этой комиссии все ликвидированные там поляки считаются (Шелепин выделяет это слово. – Авт. ) уничтоженными немецкими оккупантами. Материалы расследования в тот период широко освещались в советской и зарубежной печати. Выводы комиссии прочно укрепились в международном общественном мнении»{12}.
Обращение к Хрущеву с предложением уничтожить основной массив материалов Катынского дела, спрятав несколько документов, которые могут понадобиться верховному руководству страны, отражало тот зигзаг, через который проходил столь напористый вначале реформатор. На самом деле он также был продуктом сталинщины и его сковывала боязнь перед полной гласностью и суровым судом народа. Он был легок и неосмотрителен в принятии решений, легко и отказывался от них, когда в нем говорил прежний опыт и срабатывали принятые стереотипы поведения.
Уже осенью 1956 г. и особенно после событий в Польше и Венгрии была вновь запущена в ход машина политических репрессий, хотя она никогда уже не набирала прежних оборотов. Реабилитирование стало приобретать все более ограниченный характер. Круг лиц, привлекаемых к ответственности за незаконное репрессирование и применение противозаконных мер во время следствия, сужался, рассмотрение дел затягивалось... Ни одно преступление не квалифицировалось как геноцид. Суд не шел дальше применения статьи о злоупотреблении властью, служебным положением.
Хрущевские реформаторские импульсы, как всякое послабление «сверху», быстро заглохли. Расклад сил в верхних эшелонах власти не способствовал их поддержанию даже в рамках сформулированной Хрущевым ограниченной задачи десталинизации.
Попытка Гомулки вернуться к разговору о проблемах трудного прошлого двусторонних отношений успеха не имела. По сведениям Костикова, Хрущев его «иронически оборвал:
– Вы хотели документов. Нет документов. Нужно было народу сказать попросту. Я предлагал... Не будем возвращаться к этому делу».
Даже если этот пересказ неточен и не имеет подтверждения в других источниках, а участников разговора давно нет в живых и мы располагаем только мнением Гомулки, нельзя полностью проигнорировать эти факты, тем более факт обращения польского руководителя к советскому по этому столь важному для развития двусторонних отношений вопросу. Продолжения, сколько-нибудь серьезного обсуждения это дело не получило. Это достаточно очевидно, и Гомулке нечего было подтверждать, нечем было хвалиться. Нельзя не учитывать и серьезности, обстоятельности и ответственности Гомулки, а также его сдержанности и даже скрытности. Трудно представить себе, чтобы он высказался по трудным проблемам, не взвешивая политических результатов, а тем более по деталям необязательных разговоров, которые не приобрели сколько-нибудь значимых масштабов, чтобы прочно отложиться, например, в памяти... Разумеется, с этим можно спорить и не соглашаться.
Для авторов данной книги свидетельства Костикова важны тем, что в аппарате ЦК КПСС эта информация подспудно функционировала, жила в сознании аппаратчиков, подталкивала П.К. Костикова и Г.Х. Шахназарова заняться поисками истины. По рассказу Костикова, усилия оказывались тщетными: им ясно дали понять, что в эту проблему не стоит входить, путь к ней заказан. У них возникло предположение, что материалов в ЦК нет, что они глубоко запрятаны на Лубянке.
И еще раз предоставим слово Костикову: «Начали даже заметать следы хрущевской инициативы. Да, он там что-то нес о Катыни, но только потому, что по-звериному ненавидел Сталина и был готов приписать ему весь ад на земле. Ведь известно, что Катынь – это дело рук гитлеровцев... Эта версия, как тяжелая каменная плита, прикрыла тайну могил»{13}.
Однако ростки правды, хотя и заглушаемые чрезвычайной секретностью и страхом, все же понемногу пробивали себе дорогу и в аппарате КПСС. Свидетельство этому приводит В.А. Светлов, которому по долгу службы в польском секторе ЦК доводилось соприкасаться с проблемой катынских захоронений, которую периодически поднимали польские руководители. Сопровождая в начале 60-х годов при поездке в Катынь польского посла Б. Ящука на открытие памятника, он впервые услышал, что надпись на нем, в духе советской официальной версии, составленная по поручению секретаря смоленского обкома КПСС П. Абрасимова, бывшего посла в Варшаве, не соответствует истине. Один из секретарей этого обкома во время церемонии доверительно шепнул Светлову, что на самом деле поляков расстреляли люди из советских органов безопасности. Затем Светлов нашел подтверждение этому в беседах с поляками, в публикациях, увидевших свет на Западе. Но не в СССР. Десятилетиями он должен был хранить страшную тайну в себе{14}.
XX съезд не сумел реализовать до конца свой потенциал. Партия оказалась неспособна, «подобно барону Мюнхгаузену, вытащившему себя за волосы из болота, выкарабкаться из кровавой трясины, из вязкой лжи»{15}.
Идеологические установки послевоенных отношений «дружбы, сотрудничества и взаимопомощи» дополнялись жестким набором трафаретов, стереотипов и клише, прославляющих сталинскую внешнюю политику. Трудные проблемы истории советско-польских отношений практически отсутствовали в сознании советского общества. В нем жила черно-белая картинка прошлого с его конфронтационностью, с антагонистической трактовкой межвоенного периода, в которой Польше отводилась роль символа угрозы со стороны «капиталистического окружения». Всякое упоминание о межвоенной Польше снабжалось эпитетами «буржуазно-помещичья», «бело-панская», а поляки чаще всего именовались «белополяками». Эти концепции воспроизводились преимущественно в исторической науке, но в ней они отошли на второй план, поскольку официальная идеология диктовала первостепенную важность пропаганды революционно-пролетарского сотрудничества и боевого соратничества в годы Второй мировой войны. На уровне лозунговой пропаганды победоносно утверждался классово-интернационалистский подход, масштабно закладывались декларативные, плакатные формулы дружбы. Однако корректный научный анализ событий кануна и начала Второй мировой войны, проблемы советской политики в отношении Польши, судеб Польского государства и его армии, в том числе пленных 1939 года, который позволил бы верифицировать негативные клише прошлого и по-настоящему провести критическую переоценку совместной истории, в том числе деформированной Сталиным советской внешней политики, не был возможен.
В официальной идеологии живы были стереотипы межвоенного периода, когда Польша, не оправдавшая надежд на помощь в распространении мирового революционного процесса, при мобилизации пропагандистских средств кино, плакатов, стихов и песен была опробована на иную роль – внешнего врага, «агента мирового империализма». На бесконечных театрализованных митингах и в «Окнах РОСТА» тогда постоянно мелькал, западая в массовое сознание, образ наглого, пузатого и усатого «пана» в конфедератке, с кнутом и кандалами – семиотическими знаками угнетения украинского и белорусского народов. Он как правило фигурировал в одном ряду с Врангелем и другими заклятыми врагами советской власти, «лакеями» и «наемниками» Антанты. Затем пропаганда добавила к этому образ Польши как якобы главного врага СССР, ведущей силы «борьбы за ликвидацию Советского Союза», его раскола на составные части, а также как приспешника Гитлера – в зависимости от меандров текущей политики.
Поскольку апологетика сталинизма была имманентной составной частью общественного сознания и обязывала в исторической науке, восприятие межвоенного Польского государства как препятствия развитию мировой революции исключала подлинно научную верификацию событий 1939—1940 гг.
Воздействие бурного 1956 года на историческую науку, на ее освобождение от пут и ограничений тоталитарной идеологизации было мощным – и прежде всего в Польше. В Институте истории Польской академии наук (ПАН) родилась, в частности, идея вернуться к источникам, чтобы восстановить правду о трудных страницах двусторонних отношений – и сделать это обстоятельно и тщательно. В 1957 г. началось издание серии «Архивных материалов по истории польско-советских отношений».
Выход первого же тома вызвал болезненную реакцию советских идеологических партийно-государственный служб. Тревогу забил один из ведущих сотрудников «Большой Советской энциклопедии» и издателей энциклопедических «Ежегодников», занимавшийся в 1939 г. возвеличиванием сталинской внешней политики и ее акций в отношении Польши, явившийся автором определения этой страны как «уродливого детища Версальской системы», – А.Я. Манусевич.
Вопрос решался на уровне переговоров аппарата ЦК КПСС и ЦК Польской объединенной рабочей партии (ПОРП), которые завершились созданием совместной двусторонней редколлегии с участием высоких представителей науки обеих стран, а также ответственных сановников из партийных, государственных и ведомственных архивов. На них возлагался тщательный отбор и продуманное комментирование комплекса документов с учетом «государственных интересов». В Варшаве в системе ПАН было создано специальное научное подразделение – Отдел польско-советских отношений во главе с профессором В. Гостыньской. Польскую часть редколлегии возглавила профессор Н. Гонсеровска-Грабовска, а особо влиятельным членом редколлегии был член ЦК ПОРП директор Института истории партии Т. Данишевский. Он приложил немало усилий, чтобы не допустить включения в советскую часть редколлегии Манусевича, справедливо полагая, что участие последнего не добавит изданию ни объективности, ни авторитета в польской научной среде.
Советская часть редколлегии в первом составе была сформирована в период либерализации аппарата управления, и вначале в ней преобладали сторонники хрущевских реформ. Они весьма щедро делились новыми материалами подведомственных архивов и были настроены вполне конструктивно.
Подлинное противостояние возникло при издании шестого тома, который должен был включать весь узел проблем 1939 года. Тут-то и обнаружилось, что коренные просчеты сталинской внешней политики критике и пересмотру не подлежат, несмотря на многочисленные деформации.
Когда издание документов только начиналось, военные историки сумели издать на излете хрущевской эпохи первый том «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза» и сказать в нем немало правды о тех трудных годах. В этот том вошла и проблематика 1939 года. Она была представлена непоследовательно и противоречиво, весьма эклектично соединяла прежние железобетонные оценки вроде «польской реакции, действовавшей в угоду фашизму», «бегства польского правительства из страны» и перехода Красной Армией границы после этого и т.д., с новыми важными моментами. Было признано, что польский народ с первого дня вел «освободительную, справедливую, антифашистскую войну за свою свободу и независимость», что Сталин ошибался в понимании военно-политической обстановки, а оценка Молотовым Польского государства и причин его распада «находилась в противоречии с исторической правдой: советский народ никогда не считал Польшу „уродливым детищем Версальского договора“». Позиция Молотова, сформулированная в докладе на сессии Верховного Совета СССР, была поименована «антиленинской», могущей возникнуть «только в условиях культа личности»{16}.
Наконец, в этом томе оказалась оценка советско-германского договора от 23 августа 1939 г. как вынужденного шага и была названа «демаркационная линия Писа—Нарев—Буг—Висла—Сан» (карта с разграничительной линией публиковалась в 1939 г.). В такой форме в печать впервые попало содержание секретного протокола, хотя о его существовании не было сказано ни слова, а факт определения демаркационной линии квалифицировался как «дальновидный и мудрый шаг советской внешней политики, являвшийся необходимым в создавшейся тогда обстановке», как успех СССР, добившегося от Германии «обязательства не переступать линию»{17}.
По тем временам это была вершина возможного, на которую ученые не смогли подняться вновь в течение четверти века. Не удалось это сделать и совместному советско-польскому документальному изданию, хотя ссылку на существование секретных протоколов на Западе и краткое изложение их содержания возглавлявший польскую часть редколлегии директор Института истории профессор Т. Чесляк включил в публикацию «Польский вопрос во время Второй мировой войны на международной арене»{18}, представив их тексты на обсуждение состава шестого тома. «Дезавуировав» представленные копии, МИД СССР решительно отверг саму возможность существования тайных протоколов, а к польскому изданию были выдвинуты претензии по поводу их несогласованной публикации. Позиция была столь жесткой, что стало ясно: ее невозможно преодолеть. Компромиссом стал выход тома с ничем не оправданной конечной датой – декабрь 1938 г. – и с опозданием на один год. Длительная борьба вокруг документов 1939 г., несогласие польской стороны обойти вопрос в очередном томе и попытка перейти сразу к изданию следующего, восьмого, тома показали безрезультатность стараний. Седьмой том вышел через четыре года без спорных документов, под угрозой прекращения издания.
Проблема Катыни, которую нельзя было обойти, поскольку она была поводом (точнее – предлогом) «приостановления» отношений Москвы с правительством В. Сикорского, решалась очень трудно даже в традиционном варианте. Советская часть редколлегии стремилась свести информацию к минимуму, сосредоточить ее в одном томе, чтобы не возвращаться к ней в связи с Нюрнбергом. Петитом, в подстрочнике, только по официальным материалам печати были приведены краткие данные о работе комиссии Н.Н. Бурденко: в аппарате ЦК КПСС И.А. Хренов как руководитель советской части редколлегии узнал об откровениях Хрущева и опасениях Гомулки, якобы боявшегося всплеска антисоветских настроений, и проинформировал коллег. Обязывающая официальная версия была аккуратно сохранена и даже как бы подкреплялась сведениями о проведении в СССР кампании протеста «против гитлеровских убийств в Катыни» и о сборе средств на танк «Мститель за Катынь»...{19}
«Компетентные» органы изымали документы советской стороны, ограничивали их выявление и представление, особенно по сложным проблемам военного (был изъят комплекс «трудных» документов 1939 г., Армии В. Андерса и др.) и послевоенного периодов двусторонних отношений. Убирались даже документы о дивизии им. Т. Костюшко и I Польской Армии.
Как признал тогда секретарь ЦК КПСС В.А. Медведев, «та же по существу линия продолжалась в годы брежневского застоя. На исследование ряда событий нашей общей истории сохранялся строгий запрет, особенно в СССР»{20}.
По свидетельству В.М. Фалина, работавшего в 3-м Европейском отделе МИДа, вопрос о секретных протоколах встал в 1968 г., когда готовился сборник документов «Советский Союз в борьбе за мир накануне Второй мировой войны» и он вошел в редакторский коллектив. Обращение к А.А. Громыко с предложением предать гласности секретные приложения к советско-германским договорам повлекло за собой ответ, что этот вопрос лежит вне компетенции министра и должен быть согласован в Политбюро. Затем было передано сообщение, что предложение признано «несвоевременным».
При переиздании документально обогащенного сборника Громыко, теперь уже и член Политбюро (дело было накануне очередного юбилея, в 1978 г.), решительно и коротко сказал: «Нет». Без протоколов издание теряло смысл{21}.
Обострение ситуации в Прибалтике и приближение 50-летия критически важных событий привели к инициированию в 1986 г. рассмотрения вопроса на Политбюро, которое действительно на этот раз состоялось. Теперь выступавшие, в том числе и Громыко, с разной степенью определенности высказывались в пользу подтверждения существования секретных протоколов. Только М.С. Горбачев занял иную позицию, поставив условием признания предъявление оригиналов.
Вместе с Е.К. Лигачевым он не видел необходимости и возможности сочетать движение вперед со снятием проблем прошлого: «Невозможно одновременно делать будущее и заниматься прошлым»{22}.
История становилась полем постоянного идеологического «взаимодействия», а на деле – усиленной индоктринации.
Систематически собиралась комиссия историков двух стран, вводившая научное сотрудничество в рамки «укрепления дружбы и сотрудничества», изучения рабочего, коммунистического и национально-освободительного движения и распространения революционных традиций. Значительную идеологическую нагрузку стала нести возглавляемая действительным членом АН СССР А.Л. Нарочницким советская часть двусторонней комиссии по учебникам. Она была занята проверкой и попытками корректирования в сторону унификации и единомыслия трактовки в школьных учебниках истории двух стран и отношений между ними.
Если с польской стороны совместные обсуждения происходили с привлечением широкой научно-педагогической общественности, то в СССР такого не случалось. Общие установки идеологического характера давались в ЦК, небольшая группа доверенных экспертов привлекалась для анализа текстов и представления письменных заключений. Рекомендации носили обязательный характер, поэтому достижение консенсуса по наиболее острым вопросам было чрезвычайно затруднено, несмотря на огромные усилия. Обсуждение учебника Анджея Л. Щенсняка, предоставлявшего школьникам свободный выбор трактовки исторических событий, закончилось рекомендацией изъять его из обращения. Почти целый день продолжалось сопоставление позиций двух сторон при обсуждении проблематики судеб польских военнопленных 1939 г. Советская сторона, постоянно контролируемая отделом науки ЦК КПСС, занимала несгибаемую позицию, отвергая как неприемлемую с точки зрения «советской официальной версии» польскую позицию по проблемам 1939 года и Катыни.
Никакой идеологический прессинг не был в состоянии нейтрализовать подпитываемый такой политикой рост недоверия к советской власти, скрытую конфронтационность ситуации «двойного дна».
Развилка, обозначенная XX съездом, была пройдена далеко не оптимальным образом. Наступило время, когда демократическая фразеология перестала тщательно маскировать антигуманную, антидемократическую сущность не поддавшегося реформаторскому натиску «сверху» левототалитарного режима. Как переход самого режима к демократии, так и преодоление в общественном сознании последствий его существования оказались гораздо более трудными и продолжительными по времени. Отрицание обесчеловеченных мифов стало бичеваться как «оплевывание истории», «глумление над святынями» и т.д.
Содержание мировосприятия вновь стало подгоняться под идеологемы. Эйфория избавления от суеверного страха перед сталинщиной иссякла. Советское общество вернулось к функционированию в рамках модели «авторитарной личности» со свойственным ей «конвенционализмом», «авторитарным подчинением», упрощенным стилем мышления и клишированным сознанием. Человек вновь должен был жить согласно официальной идеологии, а партия сосредоточивала в своих руках монополию контроля за каждым. Восстанавливалась неспособность жить вне рамок привычных мифологем.
Через два десятилетия, выделяя из оставивших тяжелый след в сознании народов событий межвоенного периода войну 1920 г. и поход Красной Армии на Варшаву, сталинскую расправу с КПП, советско-германский договор 23 августа 1939 г. и секретные приложения к нему, сложный клубок отношений с польским правительством в изгнании «и, конечно же, Катынское дело», бывший секретарь ЦК КПСС В.А. Медведев признал: «Во времена Сталина всем этим вопросам в нашей исторической литературе давалось в большинстве случаев одностороннее, тенденциозное объяснение в духе шовинизма, неприязни к Польскому государству. В дальнейшем, когда возникло новое Польское государство, руководимое коммунистами, акценты изменились – тяжелые моменты умалчивались, отодвигались на задний план, как будто их не существовало или они не играли значительной роли.
Все внимание было перенесено на те факты из истории, которые служили укреплению чувств дружбы польского и советского народов... Та же, по существу, линия продолжалась и в годы брежневского „застоя“. На исследование ряда событий нашей общей истории сохранялся строгий запрет, особенно в СССР.
Так, по сути дела искусственно, была создана проблема „белых пятен“ во взаимоотношениях наших стран»{23}.
В советском посольстве в Варшаве было принято не замечать связанные с этим проблемы, создавать видимость благополучия, изображать двусторонние отношения в идиллическом свете, как этого ожидало московское руководство. При этом каждое ведомство блюло свои интересы. Дипломаты стремились смягчать тон рапортов, поставлять такую информацию, какой ожидал центр, игнорировать усложненные ситуации и кризисные процессы, рост претензий к «старшему брату» и к фальсификации содержания прошлого и настоящего советско-польских отношений. По оценке представителя КГБ в Польше в 1973—1984 гг. генерала В. Павлова, стремившегося стимулировать более активное вмешательство в польские дела, деятельность советских послов (бывших партийных работников) разворачивалась в традиционном идеологическом, партийно-государственном духе. Это соответствовало настроениям Брежнева, его нежеланию разбираться в ситуации и «драматизировать» ее. Советско-польские отношения в то время, по мнению Павлова, в значительной степени «основывались на иллюзиях»{24}.
В то время как в советском общественном мнении проблема 1939 года и Катыни, вычеркнутая со страниц истории, не существовала, она обрастала новыми данными, публикациями, общественными инициативами полонии на Западе. В начале 70-х годов в советский МИД стала поступать информация из Англии о том, что это явление приняло существенные масштабы, и правда грозит просочиться в СССР{25}.
Ведомство А.А. Громыки попробовало пресечь развитие событий в этом направлении, заручившись поддержкой Политбюро. Аргументация утвержденного им представления в адрес МИД Великобритании от 15 апреля 1971 г. строилась на «нашей официальной версии», с приведением якобы «хорошо известных английской стороне» фальсифицированных сведений, будто бы начавшая расследование сразу после освобождения Смоленска Специальная комиссия Бурденко «неопровержимо доказала» виновность гитлеровцев в расстреле польских военнопленных в Катынском лесу, а Международный военный трибунал признал ее.