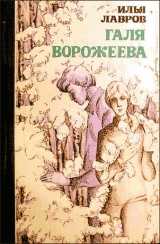
Текст книги "Галя Ворожеева"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
И такая леденящая тоска проморозила его сердце, все его тело, что он начал мелко дрожать. И из-за этого холода тоски вспыхнула жажда тепла, жажда жизни. Это обрушилось на него как тогда, в больнице. Людей захотелось ему, людей, их голосов, смеха, суеты. Напрасно он отослал Шурку. Он все бы высказал ему, прокричал бы все проклятья смерти. Да разве возможно смириться с тем, что каждый человек обязательно-обязательно! – умрет. И как это раньше он, Стебель, не задумывался над этим? И вот теперь, когда он это почувствовал и понял, – вся жизнь и вся земля – в лесах, в цветах и травах, заселенная людьми, птицами, зверьем – возникла перед ним ярким, зовущим видением. Раньше он просто жил и жил, не ценя то, что было дано ему природой, не молясь на все это, не воспринимая как бесценное сокровище каждую минуту, каждый час, каждый день пребывания на земле.
Он очнулся от шепота. Вздрогнул. Открыл глаза. Перед ним стояла Маша.
– Ты что это? – шептала она, неотрывно глядя в его лицо. – Ты что это, Валерка? Ты когда вышел из больницы?
Горло его так стиснуло, что он не смог ничего выговорить, он только осторожно похлопал по зеленому холмику могилы. Губы его шевельнулись, и Маша поняла по ним, что он беззвучно произнес: «Тетя Груша».
Маша выдернула из рукава блузки носовой платок и стала вытирать его лицо. От платочка в нос Валерки ударил аромат сирени, сиренью запах ветер, запахли кресты, земля; весь белый свет запах жизнью. Стебель поднялся с могильного холмика, отбросил палку и, ища сочувствия, как маленький, припал к груди Маши. Ее наполнили материнская нежность, желание помочь, утешить, и она прижала его к себе. Она гладила волосы Стебля и шептала:
– Ну, что же сделаешь, что же сделаешь? Тетя Груша была… Доброй, справедливой она была… Ее, конечно, нельзя забывать.
– Мне с тобой легче. Ведь я люблю тебя. Я все боялся сказать об этом. И вот я говорю, – вырвалось у Стебля.
И как-то так получилось, что они поцеловались. Стебель еще никогда не целовался. Он приникал щекой к щеке Маши, он вдыхал запах ее лица, и ему казалось, что он потеряет сознание, прижимая свои губы к ее упругим, горячим губам. Вот она – жизнь. Это – жизнь. Эта девчонка, ее лицо, губы – все это жизнь!
Обняв друг друга, прижавшись друг к другу, они замерли. Маша почувствовала, что Валерка вздрагивает. Ей показалось, что он сейчас разрыдается, она отодвинулась, чтобы взглянуть в его лицо, и в изумлении увидела, что он беззвучно смеется, смеется счастливо, ликующе. Маша смотрела на него в недоумении. Она думала, что Валерка переполнен горем, и она утешала его, а он, оказывается, смеется.
– Маша! Мы с тобой живем, – объяснил он, – и долго еще будем жить. Ты только посмотри, что нам дано, – и он показал на близкие поля и перелески.
А тем летом земля будто решила изумить людей мощью своего плодородия. Вовремя шли дожди, вовремя припекало солнце, поэтому вымахала трава, буйствовали цветы и ягоды. Семена дождиком моросили на землю, пух с одуванчиков вьюжился, как снег. С хлебных, стрекочущих полей наплывал жаркий, сухой запах цветущей пшеницы. Тяжело колыхаясь, она стояла по грудь хлеборобу. А заросли кукурузы поднялись в рост человека. Вокруг Журавки колки и боры были усыпаны волнушками, белянками, сыроежками, маслятами, но их никто не брал: женщины и ребятишки с корзинами, с коробами на спинах шли дальше, за груздями и за белым грибом. После сбора женщины ссыпали грузди в ведра и на коромыслах несли мыть к реке.
И только кладбище выглядело мертвой плешиной среди этого цветения…
– Мы же с тобой счастливые! В ноги нужно поклониться жизни.
– Ой, Валерка! Как ты говоришь, как ты хорошо говоришь. Но только… Не место этому здесь, Валера, – Маша показала на могилу тети Груши. – Мы с тобой с ума сошли! Целоваться над могилой! Как нехорошо-то.
Но Стебель был уверен, что тетя Груша порадовалась бы сейчас за него. Он даже знал, что бы она сказала. И он сейчас же услышал ее голос: «Ты вот что, ты, парень, женись-ка давай. Маша девка пригожая, хозяйка, работящая. Чего тебе одному-то болтаться на свете?»
– Ничего, – успокоил он Машу. – Тетя Груша не осудила бы нас.
– Нет-нет, все равно нехорошо. Пойдем отсюда. Я бегу на центральную усадьбу. Пойдешь со мной?
– Конечно! С тобой хоть на край света, – воскликнул Стебель…
15
Народу не хватало, и поэтому даже стариков отправили в луга. И директор клуба Вагайцев, и Тамара, и Маша Лесникова были здесь.
В кустах и перелесках брали траву косами, на чистых луговинах – тракторными косилками. Стогомет не знал отдыха. На полях стояли бурые стога, а в небе дремали стога белые. Луга дышали сенным духовитым запахом. Небо обдавало зноем, земля – душным теплом. Зрелое лето набрало полную силу. Травы разомлели, утомились от жары, лишь ночами их освежали обильные росы. Жара иногда сменялась крупным дождем, пылали грохочущие грозы. А как известно, после дождя земля именинница: густели травы, шли в рост, цветы разгорались ярче, становились крупнее, пахли что есть мочи…
С вечера у балагана разжигали костер, кипятили в ведре чай. Вот и сегодня все было так же. Уже совсем стемнело, а на западе под черной тучей все еще не меркла полоса слабого желтого света. Солнце с той стороны земного шара бросало зарево. Эта полоса навевала печаль и делала ночь тревожной.
Между костром и балаганом росла толстая береза. Еще молоденькой ее пригнули к земле – она так и росла вбок, почти ложась на землю. Потом кто-то отпилил половину «калеки». На конце длинной и толстой культяпки выросла прямая ветка. Могучие корни весь сок погнали в нее, и ветвь вымахала стройная, как пальма. Так и жила на загорбке искривленной матери сильная, молодая березка.
Сейчас шершавый, пятнистый загорбок служил для молодых косцов скамейкой. Не доставая земли ногами, они сидели, словно куры на насесте. И Галя здесь же сидела, обняв стройную дочь-березу. Она смотрела на ломоток месяца над лесом, и смутно было на ее душе и очень одиноко. Ну, кому расскажешь, как щемит сердце, когда прилетает ветер из дальней дали и опять улетает в манящую даль? А у нее все вдали. Назад оглянется: вдали остались детство, школа, подружки; вперед глянет: и здесь даль, и в ней необыкновенные встречи, институт, пути, по которым она пройдет, и, наверное, любовь… Все – вдали…
Виктор устроился внизу, на опрокинутом ведре. Баян напевал в его руках.
Пылал костер, вокруг него косцы пили чай.
– Как хлеба начнут созревать, так появляются эти самые хлебозоры, – не торопясь рассказывал дядя Троша. – Небо ясное, ночь тихая, а смотришь – там и сям взблескивают, как молоньи, хлебозоры. А когда поспеют хлеба, то там, где прошел хлебозор или кругом, или полосой, хлеба сплошь выжжены, ни одного зернышка в колосках нет. Ты объясни-ка, что это за штука – хлебозоры? Так их в деревнях раньше звали.
Шурка расстелил телогрейку, полулежал на ней; рядом сидела Тамара.
У костра лежала большая куча прохладных, душистых березовых веток. Рыжая, толстая повариха Самойлиха вязала из них веники, развешивала их по стенкам балагана.
На молодых нашло какое-то задумчивое настроение, и они запели песню из нового фильма:
Печальной будет эта песня —
О том, как птицы прилетали,
А в них охотники стреляли
И убивали птиц небесных,
А птицы падали на землю
И умирали в час печали…
Гале нравились и слова, и мелодия этой песни: были они странными и необычными.
– Ребята! Слушайте! – проговорила Маша. – Я недавно в «Комсомолке» прочитала стихотворение и выучила его наизусть! – она обращалась ко всем, а сама чувствовала только Стебля и видела только его, хоть и не смотрела в его сторону. – Вот, слушайте. Его написал человек, прикованный к постели.
Виктор перестал играть, он не шевелясь смотрел в костер, другие повернулись к Маше. Она помолчала и начала тихо и как-то хмуро:
Слепые не могут смотреть гневно.
Немые не могут кричать яростно.
Безрукие не могут держать оружия.
Безногие не могут шагать вперед.
Но – слепые могут кричать яростно,
Но – немые могут глядеть гневно,
Но – безрукие могут шагать вперед,
Но – безногие могут держать оружие.
Блики от костра плясали на ее бронзово-круглом лице, и оно то темнело, то светлело, то отдалялось от ребят, то приближалось.
– Какое-то оно не как все, – сказала Тамара. – Без рифм.
– Мощные стихи, железные, – проговорил Виктор. Галя посмотрела на него долгим, немигающим взглядом. Лицо его было серьезное, задумчивое.
Галя спрыгнула с березы, ушла в балаган. Блики от костра танцевали на его травяных, наклонных стенках. Галя легла.
За балаганом о чем-то разговаривали Шурка с Тамарой. Иногда Галя разбирала:
– Нет, нет, да нет же! Не надо, не пойду…
Костер угасал, исчезали со стенок трепетные блики, и так же постепенно затихал и баян, словно Виктор уходил все дальше и дальше, во тьму поля, к спящим стогам. И Галя, засыпая, тоже будто уходила и уходила куда-то. Вот уже все далеко-далеко от нее: и ребята, и запахи, и звуки, и ночь, и груда раскаленных углей – все вдали. У нее – все вдали.
Обмякшие руки ее раскинулись, ресницы сомкнулись. И тут явилась перед ней глухая, непроницаемо-черная ночь. В глубине ее горел костер, освещая Виктора. Он сидел на пеньке, неподвижно глядя в огонь. Из тьмы пахли донником стога. Виктор и костер были так далеко, что казались маленькими. По ссутулившимся плечам Галя видела, что ему очень невесело. И так ей стало жалко его, так захотелось броситься к нему в темное поле, крикнуть, позвать, так захотелось, что она проснулась.
Было уже светло, люди вставали, Самойлиха брякала ведрами. Волосы у Гали были влажными от росы, как трава. Ей показалось, что вся она за эти дни пропахла сеном и цветами.
Галя завтракала, потом косила, а сама все видела среди мрака пылающий костер и Виктора на пеньке. И чувства, которые пришли к ней во сне, все усиливались. И, словно из сна, все пахло донником.
Ничего подобного она еще не испытывала к Виктору. Да что же это за душа у нее, если случайный сон мог так поразить ее?..
16
Луга расстилались ровные-ровные. И безбрежные, неохватные. В далекой дали ложилось на них небо; Островками вздымались березовые колки. Тут и косили. Галин трактор тянул три косилки. На них сидели Стебель, Веников и плотник, он же столяр, Короедов – муж тети Поли, который, по ее выражению, жрал водку в три горла.
Его морщинистое, жесткое, светло-коричневое лицо казалось вырезанным из сосновой коры в глубоких трещинах.
Кругом загустела трава по пояс. Над мягким поляком и лиловой россыпью клеверной кашки качались ржавые метелки конского щавеля и вишневые шишечки черноголовника. Его тонких ножек не было видно, и поэтому казалось, что над цветами вилось множество вишнево-бархатных шмелей.
Галин трактор врезался в мягкую стену травы. Быстро сновали острые зубья, кипели и сыпались на землю срезанные травы и белые, синие, золотые звезды цветов. Среди высоких зарослей после косилок оставался гладкий, седой след: распластанная трава сразу же начинала вянуть. Ее свежий запах вкатывался в жаркую кабину. Вместе с ним иногда врывались ветви берез, пулями влетали слепни, их укусы обжигали то шею, то руку. Галя прихлопывала их, и они падали под ноги. От жары кофточка прилипла к спине, по лицу катился пот, глаза щипало. Густая трава то и дело забивала зубья, и косари сигналили остановку. Веников или Стебель выдирали из зубьев траву, а Галя, выпрыгнув из кабины, прислушивалась: за белоногой рощей рокотал трактор Виктора – там тоже косили.
А еще дальше, за несколькими березовыми островками, Шурка сгребал тракторными граблями подсохшую траву. Следом за ним высокие, большие машины-подборщики гнали ее по транспортеру в бункер, подвозили к зароду, и стогомет Кузьмы Петровича легко вздымал на него сразу целую гору пахучего, шуршащего сена.
В узких местах между колками, в кустарниках еще по старинке вжикали косы, лошади волокли сено на волокушах из жердей, парни без рубах поддевали его вилами и забрасывали на верх стога. По спинам струился пот….
Представляя все это, Галя поглядывала на рощу между нею и Виктором. Уж очень манила эта белоножка, так и чудилось, что в глубине ее спряталась земляничная поляна с ледяным, бурливым родничком. И снова вспомнился ей сон и запахло донником, хотя его на этом лугу и не было. И еще она поняла, что уже никогда ей не расстаться с этими людьми. Здесь она родилась, здесь выросла и здесь ей работать.
– Галка! Ты заснула, что ли? – крикнул Стебель. Он бросил на железное сиденье с круглыми дырочками охапку травы, уселся на него. И снова устремился трактор вперед, и снова трава ложилась плотно и гладко, будто по ней проводили утюгом…
В обеденный перерыв Галя забежала в манившую рощу и в ней, в овражке, встретилась с густым малинником. И запомнился он Гале надолго.
Вершинки кустов алели, осыпанные ягодами. Галя присела и глянула понизу, и обрадовалась: на нижних ветках висело множество ягод. Они уже осыпались и краснели на земле. Ягоды малины походили на древние шишковатые шлемы витязей. Этакие игрушечные шлемчики, которые снимались с белых стерженьков. Густо пахло малиной. Ветер иногда поворачивал листья, и они, зеленые, становились седыми: у листьев была ворсисто-белая подкладка. По кустам перепархивали серенькие сластены-малиновки. Галя тут же присоединилась к их пиршеству. Скоро пальцы ее и даже подбородок стали красными от малинового сока…
Неожиданно в кустах зашуршало и появился Виктор. И Галя совсем не удивилась этому.
Он взял ее за руки.
– Что ты? Что ты? Уходи, – прошептала она. Ее длинные серые глаза стали влажными, а губы вдруг пересохли и зашершавились. А он все сильнее сжимал ее руки, лицо его было непривычно серьезным, оно слегка подрагивало.
– Неужели ты не видишь?.. – проговорил он и потянул ее к себе.
– Не вижу! – она испуганно отпрянула.
– Ты это брось! Зачем говоришь неправду? – прошептал он, грубо прижимая ее к себе.
– Уйди! Отпусти! – рассердилась она, пытаясь вырваться. – Я не люблю, когда со мной так… – Она рванулась, ударила его в грудь.
– А я люблю! – с ожесточением выдохнул он, как будто это слово было для него неприятным.
– А мне какое дело?
– А я люблю!
– Пусти!
– А я люблю!
– Ты хочешь, чтобы я тебя возненавидела?
Виктор разжал руки. Галя резкими движениями поправляла растрепанные волосы.
– Какой ты… Что ты за человек?
– Ведь и ты же…
– Нет! – она смотрела на него непримиримо, почти яростно.
– Да!
– Нет!
Она бросилась через кусты к балагану…
И как всегда Галя передвигала рычаги, трактор таскал косилки, никла скошенная трава. А потом Галя ужинала у костра, смеялась с ребятами, пела в темноте, разговаривала, но все это проходило стороной, едва касаясь ее, она же была занята иным, она жила тем, что грянуло в малиннике, и это, грянувшее, было для нее ярким и подлинным, а окружающее, обычное проходило, едва касаясь сознания, хоть она в этом реальном мире и была лихорадочно-возбужденная, неестественно-порывистая, шумная, странно похорошевшая, какой никогда ее не видели.
Тамара даже спросила:
– Ты чего такая? Что с тобой?
Виктор перестал играть, поставил на траву баян, помедлил у костра, закурил и не спеша, небрежно-ленивой походкой пошел в поле, в темноту, и Галя по спине его видела, что он прислушивается – не шуршат ли за ним в траве ее ноги и ждет, чтобы они зашуршали.
«Терпеть не могу самоуверенных типов», – подумала она и подошла к ведру с водой, напилась, нырнула в балаган и не раздеваясь легла. Спалось ей удивительно хорошо. Подушка и матрац были набиты сеном, оно хрустело, пахло и кололось, Гале снилось, что она лежит на поляне в траве. На рассвете проснулась и увидела в зеркальце, что щеки ее в царапинках.
До завтрака она побежала в свой малинник. Тихо было так, что не шевелился ни единый лист. Все обильно смочила роса. Заросли малины были усыпаны не только ягодами, но и светлыми каплями, точно после дождя висели они на кончике каждого листка. Галя обирала холодную, мокрую ягоду и ела ее, а капли сыпались, и волосы ее, кофточка и руки стали мокрыми. И хотелось ей закричать: «Здравствуй, славное утро! Здравствуй!»
И тут, как вчера, появился Виктор. Она остановилась, не глядя на него и чего-то ожидая. Покусывая травинку, Виктор угрюмо сказал:
– Ты, Галюха, не сердись на меня. Я вчера выпил немного, вот и городил всякую чепуховину.
– А я и не сержусь… Не сержусь, – словно издали услыхала Галя свой спокойный голос, и он показался ей чужим, будто кто-то другой произнес эти слова. Но горькая обида все-таки вырвала звук, похожий на всхлипывание.
– Галя, Галя, – Виктор схватил ее за плечо. Она стремительно повернулась к нему.
В глазах ее будто затуманилось, и она поняла, что Виктор обнял ее, а может быть, это она обняла его, что он целует ее, а может быть, это она целует его. И целует, и плачет, и смеется, и смотрит в его глаза…
Новым для нее теплом и светом наполнилась жизнь. Будто вспыхнул костер и все озарил, и она жила, протянув к нему руки. В эти дни все обычное делалось для нее необычным, все пустяковое – значительным…
На рассвете около балагана осторожно зазвенел велосипедный звонок. Галя сразу же проснулась и выскочила к Виктору, только что приехавшему из села. Улыбаясь, он посмотрел вокруг – нет ли, мол, кого, – положил велосипед на мокрую, росную траву и схватил смеющуюся Галю в охапку. Он поцеловал ее в губы, в шею, в лоб, а потом молча показал на луг, и Галя всплеснула руками: над лугом кружилась белая метель. Галя не поверила своим глазам: кругом порхали бабочки. Откуда их нанесло столько? Взявшись за руки, Галя и Виктор подбежали к дороге. Здесь, вокруг большой лужи, на сыром песке копошилось множество бабочек.

– Да что это за нашествие? – поразилась Галя. И тут же поняла, что они слетелись на водопой, припали к влаге. Они обмерли от блаженства, вяло шевелили крылышками. Галя сгребла с дороги пригоршню бабочек и бросила их в Виктора. Они посыпались на него, как бумажные клочки…
И это утро запомнилось ей навсегда.
И была еще ночь у костра среди берез. Виктор наловил ведерко рыбы. Галя выпотрошила ее, нарезала в котелок картошку, бросила туда луковку, лавровый лист и повесила над костром. Все это она делала умело, быстро и с удовольствием.
Ожидая, когда сварится уха, Галя сидела, охватив руками поджатые ноги и положив голову на свои колени, а Виктор, растянувшись около нее, читал «Зверобоя». Березы, озаренные костром, клонились, простирали по ветру мягкие ветви. Шумело пламя, в котором утонул котелок. Уютно звучал голос Виктора: «Ну так вот, есть там один вождь, а у вождя – дочь, по имени Уа-та-Уа, что по-английски значит: „Тише, о Тише!“, это самая красивая девушка в стране делаваров. Все молодые воины мечтали взять ее себе в жены. Но случилось так, что Чингачгук полюбил Уа-та-Уа и Уа-та-Уа полюбила Чингачгука».
Когда в котелке заклокотало и всклубилась пена, Виктор отложил книгу, распалил трубку мира (сигарету) и спросил степенно:
– Уа-та-Уа! Когда же насытится последний из могикан? Запах ухи могут учуять презренные, трусливые гуроны.
– Тише, о тише! – откликнулась Галя.
И эта ночь была их вигвамом, а костер – семейным очагом.
И запомнилась Гале эта ночь навсегда.
А однажды они плавали на пироге. Вдали громоздились медные горы заката. Виктор тихонько пел:
Когда мне невмочь пересилить беду,
Когда подступает отчаянье,
Я в синий троллейбус сажусь на ходу —
Последний, случайный.
Последний троллейбус по улице мчит,
Вершит по бульварам круженье,
Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
Крушенье, крушенье.
И от мелодии, и от слов, и от голоса Виктора Гале хотелось плакать. Ей было жаль «потерпевших крушенье». Образ последнего ночного троллейбуса, который приходил на помощь отчаявшимся, пронзал ее сердце.
А в сумерках они подкараулили таинственный миг на реке, когда звезды кувшинок и белых лилий стали медленно угасать, закрываться и тихо уходить на ночь под воду.
Виктор опустил весла, перебрался к Гале и обнял ее. И как-то случилось так, что лодка перевернулась. Вынырнув, они схватились за борт и принялись хохотать. А потом они ныряли, надеясь увидеть, как спят в воде лилии…
И этот удивительный вечер на реке запомнился ей навсегда.
И еще раз приходили они к реке на это место. И Виктор пел уже другую песню, песню о маленьком оркестрике надежды под управлением любви. Они сидели на белом песке среди тальников. Песок был мелкий, чистейший, сыпучий. Галя набросила на голову легкий платок, закрывая от комаров шею, лоб. Над рекой висел кованый, остроконечный месяц, на белых песках чернели тальники. Виктор отгонял комаров зеленой веткой. Разговорились они тогда о жизни, о людях.
– А вообще у человека не должно быть ничего особенно заветного, – говорил Виктор. – Я вот жил в городе. Пришел однажды домой, хотел спать ложиться, а вместо этого взял чемоданчик, закурил и пошел куда глаза глядят. Шел, шел и сюда пришел. И сейчас вот могу встать, закурить и уйти куда глаза глядят. У человека не должно быть ничего дорогого, кроме свободы. Вот это по мне.
– Ну, а дело? Человек же должен что-нибудь сделать, оставить в жизни свой след, – возразила Галя.
Виктор поморщился.
– Я слышу голос десятиклассницы. Какой след? След оставляют гении. Или народ целиком, весь. Есть след Пушкина, и есть след народа. Но не может быть следа Витьки Кистенева. Да чего тут ломать голову? Мне и так хорошо. А надоест – плюну и уйду.
– Все-таки что же ты думаешь о жизни? – чуть обиженно спросила Галя.
– А я не думаю. Зачем?
Уже в полночь они распрощались, и Виктор укатил на велосипеде в село. Там у него были какие-то дела…
Так они жили, как живут, наверное, все влюбленные, превращая будни в праздники, обычное – в сказку.
17
За завтраком у костра Маша узнала, что Веников с Короедовым загуляли. Маша напустилась на Кузьму Петровича:
– Нельзя же отпускать вожжи. Вы – бригадир! Народу и так не хватает, а тут попойки.
– Приведем, приведем их в христианский вид, – степенно ответил Кузьма Петрович.
– А то я сама пойду к Копыткову, к директору, – не унималась Маша. – Веников и Короедов знают, что прошлый год скотина голодала, и все-таки бросили работу. Ну, что это за люди? Как будто на хозяина работают!
– Подожди, Маша, не горячись, – внушал ей Кузьма Петрович. – Мужики сами одумаются и нагонят свое.
Шурка засмеялся:
– Сегодня так-сяк, а завтра махнем: бери больше – бросай дальше!
– На косилки я посажу сегодня других, – сказал Кузьма Петрович. – А их стегану… рублем! Чтоб не на что было опохмелиться.
На другой день пьянчуги тоже не явились.
– Негодяи, вот негодяи! – возмущалась Маша. – Ведь и ты, Галка, из-за них горишь! Не выполнишь план.
В этот день на Галины косилки сели Маша с Тамарой. Едва начали с горем пополам косить, как из-за березняка вывернулся «газик». Когда он, подъехав ближе, остановился, из кабины вылезли по-бабьи рыхлый Копытков и громоздкий Перелетов. Увидев их, Маша засигналила остановку, спрыгнула с косилки и скомандовала:
– Галка, идем!
Еще не добежав до них, Маша закричала Копыткову:
– Павел Иванович, это что же такое делается?! Когда же это кончится?!
– Чего ты переживаешь? – с беспокойством спросил Копытков. Он очень не любил поездки с директором: неполадок хоть лопатой греби, и за все глазами хлопай, а у Перелетова на всякие изъяны прямо собачий нюх. Того и гляди шею перепилит. И хоть бы указывал на недостатки просто, по-человечески, а то ведь все норовит с подковыркой, с ехидством, не говорит, а шилом тыкает в душу. Наградил же бог человека таким зловредным языком! Теперь вот эта горластая, язвило бы ее, чего-нибудь ляпнет, расхлебывай потом.
Маша рассказывала о пьянке Веникова и Короедова, а Копытков страдальчески морщился: «Дернул ее черт за язык, не могла сказать мне одному, обязательно нужно поднимать крик на весь базар».
– Вместо этих пьяниц на косилки посадили меня да Михееву Тамару! А мы и управлять-то ими едва можем! Ковыряемся!
– Ай-яй-яй, Маша-Маша, да разве можно так?! – с укором заворчал Перелетов. – Ведь это же, наверное, кумовья твоего начальника. Небось, сколько литров горилки с ними выпито, сколько раз певалось «шумел камыш», а ты их так… Нечуткая ты, посягаешь на самое сокровенное!
Галя стояла немного в стороне, сощипывала лепестки с ромашки, точно о чем-то гадала.
– А ты чего молчишь? – возмущенно обратилась к ней Маша. – Ведь они с тобой косят, твой план заваливают!
– А чего я должна говорить? – смутилась Галя. – Ты уже все сказала.
– Я-то сказала, а вот ты…
– Не знал я об этом факте, – пробормотал Копытков. – Сейчас приеду в село и распатроню их за милую душу! Я им намылю холки как следовает быть!
– Смотри, как бы не обиделись. Чутким нужно быть, чутким. По головке нужно гладить, а ты «распатроню». Ай-яй-яй! – Перелетов сокрушенно покачал головой, горестно вздохнул.
Копытков пятерней смахнул пот со лба.
– И вообще, Павел Иванович, ведь у нас в селе есть люди, которые совсем не работают, – продолжала Маша. – У них большущие огороды, скот. Ездят на базар, а на совхоз им чихать. А убирать картошку приезжают из города. Когда это кончится?
– А кто это не работает? Кто? Назови, – взъерошился Копытков и опять поморщился: «Вот въедливая, вредная девчонка!».
– Да взять хотя бы того же Семенова! Он же браконьер и спекулянт. Да и другие есть.
– Не работают по уважительным причинам, – Копытков покосился на директора.
– Вот-вот, молодежь, учитесь стилю руководства, – серьезно воскликнул Перелетов. – Главное, входить в положение. Самому для лодырей изыскивать уважительные причины, всячески мирволить им. Великое дело иметь любвеобильную душу.
Галя вдруг нахмурилась и покраснела. Она ведь тоже не хотела раздувать этот случай с гулянкой. Не любила она обострять отношения с людьми, пусть даже эти люди были ей и неприятны. Она всегда молча отходила от всего едкого, острого. Не хотелось ей обижать людей. Уж лучше самой принять от них обиду, чем ругаться или спорить с ними.
Галя чувствовала: есть в этом что-то нехорошее, стыдное, но ничего не могла поделать с собой. И ей не нравилась эта настырность Маши. Перелетов – другое дело: он уже в годах, и потом он директор и должен крепко держать дисциплину, но Маша… Нет, все-таки неуютно рядом с ней. А ей, Гале, так хочется, чтобы… Зачем вся эта грызня? Зачем донимать друг друга?
– Я за него не боюсь, – вполне серьезно продолжал директор. – Копытков план по сену перевыполнит. У него же дисциплина – позавидовать можно. Павел Иванович! А почему бы тебе по радио не выступить, как передовику? Поделишься опытом. А мы-то с парторгом горевали – нет у нас маяка. А он, оказывается, под боком. Вовсю, чародей, светит нам.
Копытков с укоризной посмотрел на девчат.
– Вы, комсомольцы, могли бы давно прийти ко мне с этим вопросом, сигнализировать… Как тут сами-то работаете?
Но им отвечать не пришлось. Появился Кузьма Петрович и стал рассказывать о сенокосных делах…
В обед на полевой стан заявились угрюмые Веников и Короедов. Бригада, сидевшая за длинным узким столом, оживилась.
Злая Маша даже не посмотрела в сторону гуляк, продолжая хлебать щи. Не взглянул на них и Кузьма Петрович, строго помешивая в тарелке.
– Вон – активистка, – проворчал Веников, кивая на Машу. – Всюду сует свой нос.
– Будто ей за это платят, – буркнул и Короедов.
– Такой уж вредный человек, – все ворчал Веников.
Они думали, что Маша не слышит их, а она повернулась к ним:
– А я для вас таких всегда буду вредной!
Галя молчала. Нет, не смогла бы она вести себя, как Маша, хоть и считала ее правой.
– Пойдем, Галина, косить, – зло сказал Веников. – Слава богу, хоть ты не такая горластая.
– Ты девка душевная, и мы тебя не подведем. Что упустили – быстро нагоним, – заверил ее Короедов.
Галя глянула на Машу – неужели та услышала сказанное? Услышала! Конечно, услышала. И поэтому обдала ее таким неласковым взглядом. «Как нехорошо получилось», – расстроилась Галя и строго сказала:
– Ладно вам, ладно! Давайте работать.
И тут в балагане вдруг дребезжащий голос завопил:
– Полина! Жрать давай, а то морду расквашу!
И из балагана кто-то вылез на четвереньках. На вылезшем была всем известная зеленая телогрейка Короедова и его же кепка – серая, в коричневых пятнышках, похожая на гриб-поганку. Человек поднялся и тут же повалился на Веникова с криком:
– Гулям, паря! Нам море по колено. А эти коровенки не подохнут с голоду. Ужели из-за них нам не гулять?! – появившийся из балагана обхватил Веникова одной рукой за шею, а Короедова другой.
Сидящие за столом узнали дядю Трошу и грохнули. Хохот вспугнул разную птичью мелочь, которая таилась вокруг в траве и в кустах. Растерянные Веников и Короедов стояли перед сидящими за столом. Люди хохотали, глядя на старого Трошу. Но сконфуженные Веников и Короедов понимали, что люди хохочут над ними. Над ними хохочут, провалиться бы им!
– Отвяжись, шут гороховый, – огрызнулся Короедов…
В этот день хорошо поработала Галя – провинившиеся мужики старались вовсю. И Галя радовалась этому, радовалась, что все утряслось и наладилось. Но Маша омрачила эту радость.
Вечером она с Машей затеяла стирку на берегу.
– Как работали эти… пьянчуги? – спросила Маша, войдя по колена в речку и погружая в воду синее платье. Оно сначала вздулось пузырем, а потом уже, намокнув, вытянулось по течению.
– Знаешь, они хорошо работали, Маша, старались, – ответила Галя, намыливая полотенце. Пена шлепалась в воду, и река уносила ее белые хлопья.
– Старались, – недобро усмехнулась Маша. – Взгрели их как следует, вот они и завертелись. Тяжелые, мужские брови у нее насупились. – Я бы посоветовала тебе не цацкаться с такими типами. Я перед директором с Копытковым разрывалась, из себя выходила, а ты, как миленькая, отмалчивалась, в сторонке стояла. Тебе не хотелось портить отношения с этими пьянчугами.
Галя так вся и сжалась внутренне. Мыло, сделанное в виде розовой рыбки, выскользнуло у нее из руки, булькнуло и начало уходить в глубину. Галя успела схватить его.
– Понимаешь, я как-то не люблю все это, – растерянная от этого внезапного разговора, неопределенно произнесла Галя.
– Что – «все это»? – наседала Маша.
– Ну, я не умею так, как ты… не могу закричать, заругаться. Такой уж у меня характер. Ты всегда режешь правду в глаза. А я вот… не умею так…
Галя принялась полоскать полотенце, и по бегущей воде вытянулась мыльная полоса.
– Конечно, добренькой удобно быть, – Маша ожесточенно терла платье темным куском хозяйственного мыла. – Ни стычек тебе, ни прочих неприятностей. Спокойно, легко душеньке. Для всех ты хорошая-расхорошая. А на самом деле? А на самом деле ты только о себе печешься, о своем покое.
Неприятно пораженная этими словами, Галя во все глаза смотрела на Машу, забыв о скомканном полотенце в руках, из которого лилась вода.








