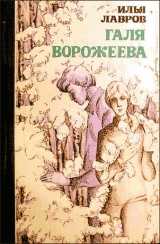
Текст книги "Галя Ворожеева"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Галя сердито скомкала ее…
Уже в ноябре заметелило, завьюжило, нанесло снегу и озера покрыло прозрачным, пока еще не толстым льдом. Хоть морозов сильных не было, все равно тянуло к печке. Даже молодых.
Галя растопила плиту.
В черных валенках, в суконных брючках, в заячьей безрукавке, она домовито устроилась за столом и налила в чашку холодного молока. Она разломила мягкую, ноздреватую булочку, испеченную тетей Настей, и опустила половину ее в чашку – булочка сразу разбухла, отяжелела, впитав в себя почти все молоко. Галя подняла булочку – из нее ударила в чашку белая струйка. Галя откусила, и рот ее переполнило молоко. Хорошо вот так просто смотреть в окно на пушистые сугробы, на занесенную сосну, на заваленные снегом огороды, на дымки, поднимающиеся изо всех труб…
На стене в окошечко всосалось озеро с черным лебедем – это пришла Тамара, открыла там, в парикмахерской, дверь. Она включила радио, забрякала стаканчиками, мыльницами и тут же крикнула:
– Галка, ты дома?
– Ага!
– Как спалось?
– Лучше некуда!
Галя отогнула черного лебедя, сунула голову в окошечко.
– Галка, Виктор приехал, – почему-то прошептала Тамара и откинула голову, прищурилась, вглядываясь в лицо подруги.
– Когда?
– Сегодня. Три дня пробудет в Журавке.
Галя почувствовала странную слабость во всем теле.
– В шесть вечера у тебя здесь будет комсомольское собрание. Клуб занят, в конторе неуютно, холодно, – вот и решили собраться у тебя. Ты не против?
– Конечно.
Дверь в парикмахерскую распахнулась, и Галя опустила черного лебедя, отошла к окну.
– Мадмуазель, наведите мне красоту! – раздался неестественно бодрый, игривый голос подвыпившего Вагайцева. – На меня когда-то заглядывались дамы. Да, шикарное было время! – заскрипело кресло, забрякали мыльница, чайник на плите. – Гастролировал я как-то с народной артисткой Екатериной Ермаковой. Блестящая исполнительница народных песен! Вроде Людмилы Зыкиной. Так эта Катюша всегда, бывало, потреплет меня по щеке и скажет: «Ты красив, как бог!» – Довольный Вагайцев расхохотался. – Выступал я с ней в Москве, в Киеве. Мы имели массу успеха.
«Хвастается. Врет», – подумала Галя, стараясь успокоиться.
Звякали ножницы, бритва скребла по щетине, стучал помазок о чашечку, зашипел пульверизатор, и сильнее запахло одеколоном.
Она увидела в окно, как Вагайцев, сбив на затылок меховую шапку, чувствуя себя красавцем, уходил танцующей походкой…
Едва он исчез, как появился Стебель.
Ох, как он некстати! Галя не могла себе простить ту минуту, когда она разрешила целовать себя. В последнее время она избегала Стебля, а при встречах была с ним холодно-суровой.
И вот, когда Виктор приехал в Журавку, Валерий опять идет к ней… Она встретила его, стоя у окна, встретила хмуро, всем своим видом как бы говоря: «Чего тебе нужно? Мне неприятно, что ты пришел». И Стебель понял это и сказал ей:
– Галя! Ты не думай, что я… Ты не сердись на меня за все. Я ведь зашел рассказать о матери.
И вот что он рассказал.
Он и Шурка эти дни работали на дальних полях и вернулись в село только через неделю. Войдя в дом, первое, что они увидели – это бутылки из-под вина. Их много валялось в кухне под столом. На плите стояла кастрюля, Стебель снял крышку и даже испугался: до краев кастрюли всклубилась какая-то, еще не виданная им, серебристо-зеленая пена. Она была и омерзительной и красивой. Стебель брезгливо разодрал эти паутинные клубки щепочкой и увидел заплесневелые, оранжевые кусочки тыквы. Должно быть, мать хотела сварить тыквенную кашу, да так и бросила – не сварила, и несколько дней не открывала кастрюлю. И вот что получилось.
– А где же мать? – встревожился Стебель.
Шурка побежал проверить, что сталось с курами и поросятами. Он просил следить за ними и кормить их бабку Анисью.
Стебель зашел в свою комнату и, оглядев ее, ссутулился и устало сел на кровать. Его нового костюма на стене не было. Торчал только один гвоздь. Этот гвоздь за много лет перенес столько побелок, что превратился в известковый корявый отросток. «Пропила», – понял Стебель. Но не костюм пожалел он, он пожалел мать.
Прибежал Шурка и сразу же завопил:
– Что?! Очистила? Ну и маманя! Так оно и должно было случиться. Черт возьми! Может, она и меня не забыла? – И он ринулся в свою комнату.
Стебель увидел на столе листы бумаги. Это было письмо от матери. «Ты уж не обижайся на меня, сынок, – читал Стебель. – Сил у меня никаких нет. Ни жить, ни умереть – сил нет. Больше я тебя не буду беспокоить. Ты здоровый, ты счастливый – я рада за тебя… А я… А меня, считай, уже нет. Совсем нет.
Запомни! Всю жизнь человек должен охранять сам себя, как сторож охраняет магазин с дорогими вещами. А я, молодая, не понимала этого. Мне и в голову не приходило, как он, человек, легко поддается всему, какой он слабак на всякие пороки и болезни. Не вымыл яблоко, съел его, а уже на другой день и болен.
Как-то я в молодости сдуру подумала: „Ну, выпью разок, ну и что из этого? Подумаешь, какая важность!“ Вот с таким присловьем и полилась стопка за стопкой. А там подумала своей пустой башкой: „Ну, повольничаю с этим парнем – не убудет же меня! А потом за ум возьмусь!“ Повольничала. После с дружком его повольничала. Вот и все! Вот и превратилось запретное в обычное, дорогое – в дешевое, и стала ты уже доступной, как ширпотреб. Коготок увяз – всей птичке пропасть.
А ты умей держать себя в узде. Сам себя сохраняй. Не иди на поводу у своих слабостей. Это я, Валерий, по себе знаю. Дорого мне обошлась эта наука. И вы, молодые, не платите за нее так дорого. Она уже оплачена множеством отдавших концы слабаков. Поверьте только в нее.
Последний раз целую тебя, сынулик мой. Прости меня за все… Прости».
Вернулся Шурка, облегченно сообщил:
– У меня все на месте. – И тут же испугался: – А может быть, она не уехала? Может, где-нибудь шатается и сейчас ввалится в дом?
– Не ввалится. – И Стебель хотел показать письмо, но подумал, что Шурка едва ли поймет его так, как нужно, и поэтому не показал. Несмотря на жалость к матери, Стебель вдруг почувствовал облегчение, и ему подумалось, что с этого дня у него начинается новая жизнь…
Рассказав обо всем, Стебель протянул Гале письмо, написанное дрожащей рукой. Прочитав его, она долго молчала. Жаль ей стало и себя, и этого Стебля, и его мать, и Виктора, и всех людей на свете, тех, которых подстерегают беды, несчастья, непоправимые ошибки; и тех, которые обижают друг друга, оскорбляют, обманывают, мучают; и тех, у которых не сбываются мечты, рушатся надежды и на место надежд приходит отчаяние. Ей хотелось всех примирить, обогреть своим сердцем, сделать счастливыми. «Но разве это возможно, если мы, люди, даже не знаем, что такое счастье? Ведь оно у всех разное. И даже у одного и того же человека каждый год разное… А что, если так оно и должно быть? Может быть, это и есть жизнь?»
Галя попросила Стебля:
– Ты иди, пожалуйста, домой. Мы еще поговорим об этом. А сейчас я и не знаю, что тебе сказать.
И Стебель покорно ушел…
29
…Ребята притащили для девчат стулья из парикмахерской, а сами устроились кто на подоконнике, кто на чемодане, а кто и на мешке с картошкой.
Маша принесла с собой двухлетнюю сестренку Катьку, такую черноглазую, румяную и щекастую, что всем хотелось потискать ее. Отец с матерью уехали в город, и ее не с кем было оставить.
Маша сунула ее Тамаре, и та устроилась на шаткой раскладушке. Галя дала девочке деревянную матрешку. Катька была такая же пестрая: голубая фуфаечка, красные шароварчики, зеленые валенки.
– Вот здесь пусть и будет наш штаб! – сказал Стебель. – Здесь можно обо всем поговорить.
– И побриться! Кто последний, я – за вами. Тамарка, бери кисточку, – балаганил Шурка.
– Я тебя обдеру тупой бритвой!
– Галина! Ты в это оконце деньги, что ли, получаешь? – спросил Шурка.
Люся Ключникова посматривала на всех чуть усмехаясь и явно скучая здесь. Она даже пальто не сняла, белую пушистую шаль не сбросила – сидела, как будто пришла сюда случайно, мимоходом. В свои двадцать один год она чувствовала себя уже старой для комсомола и тяготилась им. И потом, она не выносила все, что пахло газетой, всякими лозунгами, собраниями, трибунными шаблонами и штампованными мыслями. А именно всем этим, по ее мнению, страдал комсомол.
Маша села за Галин стол.
– Ребята, повестка такая: «Учеба молодежи» и «Чем мы можем помочь совхозу зимой». Но сначала давайте обсудим одно письмо.
За окном уже темнело, в него бил косо летящий снег. Где-то в дупле дремал дятел, на снегу валялись его шишки, в окошечко из парикмахерской негромко доносилась музыка. Она не мешала, с ней было душевнее.
– Вы знаете, что после очерка в газете к нам приходит много писем от ребят и девчат, – сказала Маша. – В некоторых письмах они просятся к нам в совхоз. А вот вчера прилетело совсем иное письмо.
Вытащив его из кармана темного шерстяного платьица, она стала громко читать: «Ребята! Наткнулась я в газете на очерк. Рожок прямо на всю Сибирь-матушку восторженно протрубил о вас. Слушайте, ведь все это притворство, поза, треп! Кого вы хотите уверить, что ишачить на тракторе – интересно, что вкалывать в совхозе – дело молодых?»
– Ух, ты! Как начинает! Сразу в драку, – одобрил Шурка.
«Самое дорогое у человека – это жизнь. Поняли? Она дается ему один раз… А вы что нам предлагаете? Выбросить свою молодость коровам да свиньям? Рыться всю жизнь в навозе? Нет уж, спасибо!»
Люся зашевелилась, усаживаясь поудобнее. Она прикрыла лицо шалью, виднелись только ее глаза.
«Есть изречение: „Человек создан для счастья, как птица для полета“. Но ваше „совхозно-колхозное“ счастье едва ли кого обрадует. У вас, ребята, все как-то вверх ногами. Я работаю для жизни, а вы живете для работы. Только нет, не верю – вы лицемерите. Неужели вы будете утверждать, что лучше все время тащить тяжесть, чем идти без нее, выкармливать поросят, чем быть инженером, ходить в кирзовых сапогах, чем в нарядных туфельках?»
– Вот балаболка – блуждает в трех соснах, – раздраженно заметила Маша. – «Вас поднимают на щит, но вы слишком пахнете газетой, а во всех этих газетных героев я не верю. О, как они надоели и какие они все одинаковые! Я весьма и весьма сомневаюсь, что вы, такие вот, существуете, что вы, такие, не газетная выдумка».
В «парикмахерской» раздался хохот. Шурка потянулся с подоконника, потрогал Машино плечо, Тамаркину спину, дернул себя за ухо:
– А может, и правда нас нет?
«Но даже если вы и существуете, именно такие, я думаю, что мне веселее жить, чем вам, фанатикам долга. В долг я, кстати, тоже не верю – газета все, братцы, газета! Я считаю, что жизнь начинается после работы. Привет! Ада».
– Ада что надо!
– Отколола номер!
– И адреса, говоришь, нет?
– Чего обсуждать эту муть!
– Как это «чего»? – возразила Галя. – А может быть, мы и правда несчастные?
– Чего это тебе в голову взбрело? – сухо спросила Маша.
– А вообще-то, черт возьми, написано занозисто, – проговорил Шурка.
Катюшка, по коленям сидящих, перебралась к Маше, повисла у нее на шее.
– Смотря что считать счастьем! Если только деньги, хорошую квартиру, кучу платьев и безделье, то мы, конечно, не очень-то счастливые, – нервно заговорил Стебель.
Катюшка схватила Машу за нос, начала теребить его.
– Да ты что? – шикнула на нее Маша и ссадила на пол. Тамара подхватила ее, взяла на колени, прошептала:
– Не озоруй, разбойница!
На Тамаре была красная кофточка в черных цветах, и Катя, подумав, что это настоящие цветы, начала их нюхать, а потом даже попыталась сорвать их.
Стебель вскочил, обвел рукой комнату:
– Живет Галя в бывшей парикмахерской…
– И это плохо, – вставил Шурка.
– Денег у нее кот наплакал.
– А это еще хуже.
Стебель взглянул на Шурку сердито.
– Платьев у Гали раз-два и обчелся.
– Значит, по-твоему, счастье в нужде?
– А по-твоему, дом, например, может сделать человека счастливым?
– При чем здесь дом? – обозлился Шурка. – Но нельзя о нужде так говорить!
– А я и не оправдываю ее. Я о другом…
Как только Стебель заговорил о Гале, Машино лицо затвердело, стало неприступно-холодным. «Зачем он обо мне, глупый? – затосковала Галя. – Маша, наверное, уже ненавидит меня. Как я ненавижу эту самую… Люську». И Галя покосилась на Люсю Ключникову.
Если бы ребята знали, если бы они знали, что это письмо написала она!
Лицо ее было спокойным и даже равнодушным, но в душе ее горело злое веселье. Наконец-то она смогла все высказать этим «энтузиастам».
– Галина рассказывала мне, как она смотрела на свое первое вспаханное поле, – продолжал Стебель. – Да разве дойдет ее радость до подобных… Адочек!
– Слушай, Валерий! – рассердилась Галя. – Чего ты меня склоняешь? Как будто я этакий… показательный экземпляр.
Маша, не глядя на нее, усмехнулась. Гале захотелось вскочить и убежать куда глаза глядят.
– Ты, конечно, правильно говоришь, – лениво подала голос Люся. – Человек должен что-то делать. Но он должен и иметь необходимое: еду, одежду, жилье.
Гале противен был ее тягучий голос, ее бледное лицо с голубыми веками, ее пухлые и, как казалось Гале, порочные губы.
– Так мы к этому и стремимся, – заметила Маша, поднимая с полу Катю. – И люди уже в селах живут не зная нужды. Если, конечно, работают. И потом – какое же это счастье? Это необходимое для жизни, как стул и стол. Счастье – совсем другое дело.
– А я вот не испытываю никакого счастья, – продолжала Люся вызывающе. – И в то же время не чувствую себя несчастной. А просто живу нормально, не играя в этакий энтузиазм. Смотрю на жизнь просто, без телячьего восторга. – Она с легким презрением, свысока взглянула на Галю.
– И я не охал и не ахал над своим полем, – вставил Шурка.
– Быть счастливым – это ведь тоже… талант, что ли, – повернулся к Люсе Стебель. – Или свойство характера, что ли.
Маша зашипела на Катю, шлепнула ее. У девчонки обиженно поползли вниз уголки губ. Тамара, смеясь, бросила Маше свою фуфайку. Маша сняла с Катьки красные шароварчики, повесила их сушиться на синюю перегородку, а девочку завернула в фуфайку.
– Это Катюха дискуссии нашей не вынесла, – серьезно сказал Шурка, и все засмеялись.
– А вот ты, – Стебель ткнул пальцем в Люсю, – и ты, – он ткнул в Шурку, – вы смотрите на все скучно и трезво и видите, например, что осенняя рябина – это рябина. А Есенин сказал: «В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть». Открыв такой рябиновый костер, можно, пожалуй, и… подпрыгнуть от счастья. Земля в таких кострах сразу интересней становится.
Шурка даже руками развел:
– Ну-у, брат, это, действительно, нужен талант, чтобы этакое высмотреть! Ну, а если этого самого таланта у меня нет? Я вот сижу за рычагами трактора, и чем занят? Я начеку, чтобы плуг за мной шел, как дрессированный. Я грязный, словно черт, устал, жрать хочу, злой от всяких неполадок. Вот и все. Что ты с меня возьмешь? Стараюсь вспахать побольше и получше. А почему? Да чтобы деньжат подзаработать, – он сложил пальцы щепоткой, поелозил ими, будто ощупывая монету, – и, чтобы, ну, похвалили, что ли, вот, дескать, дает мужик. И все. А счастливый там я или нет, аллах один разберет. Ничего я такого-этакого не чувствую.
– Правильно и честно ты сказал, – поддержала его Люся.
Галя взглянула на малышку, что пригрелась у Маши на руках и уснула, и тихонько сказала:
– Фразочка у этой Ады хитрая. Ее нужно понимать так: я работаю для жизни, то есть для себя, а вы живете для работы, то есть для других. Вот это ее и не устраивает.
– Она просто не верит в это, – зло бросила Люся.
– А для нас работа и жизнь, по-моему, одно и то же, – продолжала Галя, сделав вид, что никто и ничего не сказал. – Ну, как их разорвешь? А насчет счастья… Я, например, не умею несколькими словами сказать, что это такое. У каждого свое счастье. А кому что нужно для счастья – откуда я знаю.
– А тебе что нужно для счастья? – с непримиримой язвительностью спросила Маша.
– Мне только нужны такие глаза, чтобы я, глядя в лужу, видела в ней звезды, а не плавающий окурок, – пошутила Галя. – Это не мое, это я где-то вычитала.
Люся Ключникова засмеялась непонятно, загадочно. А Маша сказала сердито:
– Ага! Это, значит, видеть не рябину, а пылающий костер! – И она обратилась ко всем: – Какое трогательное родство душ у Стебля с Галиной Ворожеевой! Вы это заметили, ребята?
Лицо у Гали стало бледным, и губы ее задрожали.
– Ты, Марья, мотай себе на ус, – опять с наигранной серьезностью предупредил Шурка, – а то от такого родства появляются такие вот Катьки.
Между бровей Маши мгновенно прочертилась морщина, а глаза ее стали яростными. На миг в комнате повисло тяжелое молчание – все почувствовали, что происходит что-то неладное. Люся насторожилась, стараясь понять, в чем дело.
– Ну, хватит базарить. Давайте делом займемся, – оборвала это молчание Маша и заговорила об учебе. Ребята решили ходить на занятия, которые проводил агроном, а также договорились устраивать зимой воскресники: заготавливать для молочной фермы лед на реке, подвозить силос, снегопахами задерживать снег на полях…
Галя набросила на плечи пальто, провожая ребят, вышла на крыльцо. Снег уже перестал сыпаться, резко похолодало, вызвездило. Земля была белой, а небо – черным. Издали еще долго доносились голоса, хохот, песни. Прислушиваясь к ним, Галя подумала: «А Виктор не пришел. Но он здесь, здесь, рядом, близко. Он – здесь».
30
Весь день Виктор просидел дома. Днем Галя работала, а вечером у нее собрались комсомольцы, среди них и Люська была, и Виктор не смог встретиться с Галей. Он только ночью побродил около ее парикмахерской, но Галя уже спала, и он не решился постучаться к ней. На другой день утром он написал письмо и, опустив его в ящичек на Галиной двери, пошел на лыжах в лес, с которым у него было связано так много хорошего.
Заснеженное поле между Журавкой и лесом казалось мертвым. Но это лишь так казалось. Обитатели поля – мыши, полевки, землеройки – вели зимой «подснежный» образ жизни. Это Виктор понял по их следам – ночами они выбирались на снег. Строчки их следов, лисий нарыск, похожий на собачий след, ямки от заячьих лапок трогали Виктора чуть не до слез.
Он взмахнул палками и покатился к лесу. Глубокий лыжный след перечеркнул весь луг. Радовал этот первый белый месяц, это первозимье, его свежесть и чистота.
На опушке Виктор наткнулся на следы птиц. Дядя Миша научил его читать их. Вот петушиные крестики: это расхаживали глухари, а вот тетерева оставили куриные наброды. На лесной полянке, будто цыплята бегали, – рябчики наследили. Глянув на эти следки, Виктор вспомнил своего первого подстреленного рябчика и радостно вздохнул.
На ветвях и на хвойных лапах цвел иней. Эге, через лесную дорогу будто корова прошла – могучий сохатый отпечатал свои раздвоенные копыта. А здесь он с поваленной осинки лентами сдирал молодую зеленую кору…
В этих местах тетя Надя учила его собирать грибы. И он вспомнил один разговор с теткой. Однажды они бродили в сосняке. Вот в этом сосняке, через который сейчас шел Виктор. Кажется, это в мае было. Да, в мае. Молоденькие сосенки, как в старину новогодние елки в домах, были облеплены светлыми ершистыми свечками. Вся темная рощица теплилась золотистыми, липкими свечами. Они всегда такие мягкие и приятно-кисловатые, что мальчишки любят их есть. Ел их и он, Виктор.
Под сосенками не было кустов и травы, лишь чистым рыжим ковром лежала старая хвоя.
Тетя Надя – ласковая, большая, пестрая от платья – вдруг сладко потянулась, разведя полные руки и подставив солнцу лицо с зажмуренными глазами, а потом прижала Витьку к себе и сказала:
– Смотри, малыш! До чего же славно на земле. Иногда, сравнивая каких-нибудь людей, говорят: «Они отличаются друг от друга, как небо от земли». Говорящие имеют в виду, что небо – это хорошо, а земля – плохо. Неверно это. Слышишь, малыш! Неверно это. – И дальше она будто прочитала из какой-то книжки: – Да я нашу землю – обиталище благородных оленей, мыслящих людей, верных собак, царственных орлов, ловких рыб – никогда не сменяю на гигантские катастрофы и атомные ураганы вселенной, ибо – у нас жизнь, а там – смерть.
Правильно сказала тетя Надя. Она любила иногда говорить как-то особенно, по-книжному. И спасибо ей и дяде Мише за то, что открыли ему, Витьке, землю, заселенную благородными оленями, мыслящими людьми, царственными орлами и верными собаками.
Об этом, хорошем, думал Виктор, бродя по лесу, а на душе было тревожно и смутно, словно от предчувствия беды. А может быть, страшила встреча с Галей? Кто знает, чем она кончится. Лес усиливал эту тоскливую тревогу. Было хмуро и неуютно, как перед бураном. В чаще, чем-то обеспокоенная, стрекотала и стрекотала сорока. Сердито закаркала ворона, сидевшая на самой вершине елки. Клюв у нее походил на согнутый палец. Виктор вспомнил поучения дяди Миши:
– Ворона всегда садится носом к ветру. Облака идут против ветра – к снегу. Солнце с ушами – к морозу.
Все это было сегодня: и облака шли против ветра, и у солнца были уши.
Со стороны Черного озера донесся гулкий, раскатистый выстрел. Виктор насторожился, а потом понял, в чем дело. Воздух и газ, выделяясь из ила на дне озера, пузырем поднимали молоденький лед, и он, в морозной тишине, громко лопался, и трещины со свистом рассекали его.
Беспокойно оглядываясь, Виктор подъехал к озеру с курящейся полыньей…
Что-то невеселое происходило с ним, с Виктором, что-то изменилось в его жизни. Должно быть, он просто был дурацки влюблен. Втрескался по уши, осел! Но тут же он поморщился от этих бездарных слов. Не помогают теперь ни ирония, ни насмешки над собой. Ничем этим уже не прикроешься. Глупый щит! Сквозь него без всякого труда проникал милый образ странной девчонки. И самая теплая, самая чистая нежность охватывала Виктора при одном звуке ее имени. Невыносимо, даже страшновато становилось при мысли о предстоящей разлуке, без всякой надежды на встречу в будущем. Неужели эта любовь превратится только в воспоминание?
Но еще и другое мучало Виктора. Недавно он прочитал статью какого-то профессора. И то, что он узнал из нее, – поразило его. Речь шла о простых листьях. Скромный, зеленый листок оказался единственным посредником между солнцем и всем живым на земле. Единственным! Только он один умеет усваивать энергию светила; вот ею и живут растения. А через них получают эту солнечную энергию все животные, звери, птицы и сам человек. И он же, зеленый лист, единственная – единственная! – фабрика, которая вот уже миллионы лет овевает землю чистейшим, животворным кислородом.
Это, конечно, все проходили в школе, но Виктор как-то пропустил мимо ушей, не осознал этого – дуралеем был. А сейчас он все думал и думал об этом. И ему уже представлялся величественный подвиг этого зеленого малыша, без которого невозможна жизнь. Подумать только – простой листок держит на себе всю жизнь. И с этого листка Виктор перебрасывал мысль на себя, на собственную жизнь. Вот он – сильный, большой, мыслящий – что он представляет из себя рядом с этими листиками, которые он часто обдирает с ветвей? Разве он дал кому-то и чему-то жизнь? Зеленый малыш солнечной силой наливает фрукты, овощи, ягоды, а он, Виктор, поглощает эту силу и поэтому живет. Зеленый малыш трудится вовсю, заливая землю океаном кислорода, а он, Виктор, с наслаждением дышит им и поэтому живет. И хоть затрепана мысль, что нужно не только брать, но и давать, она вечно не гаснет и всегда бывает жгучей, если человек откликнется на нее всем сердцем.
Много Виктор уже взял, но мало еще дал. И только одно утешает, что он молод, что он только готовится что-то сделать. Впереди у него морская служба, впереди работа. Он все еще может успеть, если будет помнить о величии зеленого малыша…
Склон, сбегавший к озеру, был в прозрачных натеках льда. Виктор знал, что здесь пробивался ключ. Вода растекалась, застывала и снова растекалась по льду. Над ним торчала бурая трава.
На калине и рябинках искрился иней. Красные кисти остекленевших ягод ощетинились голубыми волосками. На рябину опустилась стайка хохлатых свиристелей, и Виктор обрадовался, заулыбался им: уж очень они были красивые, с желтыми и красными пятнами и полосками на крыльях и хвостах. Свиристели принялись склевывать горькие ледышки ягод. Вслед за свиристелями посыпались на ягоду красногрудые снегири, засвистели нежными флейточками. То там, то здесь птичьи крылья сбивали иней, и над ветками возникали серебристые, с золотыми искрами, дымки, а в них языками огня прыгали снегири. Свиристели склевывали ягоды целиком, а снегири выбирали только косточки, мякоть же и кожицу отшвыривали. Из-за этого прозрачная наледь казалась забрызганной кровью.
Мысли Виктора прервал новый выстрел, он хлестнул где-то совсем близко. Виктор вздрогнул, насторожился – нет, это не лед лопнул. Кто же может здесь охотиться? И на кого? Как бы отвечая ему, звучно затрещали, защелкали ломаемые обледенелые осинки: из их зарослей вихрем вырвался огромный бурый зверь, с вытянутой бородатой мордой, с великолепными раскидистыми рогами, с ушами в виде лодочек. Он могуче прянул через кусты и грохнулся на пушистый снег.
«Сохатый! – поразился Виктор. Он снял лыжи и спрятался за толстую, обросшую инеем березу. – Видать, матерый браконьер. Такого великана завалил, подлец!» У Виктора сжались кулаки. Он ненавидел этих спекулянтов-браконьеров, этих хапуг, способных разорить всю землю. Эти двуногие скоты бьют лебедей, взрывами глушат рыбу, валят столетние кедры из-за шишек.
«Если наш, то это Семенов. Больше некому», – решил Виктор и услыхал хруст снега: из мелкого осинника, озираясь, действительно вышел Семенов. Его багровое лицо и багровая толстая шея дымились, изо рта валил пар, золотые усы густо заросли инеем.
«Здоровый бугай, но все равно его нужно взять», – подумал Виктор и вышел из-за берез.
– С полем тебя, Семенов, – громко сказал он. Семенов так резко повернулся, что чуть не упал на скользком насте. Он ошалело смотрел на Виктора. Его мясистое лицо стало еще багровей и еще сильнее задымилось от испарины, словно он только что сполз с банного полка, иней на усах начал таять, превращаясь в росу.
– Теперь ты, гадюка, от меня не уползешь, – говорил Виктор, подходя к нему.
– Не подходи. Ради бога, не подходи, – тихо умолял Семенов, медленно пятясь и держа перед собой двустволку. – Не наводи на грех. Слышишь? Я за себя не ручаюсь. Не подходи! – Лицо его побелело, затвердевшие ноздри дрожали, усы мгновенно зазолотели: иней так и потек на губы каплями. Он, казалось, уже плохо видел, плохо сознавал, что делает.
– Ах ты, падаль! – Виктор шумно дышал. – Я вас, таких, всю жизнь буду давить. Брось ружье! – крикнул Виктор и схватился за дуло. В безмолвии грянуло, точно во всю длину озера треснул лед…
31
Как раз в эту минуту Галя распечатала конверт и почему-то испугалась: письмо было от Виктора.
«Галя! – писал он. – Завтра я уезжаю в мореходку, и между нами встанет стена дьявольской толщины. Моя прошлая легкомысленная дурость, наш разрыв, тысячи километров и годы, годы моей службы на океане – вот что ляжет между нами. И пока еще не поздно, слышишь, Галя, пока еще не поздно, пока еще можно что-то сказать, исправить – давай скажем, исправим. Это еще возможно. А завтра уже будет навсегда непоправимым. Я приду к тебе сегодня в семь вечера. Сделай так, чтобы никого не было. Я приду к тебе. Галя, слышишь? Приду. Ты понимаешь меня? Жди. И еще раз жди, моя Тише, о Тише!»
…Галя истопила печку, вымыла комнатку, все прибрала в ней. Принарядилась и сама: надела белый пушистый свитер, как можно красивее уложила свои русые волосы и даже слегка припудрилась и похлопала по свитерку ладошкой, смоченной духами.
В семь вечера Виктор не пришел. Должно быть, что-то его задержало. Она взяла книжку – «Белый клык» Джека Лондона, села за стол, смотрела на страницу, но не понимала, что там напечатано: она все прислушивалась к слабо доносившимся звукам с улицы.
Вот уже миновало восемь часов, а Виктора все не было. «Что же это он? – удивилась Галя. – А вдруг он решил, что встречаться не нужно? Быть может, он сейчас у Ключниковой? – Галя почувствовала себя обманутой, оскорбленной. Она устала от волнения, ожидания. – Что это? Насмешка? Тогда зачем нужно было такое письмо писать?»
Часы показали девять. Галя надела пальто, накинула на голову шаль и, не думая, унижается она или нет, быстро пошла к Виктору домой. Ведь нужно же было, в конце концов, все выяснить!
Небо заросло инеем звезд, и Гале показалось, что это от небесного инея так морозно. Ни единый человек не встретился на мертвой улице. Переулки были забиты мраком. Какая каменная глушь!
– Добрый вечер! – сказала Галя, войдя в теплую и ярко освещенную кухню.
– А, редкая гостья! – воскликнула Надежда Ивановна. – Раздевайся, раздевайся, будем чай пить.
Галя всегда считала Надежду Ивановну красавицей. Особенно ей нравились губы учительницы. Алые, свежие, они сейчас напомнили Гале влажную от росы малину на сенокосе.
Галя разделась, все не решаясь спросить о Викторе.
Надежда Ивановна провела ее в комнату. За столом, с газетой в руках, сидел дядя Миша, а больше никого не было. На желтом диване лежала раскрытая книга, на книге разлегся пушистый рыжий котенок, и все – Виктора не было.
Лицо Сараева, как всегда, было таким, словно ой что-то вспоминал и никак не мог вспомнить. Он пожал Гале руку и показал на диван:
– Садись.
Галя села, и котенок тут же перебрался к ней на колени. Она стала гладить уютную зверушку, и котенок замурлыкал.
Сараев включил телевизор, зазвучала музыка, возникло ледяное поле, а по нему мчалась, кружилась пара конькобежцев – показывали фигурное катание.
Зайцев на бегу легко поднял над собой Роднину и продолжал катиться, а она, разбросив крыльями руки, лежала на его ладони, и вся ее точеная фигурка в развевающейся юбочке как будто летела над ним прекрасной, сказочной птицей.
– Это же надо добиться такой красоты, – восхитился Сараев. – Для этого нужен особый талант. И, конечно, работа до пота.
Надежда Ивановна принесла на стол чашки, вазу с прозрачным, тяжелым медом. Сверху он был как золотистое стекло, а в глубине его серебрились пузырьки. Ваза благоухала на всю комнату. И скатерть, и чашки тоже были медово-золотистые, – жить бы здесь пасечнику.
«Наверное, Виктор вышел. Сейчас он придет», – подумала Галя и села за стол.
Из большой чашки валил пар. Чай был таким горячим, что опущенная в него ложка обжигала пальцы.
– А где Виктор? – спросила Галя.
– Да я уж начинаю беспокоиться. С утра ушел. Поброжу, говорит, в лесу. Завтра он уезжает. И вот до сих пор нет, – объяснила Надежда Ивановна.
– Загулял где-нибудь новобранец, – вставил Сараев.








