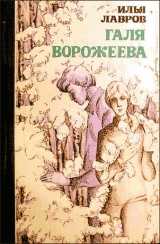
Текст книги "Галя Ворожеева"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
– Неужели ты так думаешь обо мне? – испуганно спросила она.
– А что – разве это не так?
– Да ведь я стараюсь получше сделать людям!
И она принялась высказывать свои мысли о доброте, о душевности, о мягкости в отношениях между людьми, о жалости, о понимании друг друга и даже вспомнила слова «терпимость, сострадание», о которых говорил герой какого-то фильма.
– Черт знает, какая у тебя путаница в голове, – проворчала Маша, полоща платье. – Слишком уж ты покладистая, как я посмотрю. Вспомни, как Перелетов высмеивал Копыткова, который «входил в положение» пьяниц. Их, что ли, ты призываешь прощать?
– Да нет, я не о них, я вообще… А с ними ты, конечно, права. – Галя чувствовала себя совсем запутавшейся и бессильной перед доводами Маши.
– Доброта бывает и смешной. Как у этой мямли, у Тамарки. Она ведь обо всех, буквально обо всех, отзывается восторженно, как о пирожных. Вот вы с ней и нравитесь всем. А Машка Лесникова – изверг. Она «горластая, настырная», злая. У нее отвратительный характер.
– Ну, кто-то, а я так не думаю о тебе!
– Вот у человека болит зуб. Можно в дупле, жалеючи, легонько поковыряться, засунуть в него ватку с лекарством. Ну и что же получится? Успокоится зуб на один день, а потом снова начнет терзать человека. А настоящий доктор включит свою адскую бормашину, да как запустит сверло в зуб – в глазах у тебя потемнеет, заорешь благим матом, но зато уже потом спасибо скажешь врачу. Я вот за такое добро – со сверлом. Ты уж не сердись на меня за этот разговор, – Маша сильными, шершавыми руками выкручивала платье.
– Да нет… я – ничего… Я не сержусь, – пробормотала вконец расстроенная Галя. – Только все это для меня так неожиданно… Мне и в голову не приходило, что я… такая… что обо мне так думают.
18
Похоронили Аграфену Сидоровну, и стал Шурка хозяином. В сельсовете оформили дом на него. Получая документы, он ничего особенного не испытывал. Вернувшись из сельсовета, он остановился перед домом и принялся с любопытством разглядывать его, словно увидел дом впервые. «Хорошо бы покрасить крышу зеленой краской, а трубу побелить», – подумалось ему, и он вспомнил, как у Тамары осенью зеленую крышу засыпала желтая листва, а среди листвы сидели белые и черные голуби. Красота!
Дверка на чердаке была раскрыта, ветер шевелил ее. Это Шурке не понравилось. Он залез на крышу, исправил деревянную задвижку, побродил по пыльному чердаку, посидел на стропилах, покуривая и глядя на боров печи. Железо крыши, нагретое солнцем, обдавало жаром.
Спустившись во двор, Шурка увидел то, что прежде и не замечал. Вон у сарая дверь болталась на одной петле. Шурка отыскал вторую, прибил ее, заменил в двери ветхую доску. Хотел изрубить ее на дрова, но тут же подумал, что в хозяйстве все пригодится.
И стал ему этот сарай будто ближе и роднее.
Он укрепил в плетне два расшатавшихся столбика. После этого и плетень сделался вроде бы дороже.
Огород, засаженный картошкой, морковью, луком, огурцами, обрадовал его. Это была память о матери, ее труд. Она и после смерти как бы заботилась о нем, о Шурке.
Высунув язык, плелся в тень под березой кудлатый Полкашка, хрюкали два крупных поросенка, переворачивали носами пустое корыто. «К зиме раздобреют, подлецы, завалю их, буду с мясом. Одного можно в город шарахнуть, там свининка в цене».
Шурка взял метлу, начал подметать захламленный двор, поднимая клубы пыли. Он сгребал мусор в старую корзину, уносил его в проулок и высыпал в большую лужу. Окончив работать, он в огороде, у колодца с журавлем, умылся, с удовольствием попил студеной воды. «Вот и колодец мой, еще отцом вырытый. Ишь какую хорошую память оставил батя о себе. Без воды и ни туды, и ни сюды».
По двору властным, суровым хозяином ходил темно-красный Ирод. Повернув голову набок, он посмотрел в небо и тревожно закричал, предупреждая кур о появлении коршуна. Сейчас и петух нравился Шурке.
Совершалось удивительное: на что бы теперь ни бросил Шурка свой взгляд, все начинало видеться по-другому, все вещи представали в ином, значительном виде, они радовали, трогали душу. И еще ему было приятно оттого, что он так тепло и благодарно вспомнил родителей.
Шурка по-хозяйски сидел на крыльце, широко расставив ноги, курил и с гордостью осматривал двор, прибранный собственными руками. Чисто, уютно. У сарая ровненькая поленница березовых дров, в суковатое полено воткнут топор, в уголке метла, деревянная лопата.
Приятен был и ослепительный зной, и звенящая в ушах тишина. В селе пахло скошенным сеном, луга со всех сторон овеивали своим дыханием пустынную Журавку.
Под развесистыми березами в пыли и песке купались куры, выбивая лапами и крыльями ямки. «Надо под деревьями скамейку поставить и столик. Хорошо в жару посидеть в тени. Еще мать просила это сделать, а я лодырничал».
И Шурка немедленно принялся рыть ямки для скамеечных столбиков. «Жаль, что Стебель в поле, а то бы помог».
Скамейка и столик так украсили двор, что Шуркой овладело горячее желание исправить все неполадки, на которые указывала еще мать. Он пошел в магазин и купил пробой для дверного замка, всякие крючки, шпингалеты на окна, гвозди.
И как-то вдруг жизнь для него стала интереснее. И даже будто она в чем-то изменилась. И себя он почувствовал увереннее. И на работу взглянул уже по-иному. Он заторопился на сенокос – для хозяйства теперь нужны деньги.
«Надо жениться, – решил он. – Одному с хозяйством не управиться. Только какая из Тамарки хозяйка? Да ничего, привыкнет. Велика ли хитрость, в доме прибрать, обед сготовить, постирать, чушек покормить, с огородом управиться. Работа в совхозе да плюс свое хозяйство – жить можно. И неплохо жить. А чего еще надо?» Он все сильней и сильней увлекался этой мыслью – и даже будто расцвел, воспрянул, янтарные глаза его стали еще нахальнее…
Приехав на сенокос, он увел Тамару на берег реки. Они не заметили, что сели под «плюющейся» ивой. Эту иву знали; на каждом листке ее лежал комочек пены. Старики называли эту пену кукушкиными слезами. Дескать, растеряла кукушка своих кукушат по чужим гнездам, да и затосковала, заплакала. Эти комочки пены и есть, мол, ее, птичьи, слезы. А на самом деле в этих комочках прятались личинки маленькой цикадки-слюнявицы. Личинки продырявливают стебель, выпуская ивовый сок, и, как только он появляется, слюнявица начинает всасывать воздух и выдувать его, и так она это делает ловко, что сок взбивает пеной, а в ней слюнявица прячется от птиц и всяких насекомых.
Но Шурка и Тамара ничего этого не знали, они просто устроились под такой ивой. Шурка обнял Тамару:
– Давай, Тамарка, поженимся? – и тут ветерок подул, и ива плюхнула ему на лоб комочек пены.
Тамара так и вспыхнула:
– Ты это серьезно?
– Такими вещами не шутят, – успокоил ее Шурка и принялся рисовать картину их будущей жизни в собственном доме.
– Я вот, понимаешь, одно время на стройку хотел мотнуться. А теперь вижу, что все это ерунда. Зачем, спрашивается, болтаться туда-сюда? Места у нас хорошие, здесь я родился, вырос, здесь меня каждая собака знает. Люди все свои. Работа мне по душе. Теперь у меня дом свой, хозяйство. Поженимся с тобой, ребятишки пойдут. Работа у тебя золотая – ты в селе нарасхват. Так чего же нам нужно-то, черт побери? Мы ведь сельские, хлеб народу даем. Такой работой можно гордиться! Не-ет, никаких мне городов не надо. Ты согласна?
Тамара, завороженно слушавшая его, вдруг вместо слов согласия шепнула:
– Только корову не надо. Ладно?
– А зачем ее? В совхозе есть молоко. Хорошо бы сколотить деньжат на телевизор, – продолжал он, растягиваясь в зарослях ярко-золотой сурепки. С ивы шлепались на него комочки пены. – С телевизором благодать! Сиди себе, покуривай, да посматривай на экран, да обнимай тебя, рыжую!
Шурка поцеловал Тамару и сильно притиснул ее к траве. Она испуганно вскрикнула, но он уже не слушал ее…
С каждым днем Шурка все крепче привязывался к дому, а через него к селу, к работе. Он даже ходить стал увереннее, степеннее, и все чаще раздражало его пустое зубоскальство молодежи. Ему было гораздо приятнее неторопливо беседовать с пожилыми о разных хозяйственных делах.
Тут нахлынули новые тревоги. Как единственного кормильца матери, Шурку в армию не взяли, но теперь-то уж обязательно забреют. Эта мысль поразила его. А как же дом? На кого оставить? На Тамарку? А ее на кого оставить? Но все же, кто будет охранять дом? Не бросить же на чужих людей? А родственничков пусти – потом и не выкуришь… Ворочался Шурка ночами, не знал, что делать.
Однажды он лежал со Стеблем у стожка, который сметали вокруг ствола березы. Она ласково положила на стожок свои ветви. В сене попадалось немало скошенной, подсохшей клубники. По белым зонтикам пряно пахнувшего цветка проворно бегал бархатный, золотисто-черный шмель. Стебель то следил за ним, то рылся в сене, выбирая ягоду, а Шурка рассказывал о своих тревогах. Стебель посмотрел на него пристально и сердито предупредил:
– Ты, брат, гляди… Что-то в тебе того… вроде как собственник завозился.
– Не трепись!
Но слова Стебля врезались в память, беспокоили, словно комары. Ночью, лежа в балагане, Шурка никак не мог уснуть, чувствовал, что действительно становится этаким хозяйчиком.
«А, да этот звонарь вечно что-нибудь сочинит! Разве можно его слушать? – успокаивал себя Шурка. – Положим, имеет человек собственный мотоцикл, или аккордеон, или квартиру в городе, ведь он же радуется, что имеет их. Так почему же я не могу иметь дом? Он мне в наследство достался. Я его не хапнул. Надо же мне где-то приткнуться. А Стебель и Витька – они временные в селе. Это уж точно. Им, конечно, хозяйство ни к чему. И меня им не понять».
Эта мысль успокоила Шурку, и он задремал.
19
Перед обедом Галя и Маша прибежали на речку искупаться. От зноя разопрела трава на берегу, загустел над ней аромат синих колокольчиков, огненного горицвета, иван-чая. Среди них валялись брюки и курточка Гали и пестрое платье Маши.
Девчата плескались в воде, брызгали друг в друга. Чтобы спастись от комаров, зашли в реку по шею.
– Слушай, Галка, я должна кое-что сказать тебе, – заговорила Маша. – Но только ты не расстраивайся. Даешь слово?
– А что такое? – Галя почувствовала, как в душе похолодело. Галя была уверена, что сейчас случится что-то очень нехорошее.
– Нет, ты даешь слово?
– Ну, даю, даю! – воскликнула Галя, гребя руками, чтобы удержаться против течения.
– Понимаешь, я случайно узнала, – проговорила Маша, тоже гребя руками.
– Что узнала?
Комары вились вокруг мокрого лица, сильное течение пыталось утащить Галю. Оно вымывало из-под ее ступней сыпучий песок. Галя боролась с рекой, клонясь вперед, грудью разбивая несущуюся воду.
– Ты думаешь, почему Витька зачастил в село? К Люське он ездит, к библиотекарше. Поняла? Вечером на велосипед – и к ней, а утром – обратно. И все шито-крыто.
Галя перестала грести, река сразу же повалила ее, понесла. Маша ринулась за ней и, догнав ее, поплыла рядом.
– Я его, дуролома, разделала на все корки, – громко продолжала Маша. – Прямо так и влепила ему: «Бессовестные твои шары!» А он этак нахально: «Я – не запряженная кляча. Куда хочу – туда скачу!» А я ему: «Так что же, по-твоему, хочу – унижу человека, хочу – совру, хочу – украду? Долой совесть! Долой честность! Они ведь руки связывают, ноги спутывают. Не воля это, а распущенность». В общем, я ему, Галка, дала жизни. И ты его отшей! Не будь мямлей. Такое прощать нельзя. Вообще-то он просил меня молчать. Но разве я могу допустить, чтобы тебя водили за нос?
Галя поплыла к берегу, сильно ударяя по воде ладонями и выбивая ногами фонтаны брызг. Наконец она вырвалась из реки на берег; с нее сбегала вода, губы на бледном ее лице посинели, и вся она дрожала.
– Гони его от себя, – решительно сказала Маша, выбираясь следом за ней. – Гони! Он же подлец!
Комары облепили, жалили, а Галя, не замечая их, отжимала на себе трусики. Выше колен розовели два шрама, – в этих местах взяли кожу для Стебля.
Галя оделась.
– Ты иди обедай, я сейчас, – и скрылась среди кустов, за которыми слышались голоса парней.
Виктор несся по пояс в траве, на бегу снимая рубаху. Галя появилась из-за кустов боярки, и он обрадовался, бросился было к ней, но тут же остановился, увидев ее испуганное лицо.
– Как же это, Виктор, получилось? – прошептала она, только сейчас до конца поняв всю непоправимость беды и ужаснувшись этому. – Как же это?.. Что же теперь?..
Виктор понял, что Маша все рассказала. Он растерялся. Не зная, что сказать, он хлопал рубахой по голой спине, отгоняя комаров.
Галя резко повернулась и побежала к трактору. Виктор тоже сорвался с места, волоча по траве рубаху, догнал ее и, забегая то с одной стороны, то с другой, невнятно бормотал:
– Я же не хотел так, Галя! Клянусь! Все это как-то, черт ее знает… Все по-дурацки вышло… А ты для меня… – он пытался заглянуть ей в глаза. Она уже не бежала, а молча шла, глядя вперед, будто никто и не метался вокруг нее. Виктор отстал, смотрел ей вслед.
– Черт меня дернул, – пробормотал он, вспоминая о своих недавних поездках к Люсе…
Отчаявшись получить то, о чем тоскует каждая женщина, – любовь, Люся решила просто зазвать к себе Виктора. Однажды, приехав с сенокоса, он зашел к ней. Когда они выпили по стакану портвейна, Люся вдруг обняла его за шею и, смеясь, будто дурачась, заблажила:
– Ах ты, мой золотой да серебряный! Женился бы ты на мне. Я бы так тебя любила! Я бы на тебя молилась.
– Не дури, – засмеялся Виктор.
А уж так ли она дурила? Слишком истерическим был ее смех, слишком несчастны были ее глаза. Случившееся представлялось Виктору простым дорожным приключением.
Когда же он подумал о Гале, он беспечно отмахнулся: «А! Не узнает. Да меня, в конце концов, не убыло. И потом – я же не собирался жениться на Галке. Ничего я ей не обещал, ни в чем не клялся. Значит, и обмана никакого нет. Ну, нырнул разок-другой к Люське – подумаешь! Никаких чувств у меня к ней нет. Человек я вольный. А Галя… Галя для души».
Галя забралась в кабину трактора, захлопнула дверцу и скорчилась на сиденье. Ей не хотелось жить, ей казалось, что все отвратительное – непобедимо…
Где этот венок из бабочек вокруг лужи? А гаснущие лилии в сумерках, а костер Уа-та-Уа и черные тальники на белых песках? Да было ли все это? А если было, то как же он решился предать все это?
Столкнувшись впервые с таким, Галя растерялась и не знала, что ей теперь делать, как жить? Она сжала виски ладонями – так разболелась голова. Ее пересохшие, колючие губы пылали.
Галя тоскливо смотрела на березняк, в котором таился ее малинник. Теперь он, связанный с Виктором, был ей страшен, она уже никогда не придет к его ягодам, к его летучим малиновкам…
20
Еще на сенокосе Стебля вдруг сразила страсть к пению, и он принялся петь романсы, вернее, один романс: «Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные». А еще вернее, он пел половину этого романса, потому что больше ничего не знал. Если он оказывался в поле один, то с упоением, зажмуриваясь, вопил: «Поцелуй меня, потом я тебя, потом вместе мы расцелуемся», если же рядом находились ребята, он бубнил себе под нос, немилосердно перевирая мотив: «И обнимемся, и забудемся».
С тех пор, как Стебель встретился с Машей на кладбище, он понял, что гнусные вихры его могут испортить ему всю жизнь. Он обливал их на ночь водой, плотно приглаживал, причесывал и обкручивал голову полотенцем, а потом долго не мог уснуть – голове было неловко на твердых узлах. Утром он снимал чалму и с умилением смотрел в зеркало на плотно прилипшие волосы. Но тут же вихры начинали медленно и упрямо подниматься. А через минуту они, будто издеваясь над ним, уже торчали браво и нагло. Стебель приходил в отчаяние…
Ребята на комсомольском собрании решили по-настоящему вникнуть в работу друг друга. Каждый должен был как бы отчитаться перед товарищами. Первой пригласила всех к себе на ферму Маша.
Ребята шли по гулкой лесной дороге, голося песню, а Стебель и Маша улизнули от них, пробирались напрямую через чащу. Лес тонул в тумане, из него сосны проступали смутно. На кончиках хвоинок зрели капли.
Стебель остановил Машу, преданно глянул ей в глаза, обнял. Маша хотела освободиться из его рук, но Стебель не отпустил, а ей и самой было приятно в этих руках. Молоденькие сосенки кололи их со всех сторон ершистыми, мокрыми ветками.
– А, черт возьми! – вдруг воскликнул Стебель, сгреб с головы кепку в кулак, хватил ее об землю. – Сегодня же, прямо на ферме, скажу ребятам, что мы поженимся, и никаких гвоздей! Все!
Маша смеялась, глядя в его лицо, – отважным и отчаянным показался ей Стебель.
– Ой, Валерка, ты вспыхиваешь, как порох! Ну, чего ты горячку порешь? Попробуй только сказать ребятам, знаешь что я сделаю?
– А что?
– Колодезной водой окачу тебя, чтобы остыл.
И они засмеялись. Но Стебель тут же нахмурился.
– Ты, что же, не хочешь выходить за меня замуж?
– Всему свое время. Я сама назначу срок, – строго проговорила Маша.
– Только ты уж не тяни, – умолял Стебель. – Неужели и у меня будет семья? Моя, собственная? – изумился он. – А знаешь, мне очень твои старики нравятся. Мы с отцом охотиться будем, куропатками, зайцами вас кормить станем! И домик ваш мне нравится.
Машин дом стоял на берегу реки у леса. Ели колючими лапами мели по его окнам, по бревенчатым стенам. Стебля умиляло, что прямо во дворе росли две сосны, сорили шишками на крыльцо, в кадушки, на крышу. Он слыхал, как ведро у колодца гремело, когда в него падала шишка. Маша вытаскивала из колодца воду, и в ведре плавали шишки и хвоинки. Прямо во дворе мелькали и дрозды-рябинники, и горихвостки, и сороки, а по стволам сосен шныряли пепельные поползни. Намотался безродный Стебель на ветру и теперь мечтал поселиться в Машином царстве.
Маша взглянула на его лицо и подумала: «Ничего-то он не может скрыть, вся его душа как на ладони». И никому она не верила так, как Валерке, и гордилась им и была счастлива, что такой парень полюбил ее…
Они пришли раньше ребят, распахнули дверь в длинную, шумную ферму. В ней было чисто, Маша сама побелила стены.
Наконец пришли ребята.
– Ну, показывай свой зверинец! – крикнула Тамара.
– Эк их, оглушили!
– Вот бы парочку поджарить! – скалил зубы Шурка.
– Входите, ребята, входите, – приветливо встречала Маша. На голове ее цвел кокетливый платочек, завязанный под подбородком.
– Входите, входите, – приглашал из-за ее спины и Стебель, сбивший кепку на затылок.
– А ты чего приглашаешь? – спросила Галя. Она улыбнулась, но улыбка у нее получилась грустной и болезненно слабой.
– Тоже хозяин нашелся!
– Ишь ты, какой свиновод!
– Он свинство разводит! – объяснил Шурка.
Ребята захохотали.
– Ну, Маша, показывай, – ласково попросила Галя, лицо ее было бледным, и она как-то зябко пожимала плечами.
– А чего тут показывать, все на виду.
Со всех сторон неслись хрюканье, визг. Из клетки в клетку перепархивали воробьи. Воздух был душный, тяжелый, теплый.
Все медленно шли по дощатому настилу. Вдоль него тянулись загородки. В некоторых развалились на боку большущие матки, рыла их облепили мухи. Поросята отталкивали друг друга, визжали, яростно рылись в сосках, как в земле, сосали, чмокая.
– Каждый поросенок знает свой сосок, – крикнула Маша, стараясь пересилить визг, хрюканье и топот. – А чтобы не кусали друг друга, мы им передние зубки выламываем.
– Как это? – удивился Стебель, который никогда еще не был на фермах.
– Щипцами. А вон на ушах видишь дырочки? Тоже щипцами работали. По количеству дырочек мы узнаем, от какой матки поросенок.
– Вот живодеры! – Стебель покачал головой.
– Маша, она такая! – гоготнул Шурка. – Она и тебе уши продырявит, чтобы все девки знали, что ты ее.
В большинстве клеток поросята были уже без маток. Они носились, поддевая друг друга рыльцами, таращили поросячьи глаза с белыми ресницами. Ребятам было смешно смотреть на них. В нескольких клетках поросята спали кучками, друг на друге, – так им было теплее. Иные через лазы выбирались в коридорчик и удирали, дробно стуча по настилу копытцами, бросались к длинному корыту с водой, выдолбленному из бревна.
Маша разговаривала с ними ласково. Поросят она называла бесенятами, щеки их – щечками, кормушку – столовочкой.
Радуясь, она показывала запарник, похожий на небольшую цистерну с топкой в центре. В запарнике готовили корм, и от него же шли трубы с горячей водой для обогрева помещения.
Показала Маша и транспортерную ленту, которая была устроена в желобе вдоль клеток. Она включила ленту и стала сметать навоз в желоб. Лента бежала, уносила его из помещения.
– Это здорово облегчает работу. Сараев нам сделал, спасибо ему, – сказала Маша. – Дают мне двадцать свиноматок. Я должна принять у них поросят и следить за ними, пока они сосунки. А как подрастут, я сдаю их на другую ферму. Когда я решила взять тридцать маток, девчата на меня закричали: «Ты сдурела? Такого еще не было! Да они у тебя подохнут!» А я все-таки взяла. И – ничего, справилась. Нынче у меня уже сорок маток.
– О! – и Стебель гордо поднял палец, дескать, знайте наших!
– Мы пахали! – Шурка тоже поднял палец.
Все эти шутки, смех, рассказ Маши о том, как она кормит и ухаживает за поросятами, – все это немного развеяло Галю и оживило ее. Галя думала о том, что хорошо ли так, если Миша всю молодость отдаст… поросятам И вспомнилось Гале, как Стеблю, после фильма о Кармен, показались окружающие некрасивыми и серыми. Вот и сейчас: свинарник, поросята, цифры, рацион – да какая уж тут…
«Глупая! – рассердилась на себя Галя. – Да разве Маша поросятам служит?».
– Я им в корытце сыплю жареную крупу. Они, ребятишечки, любят ее, – рассказывала Маша. – А через семь дней начинаю подкармливать кашицей. Даю мел, древесный уголь, глину, дерн.
– Ты сама такое меню придумала? – спросил Шурка. – От такой жратвы немудрено и ноги протянуть.
– Это все по науке.
Стебель с гордостью поглядывал на Машу. «Совсем ошалел, – подумала Галя. – Они счастливые. А Виктор не пришел».
Галя перестала слышать Машу и видеть ребят…
Возвращаясь домой, Стебель на всю улицу насвистывал какую-то польку. Насвистывал он ее громко, весело и прямо-таки по-соловьиному.
Войдя во двор, он увидел женщину, сидящую на верхней ступеньке крыльца. Рядом с ней лежал небольшой чемодан, а на нем стояла распочатая бутылка с вином. Стебель оборвал свист, и лицо его напряглось: навстречу поднялась его мать. Он молчал, растерянно разглядывая обрюзгшее, старое лицо. На ней было зелено-выцветшее, вязаное, тяжело обвисающее платье и мужской пиджак, накинутый на плечи.
– Здравствуй, сынок, – хрипловато проговорила она, – вот приехала к тебе в гости. Соскучилась. Один ведь ты у меня. На всем белом свете один-разъединственный родной человек. – Она сморщилась и заплакала. – Плохо мне, совсем плохо, сынок, – прошептала она, обняв его и положив голову ему на грудь. У Стебля дрогнуло сердце, и он тоже прошептал:
– Ладно, ладно… Успокойся. Пошли в дом.
Он вытащил ключ из-под крыльца. Мать подхватила чемоданчик со ступеньки и бутылку с вином.
– А я вот везла тебя угостить, – громко и наигранно бодро заговорила она, входя за ним в дом, – да не вытерпела – приложилась. Больно уж долго тебя не было, а я с дороги уморилась.
Стебель провел мать в свою комнатку за переборкой, потом выскочил из кухни, сунул на электроплитку сковородку с пластиками сала, сбегал в огород за огурцами и за луком.
Когда он вернулся к матери с пузырящейся в сковородке, посыпанной луком яичницей и с тарелкой свеженьких, мокрых огурчиков, она сидела за столом уже умытая, причесанная и хмельная. На столе рядом с пустой бутылкой стояла новая, еще не распечатанная.

– Садись, садись, – встрепенулась мать. – Мы ведь еще ни разу в жизни не сидели вот так… Ты вообще-то пьешь?
– Нет… Не люблю я это.
– Вот и хорошо, вот и хорошо. А я вот… через это вот, – она зажала в кулаке горлышко бутылки, – всю свою жизнь погубила. – Стиснув губы, она зажмурилась. Стебель испуганно следил, как из-под ее век сочились слезы и как вздрагивали и дергались ее губы. «Неужели это моя родная мать?» – в недоумении подумал он.
– Я ведь не всегда такой была. Я ведь и любимой дочкой была. И красивой школьницей была. И красавицей студенткой была. И меня многие любили. Вот-вот – посмотри какой я была! – она торопливо, словно боясь, что сын ей не поверит, раскрыла чемодан и принялась рыться в нем. Наконец вытащила черный, плотный конверт и извлекла из него несколько фотографий.
– Вот-вот, смотри – это я! Это мне было шесть лет.
Стебель взял фотографию, – на него смотрела родниково-чистыми, светлыми глазами смеющаяся девчушка с большим бантом, сидящим, как белый вертолетик, на пышных светлых волосах. Стебель любил детей, и ему показалось, что лучше этого ребенка он еще не видел. Он непроизвольно взглянул на обрюзглое лицо матери и снова перевел взгляд на лик ребенка. И ему стало жарко, душно, страшно. И жалость к этой погибшей девочке так и пробороздила по его сердцу. А мать уже протягивала ему другую фотографию.
– А это я – студентка торгового техникума.
Стебель взял вторую фотографию – на него глянуло ясное девичье лицо. В глазах светилась смешинка, вздернутый нос мог принадлежать только веселой озорнице, на лоб была сдвинута квадратная, обшитая бисером узбекская тюбетейка, улыбчивые губы как бы говорили, что этой дивчине и море по колено.
Стебель положил рядом две фотографии и увидел черты маленькой девочки в чертах студентки, и тут же он перевел взгляд на лицо матери, мысленно убирая обрюзглость, морщины, тусклость кожи, и вдруг увидел те же, что и у студентки, черты лица, только теперь искаженные и увядшие. И это было самым страшным.
– Неужели это ты, мама? – снова уставившись на фотографии, изумился Стебель. Он и не заметил, что впервые назвал ее мамой.
– Я, я, – горестно откликнулась мать. Она пощупала свое лицо. – Вот как может жизнь – будь она проклята! – изжевать человека.
Стебель испуганно повернулся к ней.
– Зачем же ты так о ней… о жизни? Разве она виновата?
– Конечно, конечно, она тут ни при чем. Ее самое измордовали живоглоты. Ведь кругом подлец на подлеце. Каждый норовит съесть тебя. Когда я была таким вот лакомым кусочком, – она потыкала пальцем в лицо студентки, – мужичье буквально за мной охотилось! Они, как твари-браконьеры, обложили меня тогда со всех сторон. Развращали, как только могли, сволочи. А я, глупая девчонка, только рот доверчиво разевала.
Мать говорила с пьяной яростью, и Стебель боялся, что у нее вот-вот вскипит на бледных губах пена.
– Они уже в двадцать лет научили меня разным махинациям за прилавком, таскали меня по своим гулянкам. Замужество, семейная жизнь, дети – все это мне казалось зеленой скучищей. Мне, видишь ли, хотелось этакой шикарной жизни. Чтобы, значит, из ресторана не вылезать. А для этого деньги нужны. А где их возьмешь? Вот эту слабинку мою и нащупал один мерзавец; такой зелененький дохленький бухгалтеришка из облторга. Я тогда работала в магазине в галантерейном отделе. Ну и начали через меня сбывать всякий дефицитный ворованный товар. А через год вся наша гоп-компания оказалась на скамье подсудимых. Три моих лучших года сожрала тюрьма. А из тюрьмы я вышла уж оторви да брось. Эх! Зачем травить себе душу? Погублена жизнь. Да ее просто не было, не получилась она. Даже тебя, сына, не я вырастила.
Подавленный этой исповедью, Стебель сидел ссутулившись, не глядя на мать. Она налила портвейна себе, ему, Стеблю, стукнула своим стаканом о его стакан и медленно, не отрываясь, высосала вино до дна.
– Фу-у, – выдохнула она, отчаянно сморщилась и захрустела огурчиком. Теперь Стебель смотрел на нее во все глаза. Он же ничего не знал о матери. А ей, должно быть, стало нехорошо от этого взгляда, и она проворчала:
– Ну, чего ты… залюбовался мной? Пей, пей!
Стебель отпил глоток и тихо спросил:
– А кто мой отец?.. И где он?
– Не спрашивай о нем никогда, – хмуро ответила она. – Зачем тебе какой-то негодяй?.. Опять ты смотришь на меня как-то особенно? Хотя смотри, смотри… Я ведь была, знаешь, какая? Вот слушай, я расскажу тебе одну из своих историй. Работала я, значит, тогда в лучшем отделе лучшего универмага. Отдел сувениров! Ну, твоя мамка была девочка – гляди не наглядишься! Что фигурка, – она в воздухе нарисовала непослушными руками что-то извилистое, – что ножки, – и она вытянула ногу в спустившемся морщинами чулке и хлопнула себя по колену, – и другое прочее – все, как на выставку, – и она лихо щелкнула пальцами, захохотала. Но вся эта разухабистость звучала фальшиво. И смех ее был вымученным, и улыбка, и глаза, и лицо ее выглядели жалкими. Должно быть, она рассказывала эту историю для того, чтобы как-то приподнять себя, хоть чем-то похвалиться перед сыном. А ему слушать ее было тягостно.
– И вечно около моего прилавка отирались парни, солидные мужчины и даже старикашки, – лихо продолжала мать. – Стоят и таращат на меня глаза, язвило бы их, тают, млеют, рты растягивают от уха до уха – улыбаются, значит. Помани я только пальцем, на четвереньках побегут за мной. Смехота! Отдел для женщин, а в нем торчат мужики. Прилавок мой – шик-блеск – сплошное стекло, а под ним и на стеклянных полочках по стенам чего только нет для подарков: тут тебе и ожерелья, и браслеты, и духи, и чулки, которые можно продернуть через петлю на твоем пиджаке, и всякие там нарядные косыночки да платочки, шарфики да перчаточки – одним словом, всяческая утеха для женского сердца. И все это ярко освещено. И среди этого райского уголка – я!
И вот как-то вызывает меня к себе директор. Пройдоха – пробы негде ставить! Представляешь?.. – Она замолчала, беспомощно глянула на Валерия, потерла лоб и воскликнула: – А, черт! О чем я говорила-то?
– О том, что директор тебя вызвал, – подсказал Стебель.
– А! Да, да! Вызывает он меня и говорит: так, мол, и так, Аннушка, выручай. «А что такое?» Да вот, говорит, скопилась у нас на складе целая гора уродливых игрушек местного производства. Никто их не берет. Можно, конечно, списать их, да и на свалку. А я думаю, может быть, попробуем – спихнем их покупателям. Тут уж вся надежда только на тебя. Удиви-ка, мол, своим мастерством. Красота, мол, красота твоя главную роль должна сыграть. Нарядись во все лучшее и стань за прилавок, как богиня, – мать как-то нелепо разбросила крыльями руки, изображая неведомую богиню. – И как только, мол, начнет грудиться и мельтешиться около тебя мужичье – ты и всучи им всю эту рухлядь.
Ну, мне, конечно, стало лестно – сам понимаешь – и я взялась за это дело. А игрушки – бог мой! – это же надо такое сотворить для ребятишек! Какие-то тяжеленные, железные грузовики, дико зеленые уродливые танки, похожие на утюги пароходы, кубики величиной с кирпич, метровые медвежата, отвратительные, грязные зайцы, куклы с идиотскими мордами, клоуны с облупившимися носами, деревянные ружья, будто вырубленные топором.








