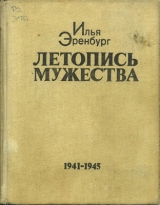
Текст книги "Летопись мужества"
Автор книги: Илья Эренбург
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Мало кто догадывается за границей о моральной и телесной крепости советского человека. Русские всегда любили театр, и наш театр славился во всем мире. Но в жизни русские лишены театральности. Наши ораторы не злоупотребляют пафосом. Героизм наших людей неприметен: он естествен, в нем нет приподнятости, аффекта, позы. Бойцы, совершившие подвиги, не понимают, почему их поздравляют, – для них это естественные поступки. Героическая защита родины для нашего народа – это нечто простое, понятное, не требующее лишних слов. И здесь залог нашей победы.
27 сентября 1941 года
Я родился в Киеве на Горбатой улице. Ее тогда звали Институтской. Неистребима привязанность человека к тому месту, где он родился. Я прежде редко вспоминал о Киеве. Теперь он перед моими глазами: сады над Днепром, крутые улицы, липы, веселая толпа на Крещатике.
Киев звали «матерью русских городов». Это – колыбель нашей культуры. Когда предки гитлеровцев еще бродили в лесах, кутаясь в звериные шкуры, по всему миру гремела слава Киева. В Киеве родились понятия права. В Киеве расцвело изумительное искусство – язык Эллады дошел до славян, его не смогла исказить Византия. Теперь гитлеровские выскочки, самозванцы топчут древние камни. По городу Ярослава Мудрого шатаются пьяные эсэсовцы. В школах Киева стоят жеребцы-ефрейторы. В музеях Киева кутят погромщики.
Светлый пышный Киев издавна манил дикарей. Его много раз разоряли. Его жгли. Он воскресал. Давно забыты имена его случайных поработителей, но бессмертно имя Киева.
Здесь были кровью скреплены судьба Украины и судьба России. И теперь горе украинского народа – горе всех советских людей. В избах Сибири и в саклях Кавказа женщины с тоской думают о городе-красавце.
Я был в Киеве этой весной. Я не узнал родного города. На окраинах выросли новые кварталы. Липки стали одним цветущим садом. В университете дети пастухов сжимали циркуль и колбы – перед ними открывался мир, как открываются поля, когда смотришь вниз с крутого берега Днепра.
Настанет день, и мы узнаем изумительную эпопею защитников Киева. Каждый камень будет памятником героям. Ополченцы сражались рядом с красноармейцами, и до последней минуты летели в немецкие танки гранаты, бутылки с горючим. В самом сердце Киева, на углу Крещатика и улицы Шевченко, гранаты впились в немецкую колонну. Настанет день, и мы узнаем, как много сделали для защиты родины защитники Киева. Мы скажем тогда: они проиграли сражение, но они помогли народу выиграть войну.
В 1318 году немцы тоже гарцевали по Крещатику. Их офицеры вешали непокорных и обжирались в паштетных. Вскоре им пришлось убраться восвояси. Я помню, как они убегали по Бибикозскому бульвару. Они унесли свои кости. Их дети, которые снова пришли в Киев, не унесут и костей.
«Отомстим за Киев», – говорят защитники Лениграда и Одессы, бойцы у Смоленска, у Новгорода, у Херсона. Ревет осенний ветер. Редеют русские леса. Редеют и немецкие дивизии.
Немцы в Киеве – эта мысль нестерпима. Мы отплатим им за это до конца… Как птица Феникс, Киев восстанет из пепла. Горе кормит ненависть. Ненависть крепит надежду.
1 октября 1941 года
Я знаю наших врагов. Моя жизнь сложилась так, что в течение последних пяти лет они все время близко – то надо мной, то рядом. Я видел их в небе Испании и на улицах Парижа. Видел в их логове – Берлине. Видел у нас, под Брянском. Я изучил эту породу.
Гитлер воспитал существ особого рода. Трудно их назвать людьми. Это прежде всего солдаты. Они натасканы на одно – на войну. Они разбираются в военном деле, хорошо вооружены и считают, что война – естественное состояние человека. Их познания в области гуманитарных наук ничтожны. Из гитлеровцев, с которыми я разговаривал, никто не знал имен Шекспира, Сервантеса, Толстого. Им привили отвращение к мирному труду. Это автоматы с автоматами.
Наивно говорить об идеологии гитлеровской армии. Для современного немца географическая карта – это карта кушаний и напитков в ресторане. Их идеология определяется аппетитом. В каждой армии могут быть грабители и мародеры. Но особенность армии Гитлера в том, что ее основа – грабеж. Генералы издают «Правила для отбирания имущества». Офицеры и солдаты с немецким педантизмом записывают в записные книжки и дневники, что именно они награбили за день. Они идут в бой, вдохновляемые предстоящей добычей. Это голодные крысы, которые распространились по Европе.
Население Германии разделяется на тех, кто получает посылки из захваченных стран, и тех, кто их не получает. Экономика Европы изменилась. В центре ее находится мощное государство кочевников. Нацистские кочевники совершают набеги на другие страны. Они оставляют жен и детей дома, шлют им меду и товары. Миллионы немок стали соучастницами мирового грабежа. Я просматривал сотни писем. Когда-то немки были сентиментальными. На письмах были следы слез. Теперь на них как бы следы голодных слюнок. Современные Гретхен требуют, чтобы им прислали русские меха, украинское сало или колбасу, полотно, чулки, мыло. Можно подумать, что их мужья отправились не на войну, а на базар.
Гитлер привил молодым немцам захолустное ницшеанство. Война приучила их к распущенности. Жестокость стала общим явлением. «Когда я расскажу Эмме, как я повесил русскую большевичку, Эмма мне отдастся», – пишет один из этих «сверхлюдей». Другой обобщает: «Женщины любят только жестоких». Садизм стал повседневным явлением. Гитлеровцы спокойно записывают в своих дневниках: «расстреляли детей», «пытали пленных», «повесили партизан». Одна банда выкопала мертвеца на кладбище и глумилась над трупом, о чем участник «забавы» рассказал в своем дневнике между двумя описаниями обедов. Нужно вспомнить темноты немецкого экспрессионизма, фильмы вроде «Доктора Каллигари», чтобы понять, на что способна озверевшая молодежь Германии. Зверства не индивидуальные поступки отдельных солдат. Погромы в ряде городов были организованы командованием. Мы ознакомились с приказом верховного командования, в котором рекомендуется не оказывать раненым русским медицинской помощи.
Для гитлерюгенда, для эсэсовцев, для солдат моторизованных частей война опасный, но веселый спорт, добыча, не оплаченная рабочим потом, возможность пытать и насиловать, посылки женам и невестам, ордена и почет.
Сорокалетние солдаты не похожи на молодых: эти способны задумываться. Они помнят книги и газеты, выходившие до Гитлера. Они помнят также 1918 год и разгром Германии, тогда тоже хваставшей десятками побед. Сорокалетние чересчур много помнят. И Гитлер их не жалует. Они окружены молодыми. Старики – в тылу. Там они ворчат под английскими бомбами. К нам пожаловала немецкая молодежь.
Кто станет отрицать силу германской армии? Технически мощная страна жила одним: готовилась к войне. Рейхсвер поставил Гитлеру кадры. Конечно, военные специалисты не очень-то любят австрийского маляра. Но Гитлер им нужен, как они нужны Гитлеру. Наконец, вся индустрия Европы от Шкоды до Крезо работает на германскую армию. Никогда еще не было на земле такой военной машины.
Мы не склонны преуменьшать силы врага. Вся тяжесть его ударов теперь направлена на нас. В оккупированных странах остались сорокалетние, австрийцы или полукалеки. Немецкая авиация забыла о Лондоне. Немецкие танки забыли про Египет. Перед нами армия, которая в кратчайший срок уничтожила Францию, Польшу, ряд других государств. Мы не отделены от нее океаном. У нас нет и Ла-Манша. Разбойная орда – наши соседи. За сто дней войны немцы заняли много наших городов. Мы пережили ряд испытаний. Нелегко нам было потерять Киев… И все же я уверен в нашей победе.
В боях мы узнали силу и слабость немецкой армии. Воспитанная для грабежа и зверств, гитлеровская молодежь нахальна, требовательна и неврастенична. Исполненные глубокого презрения к миру, немецкие солдаты не ожидали отпора. Они искренне обижены на сопротивление русских. Все они пишут и говорят о «фанатизме» наших бойцов. Те, что участвовали в походе на Францию, особенно возмущены. Они надеялись, что у нас найдется генерал Корап и министры типа Маршандо или Бернагарэ, которые, в свою очередь, подыщут русского Петэна. Вместо этого они видят единение советского народа, отчаянное сопротивление, оказываемое до конца той или иной окруженной частью, пустые города и партизан.
Казалось, немецкие солдаты должны были бы закалиться после двух лет войны. Но эти погромщики остались городскими неженками. Во Франции они ездили по хорошим дорогам, ночевали в гостиницах с комфортом и ели обед из четырех блюд. Здесь им приходится туго. Их пехота не привыкла ходить пешком. Солдаты после переходов в тридцать километров начинают хныкать: они ждали орденов, а не мозолей. Скверные дороги приводят их в ярость. Они жалуются на холодные ночи в лесу или в болотах. А теперь конец сентября – русская зима еще впереди. Немецкие части далеко от своих баз. Дороги с наступлением темноты пустеют: немцы боятся партизан. В декабре будет темно в три часа дня. В большинстве захваченных областей немцы нашли пустыню: все вывезено или сожжено. Немцы пришли к нам за харчем, а солдатам дают после 30 километров марша 300 граммов хлеба. Разнузданная солдатня начинает бесчинствовать, и фельдмаршал фон Лееб, вместо того чтобы принимать парад на ленинградском Марсовом поле, вынужден умолять своих солдат не нападать на немецких часовых, охраняющих склады.
Наглости и аффектированной храбрости немецких войск мы можем противопоставить спокойное мужество русского народа. Ни разу я не слышал бахвальства, выкриков, залихватских песен. Героизм советских бойцов лишен внешнего пафоса, он как бы является продолжением прежней трудовой жизни. Сплошь да рядом, когда поздравляешь героев и дивишься их подвигам, они отвечают: «Иначе нельзя было…» Необычное им кажется обычным. Самопожертвование объединяет всех. Мы видим, как гибнут наши новые школы, библиотеки, заводы. Все это строилось недавно, строилось с огромным напряжением, требовало жертв. И это гибнет. Одно уничтожают немецкие бомбы, другое приходится уничтожать нам, чтобы не оставить врагу. Это делается спокойно – с горечью, но с выдержкой. Так колхозники косили невызревшие хлеба или жгли скирды, когда подходили немцы.
Гитлер рассчитывал на гражданскую войну, на пятую колонну, на распад молодой государственности. Эти расчеты были наивными. Никогда еще не было в стране такой внутренней сплоченности. Горе и ненависть к врагу – нет цемента крепче…
Конечно, танки, минометы, автоматы незаменимы на войне. Наши бойцы идут против врага не с голыми руками. Рабочие на наших заводах работают исступленно, никогда я не видел такой ожесточенной работы. Мы надеемся, что наши технически мощные союзники бросят гирю на чашу весов. Но помимо оружия на войне существуют люди. Боевой опыт Красной Армии растет с каждым днем. Это – мозг. Есть у нас и сердце. Его нет у немцев. Трудно каждый день идти на смерть из-за краденого гуся или из-за честолюбия берлинского маньяка – завод кончается, как в механической игрушке. Наши люди идут на смерть за нечто очень простое и очень значительное: они отстаивают свою землю и свою свободу. Выбора для них нет. Мы либо победим, либо погибнем. Это знает каждый боец.
Сто дней и сто ночей идут страшные бои. Мы живем, сжав зубы. Мы много потеряли. Немцы выиграли столько-то квадратных километров, но они с каждым боем теряют веру в свою победу. А мы знаем: мы их одолеем, перетрем, доконаем. Мы не потеряли ничего от нашей веры. Стоит поглядеть на бойца в блиндаже – спокойного парня, который говорит: «А как же?… Жить хочется…» Это он говорит перед тем, как выйти навстречу смерти. Огромная любовь к той жизни, которая только-только открывалась перед молодой страной, – вот что должно победить гитлеровских «кавалеров черепа».
3 октября 1941 года
Это было в пустом Париже прошлым летом. Я сидел один у радиоприемника. Из Бордо передавали причитания. Мундир старого маршала прикрывал суету изменников и спекулянтов. Первый вор Франции Лаваль резвился развалинах своей родины. Миллионы беженцев метались по вытоптанным полям. Агонизировала, всеми брошенная, французская армия. Мертвый Париж напоминал Помпею. Я слышал топот: это по древним улицам Парижа бродили табуны гитлеровцев. И вдруг донесся мужественный голос: «Я, генерал де Голль, приказываю уничтожать снаряжение и боеприпасы, жечь горючее, не оставлять ничего врагу.
Люди из Бордо подписали позорное перемирье. Франция его не подписала. Франция продолжает воевать, и Франция победит».
Я никогда не забуду этого часа. Я подошел к окну. По улице шли пьяные гитлеровцы. Я взглянул на них другими глазами: это были не победители Франции, но заложники.
В ту ночь немцы праздновали победу над Францией. Гитлер приказал зажечь костры на немецких горах, звонить во все колокола. Париж молчал, униженный изменой.
И только издали раздавался голос полководца: Франция умерла. Да здравствует Франция!
С тех пор прошло почти пятьсот дней. Не бутафорские костры освещают теперь ночи Германии. Нет, это горят немецкие города, подожженные летчиками RAF (английских военно-воздушных сил). У немецких колоколов теперь другой звон: они звонят по мертвым немецким дивизиям, уничтоженным у Смоленска, у Ленинграда, у Киева, у Одессы.
Генерал де Голль теперь не одинок. Пересекают пролив рыбацкие лодки – это подкрепление де Голля. Рабочие Рено и Ситроена ломают станки – это инженерные войска де Голля. Падают сраженные пулями немецкие офицеры – это разведка де Голля. Клокочет, кипит Франция – это тыл де Голля и это его фронт.
Армия де Голля показала себя достойной великих традиций: в Африке сражались дети героев Марны и Вердена. Но с де Голлем не только его полки, с ним рыбаки Бретани и виноделы Прованса, с ним рабочие и ученые, студенты и старики, женщины и подростки, с ним бессмертный Париж.
Каждый день все громче и громче звучит голос французского народа. Напрасно адмирал Дарлан режет головы французским патриотам. Кровь мучеников – это семя: так всходят новые герои. Не адмиралу на минеральных водах уничтожить душу народа, создавшего «Марсельезу». На стенах Парижа висит объявление: тридцать тысяч франков обещают немцы доносчикам. Тридцать сребреников… Но все иуды уже давно на местах как штатные доносчики – в Париже или в Виши. А добровольных доносчиков нет. Ветер рвет клочья презренных афиш.
Каждый день немцы вывозят из Франции дивизии, орудия, пулеметы. Русский народ принял на себя основной удар врага. Мы убиваем тех, кто унизил Францию. Мы убиваем тех, кто сжег Руан. Мы убиваем тех, кто осквернил Париж. Мы убиваем тех, кто на бреющем полете убивал французских женщин и детей. Мы убиваем покровителей Лаваля и хозяев Дарлана. Мы убиваем каждый день тысячи и тысячи гитлеровцев. Мы находим на них следы их преступлений, дневники, в которых они рассказывают, как они измывались над французами в Аваллоне и Аррасе, в Нанте и в Нанси. Мы находим на них французское добро, медальоны и табакерки, слезы и кровь разграбленной, замученной Франции.
С радостью русский народ и Красная Армия узнали о признании генерала де Голля нашим правительством. Ничто не могло ослабить нашу любовь к Франции. Мне приходилось сотни раз рассказывать о падении Парижа студентам, рабочим, бойцам Красной Армии, и повсюду я видел глаза, полные гневом и надеждой. Мы знаем, что Франция жива, что никогда тирольскому маляру не поставить на колени народ Вальми, народ Гюго, народ Жореса, народ Вердена.
Многие французы слышали, как хор Красной Армии исполняет «Марсельезу». Это не только гимн свободной Франции, это и французский гимн всечеловеческой свободе. Он заставляет чаще биться все сердца, влюбленные в свободу.
За Францию умер Жан Катла, герой прошлой войны, солдат 72-го пехотного полка и депутат парламента. За Францию и за свободу.
За Францию и за свободу отдал свою жизнь молодой Колетт.
За Францию и за свободу сражались солдаты де Голля у Мурзука.
За Францию и за свободу борется весь французский народ.
Ему салютуют русские орудия на берегах Невы и Днепра. Мы сражаемся за нашу родину и за свободу мира. Мы сражаемся за наши сады и за освобождение Европы. Мы сражаемся за нашу независимость и за вечную Францию.
Там, за Смоленском, дальше на запад, за логовом зверя – Берлином, за развалинами Рура – Франция, мой любимый Париж. Мы слышим, как бьется сердце Франции. Близится час последнего боя. В ночи с западным ветром доходят до нас слова великого Гюго:
К оружию, граждане! К вилам, крестьяне!
Оставь свой псалтырь агонизирующим.
Генерал! Ринемся вперед.
«Марсельеза» еще не охрипла.
(Перевод подстрочный)
4 октября 1941 года
Немцы говорят о начале новых военных операций. Подождем несколько дней. Не в первый раз Гитлер утешает свой народ обещаниями близкой развязки…
Я хочу сейчас окинуть взглядом не линию фронта с ее загадочными изгибами, но нашу страну.
Прошло пятнадцать недель. Мы много пережили. Цветущие области превратились в пустыню. Не узнать теперь городов – они замаскировались. Не узнать друзей в военной форме. Наше сопротивление изумило мир. Немецкие газеты должны ежедневно объяснять своим читателям, почему поход на Москву не похож на другие походы.
Я много ездил, видел фронт и тыл. Каждый день я встречаюсь с разными людьми: с командирами и бойцами, с учеными и с рабочими, с писателями и с колхозниками, с героями и с обывателями. Я хочу беспристрастно, на час отрешившись от гнева и веры, рассказать о существе нашего сопротивления.
Большой русский поэт Тютчев сто лет тому назад писал: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…» История нашего народа полна для чужестранца темнотами.
В глубине дремучих лесов люди когда-то создавали дивные города и храмы, гармоничные и светлые, как древняя Эллада. Среди суровых морозов родилась солнечная поэзия Пушкина. В эпоху мрачного изуверства самодержцев русская интеллигенция была передовой. В начале этого века у наших крестьян еще были курные избы и лучины. Но Россия тогда правила передовыми умами человечества: мир ждал, что скажет Толстой.
Я знаю, на что способен русский народ. В 1919 году я видал, как люди толкали руками вагоны – не было паровозов. В 1932 году я видал, как в сибирской тайге строили Кузнецкий завод. Это было настоящей войной: с землянками и с героями, с лишениями и с мучениками.
Война для нашего народа не вскрик, но долгая и тягучая песня. Мы столько мучились, чтобы сменить лапти на сапоги. Мы так гордились электрическими лампочками в деревне.
Но вот настал час, и как смутное атавистическое видение встала перед народом война, ее темь, ее прощания на вокзалах, ее бессонница, ее окопы. Не лишения могут запугать этот народ.
Русский народ никогда не был националистом… Мы не чванливы по природе. Война у нас доходила до сознания народа только как защита своей земли. Так было при Наполеоне. Так случилось и теперь.
Жизнь каждого изменилась. Старухи вяжут и, зевая, кряхтят: «Кажется, фугаска…» Они ковыляют по улицам среди грохота зениток. Они боятся мышей и сквозняка, но не бомб. Дети, играя, тушат зажигалки. Когда воздушная тревога прерывает спектакль, зрители возмущены: они хотят знать, что случилось с героиней – полюбила она героя или нет.
Множество людей ночуют на заводах, в учреждениях, на складах: одни потому, что они так отчаянно работают, что грех потерять два часа на передвижение, другие потому, что они стерегут добро, не хотят на минуту оставить станок или цейхгауз. Это странная жизнь, полусон, военный бивуак. Но пойдите в театр, – все принарядились, и не узнать в балетомане, восхищенном «пуантами», инженера, который спит по три часа в сутки на складной кровати в цеху.
Под бомбами железнодорожники сцепляют вагоны, грузят снаряды, ведут поезда сквозь темные осенние ночи. Когда падают бомбы, люди ругаются, отряхиваются и продолжают работу.
Поговорите с железнодорожником. Он поворчит, что нет его любимого сорта папирос, что ночи холодные, что ему не нравится музыка радиопередач. А это – настоящий герой. Он спас позавчера четыре вагона со снарядами. Только тоскливый вздох расскажет о том, что он не знает, где его семья, – он из Киева…
Что такое партизаны? Обыкновенные русские люди. Их борьба органична – так сопротивляется земля. В ней враги завязают. Через линию фронта каждый день переходят люди. Ползут, чтобы сообщить, где батарея или аэродром противника. Приходят глубокие старики, смутно бормочут: «Там у немца самолеты…» Приходят дети с чертежами.
Я видал старуху. Ее муж повторил подвиг Ивана Сусанина – завел немецкий отряд в болото и там свистом стал звать партизан. Старика немцы застрелили. Про его смерть рассказывала жена: печально, но спокойно, как о неизбежном горе.
Генерал Еременко поздравлял бойца, который вышел из окружения, застрелив при этом шесть немцев. Боец ему ответил: «Товарищ генерал, я должен был пробраться – у меня было донесение товарищу лейтенанту…»
Расчет зенитной батареи чествуют: сбили семнадцать самолетов. Люди просят: «Поспать бы часа три. Потом собьем восемнадцатый…»
Когда отряд Красной Армии входит в деревню, крестьяне несут все: сало, мед, сметану. Я хотел заплатить одной крестьянке за яйца. Она сказала: «Не возьму. Моего кто-нибудь тоже накормит…»
Немцы надеялись вызвать гражданскую войну. Но стерлись все грани между большевиками и беспартийными, между верующими и марксистами: одни защищают время, другие пространство, но и время и пространство – это родина, это земля, это такая-то высота, такой-то рубеж, такое-то селение. За Красную Армию молятся в старых церквах, купола которых затемнены, чтобы не служить приманкой немецким летчикам. За Красную Армию молятся муфтии и раввины. Для старых бабок в деревне Гитлер – это антихрист. Для молодого астронома, шорца, отец которого верил в колдовство и отдавал последнюю овцу шаману, Гитлер – это тьма.
Миллионы людей только-только начинали жить. Это были их первые книги, первые театры, первое счастье. Грохот взрыва отдался далеко окрест: взлетела вверх плотина Днепрогэса. Все отдать, только не быть рабами немцев!
И вот идут в темноте новые эшелоны. Люди под пулеметным огнем копают картошку. Гибнут, но спасают мешок с мукой. Гибнут, но спасают ребенка. Старые люди маршируют с винтовками, жмурятся, хотят быть снайперами. Девушки на высоких каблучках деловито спрашивают, как кидать зажигательные бутылки. Бойцы на фронте в свободные минуты изучают тактику. Между двумя атаками поэты на позициях читают стихи бойцам. В темноте блиндажей рождаются народные полководцы. Стали пресными все слова. Люди доверяют только оружию. Никто не считает жертв. Никто не говорит о лишениях. Народ стал героем, и народ, как рядовой боец, не понимает, что он – герой.
Мы знаем, что немцы глубоко врезались в нашу землю. Мы сумеем пережить дурные сводки. Мы знаем, что хорошие сводки впереди. Мы не тешимся иллюзиями, мы не воюем на ходулях.
Рассказы о доблести наших людей скромны, даже серы. Для литературы это плохо: подвиг летчика, пошедшего на таран, излагается так, как будто речь идет о рыбной ловле. Но для победы это замечательно: нельзя быть героями только по праздникам, победит тот народ, для которого героизм – будни.
10 октября 1941 года
Москва – город моего детства. Я хорошо помню Москву прошлого века. Я вырос в тихом Хамовническом переулке. Зимой он был загроможден сугробами. Летом из палисадника выглядывала душистая сирень. В соседнем доме жил старик. Когда он проходил сутулясь, городовой на углу переулка подозрительно хмурился. А студенты и рабочие часто заходили в наш переулок, пели «Марсельезу», что-то кричали перед соседним домом: они приветствовали Льва Толстого. Это была сонная, деревянная уютная Москва с извозчиками, с чайными, с садами.
Я помню баррикады в 1905 году – я был мальчишкой, я помогал – таскал мешки… Я помню бои в семнадцатом. Все это мне кажется далекой стариной.
Москва менялась с каждым годом. Вырастали новые кварталы. Зимой снег жгли, как покойника. Автомобиль сменил санки. Обозначились новые площади. Дома переезжали, как люди, улицы путешествовали. Город казался гигантской стройкой. Его заселяла молодежь, и только воробьи казались мне старожилами, сверстниками моего детства.
Я знал Москву в горе и в счастье, в лени и в лихорадке. Она сохранила свою душу – не дома, не уклад жизни, но особую повадку, речь с развалкой, добродушие, мечтательность, пестроту. Она не похожа ни на один город. Прежде говорили о ней «огромная деревня». Я скажу «маленький материк» – отдельный, особый мир.
Вот узнала Москва еще одно испытание. За нее теперь идут страшные бои. Если пройти по московским улицам, ничего не заметишь: они выглядят, как всегда. Те же переполненные трамваи и троллейбусы, те же театральные афиши на стенах, те же женщины с кошелками. Но лица стали другими: глаза печальней и строже, реже улыбки. Есть старая поговорка: «Москва слезам не верит». Москва верит только делу – не словам, не жестам, даже не слезам.
В первые недели войны Москва многого не понимала. Тогда были слезы на глазах. Тогда были женщины, которые суетились, куда-то тащили узелки с добром, тогда были тревожные вопросы. Не то теперь: Москва, как многие люди, может волноваться перед опасностью. Но когда опасность настает, Москва становится спокойной.
Вчера я был на военном заводе. Я видел почерневшие от усталости лица: работают сколько могут. По нескольку суток не уходят с завода. Каждая женщина понимает, что она сражается, как ее муж или брат у Вязьмы сражается за Москву. Она знает, что именно она изготовляет. Чуть усмехаясь, говорит: «Для фашиста…» Это не жестокость, это скрытая и потому вдвойне страстная любовь: защитить Москву. Когда над кварталом, где находится завод, стоит жужжание моторов, когда грохот станков покрывают зенитки и тот свист, который стал языком, понятным в Москве, как в Лондоне, – ни на одну минуту не останавливается работа. Я спросил одну работницу, сколько она спит, она глухо ответила: «Грех теперь спать. Я что же – сплю, а они – на фронте?…» От работы отрываются только для военных занятий. Как друга, рассматривают пулемет – доверчиво, внимательно, ласково.
Вчера в институте керамики, как всегда, шли занятия: девушки рисовали на фарфоре цветы. Вдруг одна встала: «Нужно учиться кидать гранаты, бутылки с горючим…» Ее все поддержали. Милая курносая Галя говорит мне: «Каждая из нас, если до того дойдет, убьет хоть одного фашиста». Это не бахвальство. Каждый человек волен выбирать судьбу. Москва, как Галя, свою судьбу выбрала: если ей будет суждено, она встретит смерть, с одной мыслью – убить врага.
Актеры Камерного театра разбирают станковый пулемет, а два часа спустя гримируются, играют, повторяют торжественные монологи. Студентки литературного факультета, влюбленные в Ронсара или в Шелли, роют противотанковые рвы. Все это без патетических слов, без криков, без жестов. Героизм Москвы на вид будничен. Москва любила яркие хламиды – для масленицы, для театра, для праздника. Она веселилась в звонкой одежде рыцаря. Она идет навстречу смертельной опасности в шинели защитного цвета.
Сколько испытаний для женских сердец: от утра, когда ждет старуха мать почтальона – у нее четверо на фронте, до вечера, когда молодая мать, прижимая к себе младенца, прислушивается к голосам зениток. Москва всегда представлялась русским женщиной. За Москву, за мать, за жену сейчас сражаются люди от Орла до Гжатска… И женщина Москва подает бойцу боеприпасы, готовая, если придется, схватить ружье и пойти в бой.
Врагу не найти своей, второй Москвы: Москва одна. Я видел, как читали подросткам статью Ленина из «Правды» 1919 года «Москва в опасности». Они слушали угрюмо, потом загудели: «На фронт!» А в это время в московских церквах служили молебны за защитников Москвы, и старушки несли в фонд обороны обручальные кольца и нательные кресты.
Врагу не вызвать паники. Я слышал, как немцы по радио говорили: «Удирают красноармейцы, комиссары, жители». Это мечта Берлина. А Москва молчит. Она опровергает ложь немцев молчанием, выдержкой, суровым трудом. Идут на фронт новые дивизии. Везут боеприпасы. И город, древний город, моя Москва, учится новому делу: стрелять или кидать гранаты. И каждый день на фронтах, не только под Вязьмой, на далеких фронтах – у Мурманска, в Крыму – слышится голос диктора: «Слушай, фронт! Говорит Москва». Это коротко и полно значения. Пушкин писал: «Москва… как много в этом звуке для сердца русского слилось!» Не только под Вязьмой, от Мурманска до Севастополя миллионы людей сражаются за Москву.
Люди столпились, молча читают сводку. Все понимают: настали суровые дни. Что будет с Москвой?…
Сейчас мне рассказали о судьбе связиста Печонкина. Он был на наблюдательном пункте возле Гжатска, продолжал работать. Израсходовав все патроны и гранаты, он передал по проводу: «Работать дольше нет возможности. Немцы напирают со всех сторон. Иду врукопашную. Живым не сдамся».
11 октября 1941 года
В часы опасности сказались единство, крепость нашего народа. Несколько лет тому назад возле маленького города меня взял на свою телегу колхозник: согласился довезти до станции. Всю дорогу он ругал местные власти: секретаря районного Совета, начальника милиции, заведующего кооперативом. Я молчал. Вдруг колхозник сказал: «А ты кто будешь? Может быть, шпион? Покажи документ…» Я засмеялся: «Почему?» – «Ругаешь наших». – «Да ведь ругал ты…» И тогда колхозник ответил: «Мне ругать можно. Моя власть, вот и ругаю…» Я вспомнил эту историю потому, что она объясняет силу нашего сопротивления. Не механическая дисциплина, но глубокое народное сознание преграждает врагу путь к Москве.
Дороги из Москвы на запад и на юг: идут в бой свежие части, танки, везут боеприпасы. Эшелон за эшелоном. Регулировщики с флажками. Город ощетинился. Лица строже. В коридорах университета, в фойе театров, в кафе и столовых слышишь разговоры о том, как пользоваться бутылками с горючим, как стрелять из ручного пулемета, как рыть противотанковые рвы.
Бои на всех фронтах – от Орла до Гжатска – отличаются невиданным ожесточением. Пленные говорят, что им обещали: «Возьмите Москву, и будет мир». Немцы идут на смерть, чтобы выпросить себе у судьбы жизнь. Среди пленных попадаются солдаты, две недели тому назад привезенные из Франции и Бельгии. Гитлер оголяет побережье Атлантики. Его расчет прост: бить врагов, пока его враги не объединились. Немецкие танки сделаны не только в Германии, но и на парижских заводах. Немцы там тоже куют оружие против нас.
Красная Армия упорно обороняется. Третий день идут бои севернее Орла: немцы пытаются пройти к Мценску. На Западном фронте немцы прорвались к Бородину. Можно утром выехать из Москвы на фронт и вечером вернуться в редакцию…






