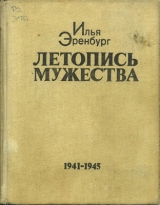
Текст книги "Летопись мужества"
Автор книги: Илья Эренбург
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Однако письмо не устарело: это ведь не комплименты, которыми обмениваются дипломаты, это обрывки фраз в боевых порядках.
Чутье народа надежней выкладок чересчур умудренных политиканов. Чутье народа подсказало Франции значение событий на востоке. Это может показаться парадоксом, и все же это трезвейшая истина: первая большая битва за Францию была выиграна не в южных песках, а в снежной степи. Недаром осенью и зимой в маленьких городах Пикардии или Савойи люди повторяли одно слово: «Сталинград».
В 1914 году русские, жертвуя собой в Восточной Пруссии, закрыли немцам дорогу в Париж.
В 1942 году Красная Армия, отбивая атаки врага среди развалин Сталинграда, открыла союзникам дорогу в Париж. Она открыла Франции дорогу во Францию. Неудивительно, что битва за далекий Сталинград взволновала марсельцев больше, чем перестрелки на близком побережье.
Геббельс вынужден теперь признать, что Германия зимой потеряла не только территорию, но значительную часть техники и живой силы. Каждый француз понимает, что русская зима подготовила французскую весну. Будет ли весна весной? Это зависит от наших друзей. Это зависит и от самих французов.
Мы знаем отвагу небольшой, но духовно крепкой армии Сражающейся Франции. Мы знаем патетическое Сопротивление французского народа, его забастовки, демонстрации. С восхищением мы следим за борьбой французских партизан. В своем письме Франсуа Килиси говорил, что национальное восстание Франции началось. Он говорил это, справедливо гордясь первыми стачками неукрощенных французских рабочих.
С тех пор прошло пять месяцев. Национальное восстание стало явственнее и шумнее, скрещенные на груди руки протянулись к оружию. Появились первые отряды вольных стрелков.
Трудно сейчас определить всю степень измены Виши. Рабочие, которых Петэн и Лаваль отправляют на восток, готовят оружье против Франции. Эти рабочие брошены и в города захваченной Украины. Славные металлисты Парижа и Сан-Этьена вынуждены исправлять танки, которые идут на Красную Армию. Лаваль и Петэн давно перестали быть марионетками, они стали мелкими ярмарочными фокусниками. Марионетки – это те французы, которые еще почитают французом маршала-предателя. Франция – санаторий для немецких дивизий, Франция – цейхгауз и арсенал Гитлера. Виши для Гитлера больший союзник, нежели нищая и битая Италия. Благодаря измене Виши, благодаря трусости колеблющихся Франция стала основной опорой врагов Франции.
Какой вывод должен сделать из этого любой французский патриот?
Один: французский народ мог ждать в 1941-м, он не может ждать в 1943-м.
Дивизии, взявшие Харьков, прибыли из Франции. Напрасно некоторые иностранные специалисты пытаются уменьшить значение этого факта ссылкой на то, что дивизии, разбитые под Воронежем, под Ростовом, под Курском, направлены во Францию. Кладбище автомобилей – это не автомобильный парк, тысяча немцев, переживших разгром, – это не боеспособный полк. Гитлер отсылает во Францию обмороженных неврастеников. Гитлер снимает с Атлантики крепкие дивизии.
Битвы этой весны и лета, битвы в России будут для Франции битвами жизни и смерти. Более чем вероятно, что Гитлер еще раз попытается сыграть ва-банк на востоке. Армия Сражающейся Франции – это только единица в рядах союзных армий. Но Франция – это великая держава и великий народ. Франция не может перейти на роль спящей красавицы, которая ждет рыцаря. Франция не может вздыхать у окна и глядеть на море. Франция хочет жить. Следовательно, Франция должна воевать.
От лесов Белоруссии куда дальше до линии фронта, чем от Парижа до Лондона. Двадцать месяцев партизаны России ведут войну против захватчиков. Они сковывают немецкие дивизии. Они нарушают немецкие коммуникации. Они уничтожают технику и живую силу противника. Они сражались и в месяцы нашего отступления, и в месяцы затишья на фронте: для партизан нет передышки. Они помогли Сталинграду остаться Сталинградом. В степях Украины, в болотах Новгорода, в лесах Смоленщины они подготовляли победы на Кавказе и на Дону. Что было бы, если бы они говорили: подождем, пока Красная Армия перейдет в наступление?
На заводах Харькова, Днепропетровска, Запорожья немцы пытались ремонтировать свои самолеты и танки. Советские рабочие не бастовали. Советские рабочие направили весь свой ум, все свои технические навыки на одно: саботировать ремонт машин, взрывать цеха, портить танки и самолеты. Советских рабочих за это не лишали хлебных карточек. Советских рабочих за это вешали.
Есть эпохи, когда слово – героика, когда «не могу молчать» Льва Толстого или «я обвиняю» Эмиля Золя обходят мир. Есть и другие эпохи, когда смерть буднична, когда за право быть честным человек расплачивается головой.
Что приключилось со времени письма Франсуа Килиси?
Французский народ взялся за оружие. Я знаю, что у него мало оружья: он был разоружен в 1940 году Петэном, Лавалем, Шотаном и многими другими, имена которых сейчас не принято называть. Но карабин в руке француза становится шестиствольным минометом. Франция – страна воинов. Напрасно ее представляли только как Беконле-Брюер, только как «кафе де коммерс». Это страна баррикад и Вальми, это страна Марны и Вердена. Бои в Савойе для освобождения Франции, для ее будущего независимой державы важнее многих переговоров и разговоров.
Весна началась. Нас ждут большие испытания. Раненый немецкий зверь способен еще причинить нам много зла. Гитлер мечтает о реванше за Сталинград. Мы готовы к новым битвам. Мы знаем, что у нас есть боевые друзья. Мы не забываем о нашем старом и вдвойне дорогом в горе друге – о французском народе. Мы твердо верим, что он героически будет бить по тылам германской армии. Мы верим, что французские рабочие от итальянской забастовки перейдут к хорошему французскому восстанию. Мы верим, что французские франтиреры не устанут истреблять немецкие эшелоны и немецкие гарнизоны. Для нас Франция не театр возможных военных операций. Для нас Франция – это прежде всего французский народ. Для нас Франция – это прежде всего наш союзник. Дипломат говорит другому дипломату об уступках, о границах, о параграфах договоров. Солдат говорит другому солдату: «Вот здесь мы, вон там враг – огонь по врагу!»
19 марта 1943 года
Последние недели мировая печать много говорила о материальной помощи союзников России. Некоторые газеты спрашивали: знает ли русский народ о помощи союзников? Конечно, знает и, конечно, ценит. Спросите наших шоферов о качестве американских грузовиков. Пойдите на завод – и вы увидите английские станки, о которых с похвалой отзываются рабочие. Я писал об идиллии между украинцем-танкистом и мисс «Матильдой». За вопросами одной стороны: «Ценят ли?», за репликой другой: «Ценим» – чувствуется, однако, некоторое душевное беспокойство. О нем я хочу рассказать английским друзьям.
Несколько недель тому назад я сидел в избе с танкистами. Старшина Васильченко, красавец с двумя орденами на груди и с детской улыбкой, готовил ужин. Он взял жестянку с американской колбасой и сказал: «Давай откроем второй фронт…» Я засмеялся, но у Васильченко глаза были грустные. Выпив и закусив, мы проговорили с ним далеко за полночь. Он мне рассказал о своей судьбе. Он с Полтавщины. Там осталась его мать. Там осталась и любимая девушка Галя. Старшина говорил: «Убили или угнали в Германию…» У Васильченко были три брата. Старший убит в Сталинграде. Младший, моряк, был ранен в Севастополе и потерял зрение. О третьем старшина ничего не знает. Воюет он с первого дня войны, дважды был ранен. Побывал в окружении, хлебнул горя. Рассказав о себе, поговорив о возможности нового немецкого наступления, Васильченко снова повторил слова «второй фронт» – теперь без консервов и без шуток: «Будет или опять отложат?»
Этот вопрос я слышал тысячи раз. Прошлым летом я отвечал на него бодро, не задумываясь. Теперь я отмалчиваюсь. Я и Васильченко не смог ничего ответить. Я вспомнил его глаза, читая статьи о помощи союзников. Англичане должны понять реакцию среднего советского человека: на войне сердце играет не меньшую роль, чем в любви. Может быть, чудесная колбаса оставила во рту старшины Васильченко чуть горький привкус – он ведь думал о своей матери и о своей Гале…
Я продолжаю говорить о чувствах. Мы никогда не скрывали нашего напряжения, наших жертв. Прошлым летом мы говорили о том, что война вошла в каждую русскую семью. А с тех пор мы пережили героическую оборону Сталинграда, где люди своей грудью отстаивали крохотный клочок земли от двадцати немецких дивизий. С тех пор мы пережили жестокие бои на Кавказе, наше наступление – Ростов, Курск, Харьков, Донбасс, Великие Луки, Синявино. С тех пор мы пережили и немецкое контрнаступление на юге. Россия пошла на все жертвы, чтобы отстоять себя. Но горе матери или жены остается горем. Но пустое место остается пустым местом.
За границей дивились успехам нашей военной промышленности, которая, несмотря на потерю крупных центров, продолжает снабжать фронт вооружением. Инженеры могут дивиться производительности эвакуированных заводов. Писатель вправе подчеркнуть крепость сердца. Кто знает, как тяжело людям, вырванным из родных мест, потерявшим свое добро, разлученным с близкими и обреченным на тяжелые условия? Можно было бы исписать много листов, рассказывая о жизни в бараках или в землянках, о зябких одесситах в Сибири, тысячах бытовых бед. Трудно живется людям: героями теперь стали все.
Что добавить? Может быть, что ни один русский не может забыть прошлой зимы Ленинграда? Или что теперь, после нашего успеха, немцы с новой яростью обрушиваются снарядами и бомбами на этот прекрасный город? Что каждый день немцы в Ленинграде убивают женщин и детей? Я повторяю – каждый день. Или что, наступая, вместо городов – Ржева, Вязьмы, Белого – мы находим только развалины и трупы замученных? Или что мы не можем спокойно думать о Харькове? Ведь мы знаем, что ждет его злосчастных жителей… Пусть наши английские друзья поймут, что Вязьма, Харьков или Ленинград для нас не географические обозначения, не малоразборчивые термины радиокомментатора, а куски нашего тела, что у одного в Харькове жена, у другого семья в Вязьме и что у всех нас близкие в Ленинграде.
Я говорил о чувствах. Я скажу теперь о рассудке. Один полковник мне недавно сказал: «Прошлой весной союзников могли бы толкнуть на второй фронт возвышенные чувства. Теперь их должен толкнуть простой расчет».
Я пишу эти строки в дни равноденствия: ночь и день сравнялись. По календарю это начало весны. Если угодно, некоторое неустойчивое равновесие установилось и на театре войны. Никто не скажет, чьей будет открывающаяся весна. Немецкой армии был нанесен зимой ряд тяжких ударов. Эти удары только случайно совпали с зимним временем, и в конце 6-й армии холода играли третьестепенную роль. В последней своей статье Геббельс признает тяжесть немецких потерь, он подчеркивает, что страшнее всего для Германии потеря техники и живой силы. Однако немцы на юге сумели перейти в контрнаступление. Они продолжают на некоторых участках теснить наши части. Гитлер мечтает о реванше за Сталинград.
Почему немцы добились некоторых успехов? Почему они снова овладели Харьковом? Гитлер может маневрировать. Дивизии, наступающие на юге, – свежие дивизии, привезенные из Западной Европы или из Германии. Некоторые иностранные газеты возражают: но ведь Гитлер направил на запад некоторое количество дивизий из России. Бесспорно: он отправил во Францию лохмотья полков, клочки батальонов – из-под Касторного, Ростова, Кубани, Оскола, Курска. Там он хочет вернуть этим пораженным морально людям душевное равновесие, придать пополнение и летом двинуть на восток отремонтированные дивизии. Расчет Гитлера прост. Он был бы слишком прост, если бы он имел дело с одним народом, с одной страной, с одной психологией.
Все немецкие пленные – я разговаривал и с солдатами, и с крупными штабными офицерами – говорят одно: «Второй фронт был бы для нас концом. Но второго фронта не будет». В этих рассуждениях не только отзвук длительной пропаганды Геббельса, в них известное самовнушение. Немцы воюют с таким упорством именно потому, что принимают свои пожелания за действительность. В этом состоянии неустойчивого равновесия, о котором я говорил, наступление союзников в Европе было бы для Германии моральной катастрофой. Я настаиваю на роли психики в немецком упорстве. Германия рухнет сразу, как в 1918 году. Она подточена, но она может стоять еще долго, она может еще причинить много зла и нам, и оккупированным странам, и Англии, если ее не свалить с ног, ударив и с запада. А средний немец не ждет такого удара. Напротив, он убежден, что разговоры о втором фронте останутся разговорами. Германия может выдержать еще десяток военных поражений, но она не выдержит морального потрясения, когда война на два фронта станет реальностью.
Начиная с Мюнхена, Гитлер, а за ним и вся Германия играют на одну карту: разъединение противников. Немцы покрыли стены Курска плакатами, в которых они высмеивают второй фронт. Из десяти листовок, которые немцы сбрасывают на расположение наших войск, пять посвящены высмеиванию «эгоизма плутократов». В Англии и в Америке немцы распространяют статьи о «красном империализме» или о «московской лаборатории мировой революции». Понимая, как трудно разъединить гнев и чаяния союзных народов, немцы хотят по меньшей мере разъединить их военные действия. Бить на востоке и бездействовать на западе до того часа, когда можно будет бить на западе и бездействовать на востоке, – такова стратегия Гитлера. До настоящего времени она ему удавалась. Благодаря ей он взял Харьков. Весна покажет, не ошибся ли Гитлер. Уж чересчур простоватыми он считает своих противников…
Я рассказал о наших чувствах и наших мыслях. Мы не сомневаемся в конечной победе союзников. Но мало победить, нужно еще жить после победы. Страшно становится, когда думаешь о разрушенной, голодной, опустевшей Европе. Для того ли мы работали, о том ли мечтали? Мы хотим победы, которая дала бы возможность восстановить жизнь, перейти к труду, к садам, к станкам, к книгам. Скажу прямо: меня страшит великое запустение Европы, непоправимость многих ран, судьба наших детей. Чем скорее придет победа, тем больше возможностей спасти Европу, спасти нашу культуру. А культура у нас одна: от Эллады, от Библии, от христианства, от Возрождения, от Шекспира, от гуманистов, от Франции энциклопедистов, от Пушкина, от романтиков, от Толстого. Мы приняли эстафету из рук прекрасных веков. Что передадим мы детям? Я не могу спокойно читать некоторые иностранные статьи, в которых люди, отделенные тысячей миль от Европы, пишут про военные поставки… в 1945 или 1946 годах. Есть лекарства, которые горше смерти. Это не только голос сердца, это и голос разума. Узенький пролив не может отделить судьбу Англии от судьбы Европы, как не могут отделить тысячи и тысячи километров судьбу Урала от судьбы Франции или Англии. На войне командир батальона не агитирует перед командирами соседних батальонов, он излагает свои доводы, он говорит: «Необходимо то-то и то-то». Я верю, что мы с союзниками различные части одной армии свободы, что мои слова будут восприняты не как агитация, не как осуждение или призыв, но как честный прямой отчет – солдата солдатам.
2 апреля 1943 года
Я пишу эти строки среди развалин Гжатска. Я знаю, что мир привык к описанию зверств. Нервы людей притупились. Они лениво просматривают статистику расстрелов. Я мог бы им сказать, что в Гжатске осталось мало домов, что из тринадцати тысяч жителей города, вернее, из восьми тысяч, находившихся в Гжатске осенью 1941 года, немцы угнали в рабство шесть тысяч. Но я боюсь, что глаза скользнут по цифрам. Я хочу, чтобы англичане поняли всю меру нашего горя. Я расскажу о судьбе одной семьи. Я ничего не добавлю: это не новелла, а сухой протокол.
Я был в деревне Бородулино возле Гжатска. Там сейчас умирает столетний старик Павел Павлов. Три дня, как он не ест и не пьет: ждет смерти. По русскому обычаю, старик хотел надеть чистую рубаху к смерти, но немцы все унесли.
Павлов прожил очень длинную жизнь. Он был ребенком, когда громыхали орудия Севастополя. Он помнит освобождение крестьян от крепостного права в 1861 году. Он не думал тогда, что через семьдесят лет Гитлер возродит крепостничество. В Бородулино никогда не заезжали немцы. Иногда Павлов ездил в Гжатск на ярмарку, покупал дочкам гостинцы, молился в древнем Казанском соборе. Он теперь не знает, что собор взорвали немцы, что на базарной площади не осталось ни одного дома. Умирая, Павлов смотрит по сторонам: как выкорчеванный лес – его семья. Старик остался один, и ему страшно.
Когда– то оц говорил дочкам: «Пословица есть -семья вместе, так и душа на месте». Теперь немцы разметали его семью, и душа старика рвется прочь.
Павлов поздно женился. Ему было пятьдесят семь лет, когда у него родилась младшая дочь Елена. Давно Павлов овдовел. Но приезжали в Бородулино дочки, внучата, правнуки. Старик глядел на детвору и вспоминал давние годы: проказы, катанье на речке, посиделки.
Старшей его дочери Феодосии сейчас должно быть 53 года. Жива ли она? Давно, еще до революции, Феодосия повстречалась с Кузьмой Оленевым. Поженились. Отвоевав, Оленев вернулся в Гжатск. Он был скромным человеком – пастухом, пас городское стадо. В 1918 году ему дали домик на окраине города: кухонька, а за ней комната. Теперь вместо дома труба и головешки. Жили Оленевы бедно, но чисто, самовар блестел, уютно тикали ходики, на стенах висели школьные дипломы и фотографии в рамках. У Оленевых было четверо детей. Малограмотный пастух говорил: «Пусть пострелы учатся».
Старший, Иван, кончил десятилетку. Торжественно Оленев говорил: «Мой-то киномеханик…» А Феодосия писала отцу в Бородулино: «Иван теперь в кинотеатре». И хотя старик никогда не видел экрана, он одобрял: «Значит, доучился». Иван женился, невесту нашел в селе Мишино. Привез жену в Гжатск. Жили дружно. Пошли дети, да как пошли – вот уже пятый… Иван был на военной службе, и война его застала далеко от Гжатска. Жена с пятью детьми уехала к матери в Мишино.
Второй сын, Михаил, стал шофером. Он иногда катал пастуха. Отец говорил: «Хорошо, только слишком скоро…» Женился и Михаил. Когда началась война, у него был двухлетний сын. Михаил пошел воевать. Осенью немцы подошли к Гжатску. Схватив ребенка, жена Михаила пошла на восток. Дошла ли она, или ее убили немцы? Никто не знает про ее судьбу.
Третий сын, Шура, был общим любимцем. К началу войны ему было 15 лет. Он должен был перейти в седьмой класс. Считался первым в школе. Учителя говорили: «Из него выйдет изобретатель». Шура все время сидел над чертежами и деталями. Ростом он не вышел, маленький, веснушчатый, с чубом и пытливыми темными глазами.
На год моложе Шуры была сестренка Лида.
Так жили Оленевы, и дед в Бородулине радовался: «Правнуки внуков переплюнут».
В ветреный осенний день на улицах Гжатска показались серо-зеленые солдаты. Двое пришли в комнату Оленевых, легли на кровать и закричали: «Матка, яйки».
Много волнений и до того дня было у Оленевых. Михаил пропал. Проходили через Гжатск русские солдаты, говорили, что Михаил возле Ельни вез командира и попал в немецкое окружение. «Может, он прорвался к партизанам», – утешала себя мать. А отец молчал.
Оленевы не знали, что с женой Михаила. Жена Ивана и дети были в Мишине, но туда нельзя было ни проехать, ни пройти – немцы никого не выпускали из города. Не знали Оленевы, что со стариком в Бородулине. А в доме гитлеровцы буянили и покрикивали: «Молока достань. Постирай белье. Поставь самовар».
Кузьма простудился и не мог поправиться, сильно кашлял. Феодосия давно страдала острым ревматизмом, не могла ходить. Но немцы кричали: «Шнель», – и Феодосия торопилась: боялась за детей.
Ее сердце чуяло недоброе. За Шурой пришли в субботу. Мать голосила, а Шура говорил: «Мама, не убивайся». Старый Оленев пошел в полицию. Ему ответили: разберут дело – партизан Шура или нет. В воскресенье к Оленевым прибежала знакомая, говорит: «На улице слышно, как Шура кричит – очень его мучают». Феодосия не могла ходить, но здесь она побежала, молила: «Отпустите – он еще маленький». Немец смотрел на нее и смеялся.
У Шуры нашли «улики»: карманную лампочку с запасной батареей, карту Германии, вырванную из атласа, и фотографию братьев в военной форме. Его арестовали вместе с соседом, молодым педагогом Дешиным. Они дружили: Шура был развит не по летам. Фашисты секли Дешина и Шуру. Мальчик кричал: «Звери…»
В понедельник старый Оленев с рассвета стоял в полиции. Наконец переводчик вынес ему бумажку: «За связь с партизанами Петр Дешин и Александр Оленев расстреляны». Отец не мог понять, что случилось, он еще стоял, ждал. Его вытолкали.
Пришла весна. Немцы радовались, кричали Феодосии: «Матка, танцуй». А 25 мая пришли к Оленевым и сказали: «Выходите». Шестидесятилетнего отца, мать и девочку Лиду повезли в телятнике на запад. Феодосия говорила: «Ведь мы не доедем». Немцы отвечали: «Можете умирать, девочка будет работать». Дом сожгли.
На вокзале Феодосия, плача, говорила сестре Елене: «Уморят нас в Германии. А если ты дождешься русских, расскажи, как замучили Шуру».
Елена сейчас сидит передо мной и рассказывает о горе сестры. Потом она говорит о своем горе. Она на десять лет моложе Феодосии. Девчонкой она приехала из деревни в Гжатск к замужней сестре. Познакомилась с рабочим Сергеем Дмитриевым. Вышла замуж. Жили неплохо. Был у них единственный сын – Витя.
Перед войной Сергей заболел тяжелой желудочной болезнью. За один год крепкий сорокалетний мужчина превратился в инвалида. Витя говорил матери: «Я теперь работник…»
Сначала немцы отобрали у Дмитриевых корову. А корова в Гжатском районе – основа благополучия – молочные швицкие коровы. В доме поселился немецкий фельдфебель. Я его не видел, но Елена говорит, что он был маленький, чернявый. Как только Елена выходила из дома, фельдфебель начинал «развлекаться» – бил по щекам больного Сергея. Он бил его часами: эта «забава» не приедалась ему. Вите было 14 лет, на вид ему нельзя было дать десяти. Мальчик шептал матери: «Снова он папку бил. Хоть бы партизаны пришли».
Как– то ворвались в дом два пьяных немецких зенитчика: «Матка, идем спать». Елена сурово сказала: «Сколько тебе лет?» Один показал на пальцах -20. «И не стыдно тебе? Ведь я старая женщина. Мне 42 года». Он засмеялся: «Ганц эгаль». Они стали сдирать платье с Дмитриевой. Она вырвалась и полуголая выбежала на мороз.
В феврале 1943 года настали грозные дни. Прежде всего немцы угнали скот. В Гжатске было свыше 2500 коров, осталось 19. Елена думала о другом: вдруг уведут Витю?
Слух о том, что немцы угоняют детей, облетел город. Металась вдова Столярова. Ее муж работал на почте. Его знали все. Немцы посадили Столярова в концлагерь, там он умер от сыпняка. У Столяровых был один ребенок – тринадцатилетний мальчик. Столярова пыталась его спрятать. Она его зарыла в снег, потом испугалась: вдруг замерзнет? Покрыла сеном, но соседка рассказала, что на Московской улице немцы втыкают штыки в стога. Наконец немцы пришли и забрали мальчика Столяровой.
У Качевской забрали всех четверых – двух мальчиков, двух девочек. У Петровой взяли сына Митю. У Беспаловой угнали четырнадцатилетнюю дочку. У Казакиной угнали Колю – 16 лет, Юру – 14 лет. Елена видела, как приближается беда.
А фельдфебель укладывал в свой чемодан добро Дмитриевых и на прощание бил по щекам больного Сергея. Наконец пришли солдаты и взяли Витю. Елена его обнимала, а они подгоняли мальчика прикладами.
Потом гитлеровцы начали жечь дома. Они заходили в дом, выбивали стекла, обливали горючим стены, и дом вспыхивал, как спичка. Горели дома с тюфяками, хранившими отпечаток человеческого тела, с дедовской мебелью, с игрушками, с семейными фотографиями. За домом дом, за улицей улица.
Воздух потрясали раскаты. Это взрывали большие здания. Взорвали школу, где учились Оленевы. Взорвали клуб, где Иван показывал фильмы. Взорвали церковь с зелеными куполами, где когда-то венчалась Феодосия. Взорвали больницу, где лежала Лида. Жгли и взрывали Гжатск.
Они жгли за деревней деревню. Они пришли в Мишино. Там жила жена Ивана с детьми. Ее дом сожгли. Сожгли все село. Женщина и дети остались в яме среди снега. Они грелись у головешек своего дома.
А на запад плелись дети-рабы. Гитлеровцы их подгоняли плетками, среди этих рабов были двенадцатилетние.
Старший лейтенант Петр Казакин вошел первым в Гжатск. Он кинулся к жене: «Катя…» – и сразу понял: его двух сыновей немцы угнали. «Как им отомстить?» – спрашивает Казакин, и я не знаю, что ему ответить.
Вдова Столярова теперь работает на почте. Ее спрашивают: «Нет ли писем?» Качевская, у которой забрали всех детей, ждет письма от мужа: он полтора года тому назад ушел на войну. А Столярова не ждет писем: муж умер, сына угнали. Если придет письмо от Ивана Оленева, куда его доставят? Михаил пропал без вести. Шуру немцы расстреляли. Родителей и Лиду угнали в Германию. А там, где был дом, – мусор.
В селе Бородулино умирает столетний Павлов. Старик тяжело умирает. Кажется, что он все время думает. Где Шура? Убили. Витю и Лиду угнали. У детей Ивана нет крыши. А сын Михаил, наверно, погиб. Разбита семья. Разорено гнездо. И старик, умирая, видит горькое горе, пепел, слезы, пустыню.
6 апреля 1943 года (Судьба Европы)
Недавно мне пришлось побывать в Гжатском районе – освобожденном от немцев. Слово «пустыня» вряд ли может передать то зрелище катаклизма, величайшей катастрофы, которое встает перед глазами, как только попадаешь в места, где захватчики хозяйничали семнадцать месяцев. Гжатский район был богатым и веселым. Оттуда шло в Москву молоко балованных швицких коров. Оттуда приезжали в столицу искусные портные и швейники. Причудливо в нашей стране старое переплеталось с новым. Рядом с древним Казанским собором, рядом с маленькими деревянными домиками в Гжатске высились просторные, пронизанные светом здания – школа, клуб, больница. Были в Гжатске и переулочки с непролазной грязью, и подростки, мечтавшие о полете в стратосферу.
Теперь вместо города – уродливое нагромождение железных брусков, обгоревшего камня, щебня. Гжатск значится на карте, он значится и в сердцах, но его больше нет на земле. По последнему слову техники вандалы нашего века уничтожали город. Они взрывали толом ясли и церкви. Врываясь в дома, они выбивали оконные стекла, обливали стены горючим и радовались «бенгальскому огню»: Гжатск горел. В районе половина деревень сожжена, уцелели только те деревни, из которых немцы удирали впопыхах под натиском Красной Армии. Мало и людей осталось. Шесть тысяч русских немцы угнали из Гжатска в Германию. Встают видения темной древности, начала человеческой истории. Напрасно матери пытались спрятать своих детей от гитлеровских работорговцев. Матери зарывали мальчишек в снег – и те замерзали. Матери прикрывали девочек сеном, но немцы штыками прокалывали стога. По улицам города шли малыши 12-13 лет, подгоняемые прикладами: это немцы гнали детей в рабство. Порой угоняли целые семьи, целые села. Район опустел. Голод, сыпняк, дифтерит и застенки гестапо сделали свое дело.
Но, может быть, еще страшнее этого физического истребления моральное подавление человеческого достоинства. Когда попадаешь в город, освобожденный от немцев, пугают не только развалины и трупы, пугают и человеческие глаза, как бы отгоревшие. Люди говорят шепотом, вздрагивают при звуке шагов, шарахаются от тени. Я видел это в марте в Гжатске. Я видел это и в феврале в Курске.
В начале войны газеты говорили о том, что несет миру фашизм. Теперь мы видим, что фашизм принес захваченным немцами областям. Слово «смерть» слишком входит в жизнь, оно здесь не на месте, лучше сказать «небытие», «зияние», и права старая крестьянка, которая скорбно сказала мне о фашистах. «Хуже смерти».
Когда глядишь на запад, видишь странные картины, где-то далеко есть такой же Курск и такой же Гжатск. Их называют сначала близкими нам именами – Минском или Черниговом. Потом имена меняются. Вот это пепелище было французским городом Аррасом. Вот эти расстрелянные вывезены из чешского города Табора. Крайний западный район Бретани, мыс Европы, обращенный к Новому Свету, французы называют латинским словом «финистер» – «конец земли».
От Гжатска до Бреста, до Финистера – та же ночь, то же запустенье, те же картины издевательства, умерщвления, варварства. «Конец земли» стал концом великой европейской ночи.
Мы страстно любим свою землю, свои истоки, свою историю. Мы гордимся нашей славянской Элладой – Киевской Русью, стройностью Софии, плачем Ярославны, классической ясностью Андрея Рублева, гражданскими вольностями Новгорода, ратными делами Александра Невского и Дмитрия Донского. Но никогда мы не отделяли нашей культуры от европейской. Мы связаны с ней не проводами, не рельсами, но кровеносными сосудами, извилинами мозга. Мы брали у других, и мы давали другим. Только неучи могут представлять Россию как дитя, двести лет тому назад допущенное в школу культуры. Заветы древней Греции, этой колыбели европейского сознания, пришли к нам не через Рим завоевателей и законников, но через Византию философов и подвижников. Достаточно сравнить живопись Андрея Рублева с фресками мастеров раннего Возрождения – Чимабуэ или Джотто, чтобы увидеть, насколько ближе к духу Эллады, к ее ясности и веселью старое русское.
Когда в XIX веке Россия поразила мир высотами мысли и слова, это не было рождением, это было зрелостью. Кто скажет, что больше волновало Пушкина – стихи Байрона или сказки няни Арины? Передовые умы России в прошлом столетии жили страстями Европы, ее надеждами, ее горем. Они внесли в европейское сознание русскую страстность, правдивость, человечность. В «неистовстве» Белинского, подвижничестве Чернышевского, в героизме русских революционеров видны не только дары Запада, наследие гуманизма и французской революции, в них чувствуется и то искание правды, которое было историческим путем русской культуры: «взыскующие града». Вот почему Толстой и Достоевский, Чайковский и Мусоргский обогатили любого культурного европейца, углубили и расширили само понятие Европы. Вот почему Ленин остается и образцом государственного гения России и вершиной всеевропейской и общечеловеческой мысли.
Мы понимаем горе Франции или Норвегии не только потому, что у нас есть Гжатск, Харьков, Минск, но и потому, что нам бесконечно дорога судьба европейской культуры.
Мы понимаем горе Франции, потому что Толстой для нас связан со Стендалем, потому что разрушенные немцами дворцы города Пушкина – братья Версаля, потому что декабристы вдохновлялись «Декларацией прав человека и гражданина», потому что Тургенев жил в Буживале и потому что Рудин умер на парижской баррикаде. Мы понимаем горе Норвегии, потому что один из лучших театров мира, МХАТ, глубоко пережил исступление старого Ибсена, потому что наши исследователи шли по тем же путям, что и «Фрам» Нансена. На трагедию Европы мы смотрим не со стороны – это трагедия всей нашей культуры.






