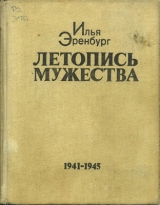
Текст книги "Летопись мужества"
Автор книги: Илья Эренбург
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Несомненно, Гитлер рассчитывает на танки. Одна бомбардировка заводов Рено, да еще в марте, не помешала ему создать солидные танковые резервы. Но вряд ли его танковые удары смогут быть длительными. За последнее время немецкое командование упорно говорит о переходе на конную тягу. Один немецкий генерал в своем приказе умилительно восхваляет русскую лошадь: «Это умное и терпеливое животное». Откуда такая любовь к лошадям? Очевидно, у немцев плохо с горючим. Они много говорят о Баку, но слова не приводят в движение моторов…
Мы не пренебрегаем лошадками. В распутицу лошадь вернее мотора. Мы не пренебрегаем и танками. На Урале эту зиму изготовляли не зажигалки и не кастрюли. Через месяц-два мы сможем говорить о первых весенних результатах. Наш народ спокойно ожидает весны. Пережив тяжелую осень, мы больше не боимся испытаний. О том, что мы одни в бою, наши бойцы говорят не с горечью, но с изумлением. Если хоронить Гитлера можно в одиночку, бить его предпочтительно вместе. Но нашим бойцам не до дипломатии, они заняты своим делом: они истребляют фашистов.
Велики жертвы России. На запад от Москвы нет больше человеческого жилья. На восток от Москвы нет семьи; где не ждали бы с утра до ночи почтальонов. Враг разрушает наши прекрасные города. Нестерпимы для русского сердца испытания Ленинграда. Мы видим оскверненные врагом священные могилы, видим изуродованных гитлеровскими садистами детей. Мы пошли на все, чтобы победить. Люди работают по 16 часов в сутки. Люди делятся куском хлеба с беженцами. Суровая весна у России. Великая весна: народ хочет жить, и он будет жить – такова наша присяга. Я закончу народной присказкой – в ней ключ к нашему сопротивлению:
Кто смерти не боится -
невелика птица.
А вот кто жизнь полюбил,
тот страх загубил.
6 апреля 1942 года
Большой город – это лес. В нем все водится. В нем можно заблудиться. Я знал Москву тихой и сонной. Москву моего детства, с конками, с бубенчиками троек, с мечтательными студентами в пивных, которые цитировали Ибсена и Метерлинка. Я знал Москву первых лет революции, романтическую и нищую. Люди шли по мостовой, тащили за собой салазки. Не было трамваев, не было дров, не было хлеба. А над снежными сугробами горело из ярких электрических лампочек три слова: «Дети – цветы жизни». Я знал Москву стройки, когда дома передвигались, когда весь город пахнул штукатуркой, когда путешествовали улицы – придешь через неделю и не узнаешь площади, где прожил годы. Теперь я живу в суровой военной Москве.
Враг был рядом. Мы все об этом помним. А на окраинах города еще сохранились баррикады и рвы. По мостовой еще шагают патрули. Враг еще в 170 километрах от столицы. Но большой город – это большой город, в нем водится все, и вчера в книжном магазине на Кузнецком мосту я видел чудака, который улыбался, как победитель: он нашел первое французское издание романа Бальзака «Беатриса».
Солнце припекает, и москвичи отогреваются после суровой зимы. В центре города уже сухо. Дети играют в скверах. В зоологическом парке резвятся молоденькие медвежата. Любовно смотрят москвичи на проходящих по улицам бойцов – весна, русская весна не может стать весной Гитлера… В каждой семье утром ждут почтальона. В каждой семье теперь есть новое божество – то доброе, то злое – диск хриплого репродуктора. В каждой семье часть жизни там, на западе, часть жизни, да и вся жизнь. Москва спокойна, но за этим спокойствием скрыты гнев, надежда, тревога за близких, высокий накал самопожертвования.
Каждую ночь я еду по пустым улицам из редакции домой. Комендантские патрули останавливают редких прохожих. Затемненный город загадочен, и напряженно шофер всматривается в тьму. А в небе россыпь звезд… Иногда небо оживает: в нем огни разрывов, сигнальные ракеты. В домах звенят стекла от рева зениток. Люди просыпаются и поворачиваются на другой бок. В Москве обстреляны даже воробьи. Вот только грачи волнуются: они недавно прилетели, они не пережили московской осени, им «юнкерсы» внове. А москвичи привыкли: у меня есть приятель Ваня, ему в июле исполнится один год, но он уже пережил добрую сотню воздушных тревог.
Несколько дней тому назад в Колонном зале исполняли Седьмую симфонию Шостаковича. Зал, потрясенный, слушал патетический финал. А на улице выли сирены. Их вой не проник в зал. Публике объявили о тревоге, когда концерт кончился, и люди не торопились в убежища, они стояли, приветствуя Шостаковича, – они еще были во власти звуков.
Позавчера была необычная ночь: по темным улицам шли женщины с куличами. Разрешено было ходить всю ночь: в церквах служили пасхальную всенощную. Было много верующих. Я с трудом проник в старую церковь. После ночной темноты свечи казались нестерпимо яркими, а певчие пели: «И смертью смерть поправ…»
Большие заводы еще осенью уехали из Москвы. Но война диковинное хозяйство. Чего только не требует фронт. И москвичи работают день и ночь. Еще не рассвело, а уже выходят первые трамваи. Метро везет рабочих к станкам, а ночная смена возвращается домой. Многие спят на заводах. Один инженер рассказал, что с 22 июня он забыл про жизнь – некогда даже прочитать газету. «Отдохну потом», – говорит он. Москва смотрит на запад.
Большой город – лес. В цветочном магазине на Петровке продают первые весенние цветы – цикламены. А в птичьем магазине получена первая партия певчих птиц. Окна магазинов забиты щитами. Вокруг мешки с песком. А в магазине девушка покупает вазу для цветов.
В огромный госпиталь приехали актеры. На певицу надевают больничный халат. Она улыбается: она привыкла переодеваться. Пять минут спустя она поет арию из «Лакмэ». Врач вздыхает: ему не удастся дослушать – привезли новую партию раненых.
Очередь: донорки. Кто не отдаст своей крови раненому бойцу!
Очередь: вечерняя газета. С жадностью раскрывают листы. Сводка: «Не произошло ничего существенного». За этими сухими словами – ожесточенные бои, атаки и контратаки, тысячи подвигов.
Сурово живет Москва. Лишения ее не пугают. Этот город много пережил на своем веку. В его плане нет архитектурной стройности. В его облике нет единства эпохи. Город горел, город менялся. Город казался сумбурным, путаным, пестрым. Но Москва всегда славилась своим большим сердцем, щедростью, умением пережить любое горе. Что значат все лишения перед тоской ноября?…
На концерте Шостаковича я видел людей приподнятых, скажу точнее – торжественных. Редко когда искусство так сливалось с жизнью каждого. А это настоящее искусство, очищенное от злободневности, от иллюстративности. Есть в первой части невыносимая мелодия – пошлая, замысловатая и, однако же, убогая. Она врывается в мир разнородных звуков вместе с дробью барабана, растет, захватывает все – так что у слушателей захватывает дух – и потом гибнет, побежденная иной гармонией. На глазах у фронтовиков были слезы. А маленький кудесник Шостакович растерянно оглядывался, точно он сам не понимал, из каких темнот военной ночи он высек свои звуки.
В соседнем зале помещается выставка «В защиту детей». Нестерпимо глядеть на фотографии изуродованных детей. Здесь Дантов ад, его последнее кольцо. Потом вдруг выходишь на свет божий – это заговорила Овчинникова, московская работница, сердечная женщина, которая взяла девочку-сироту (ее родители были убиты немцами в подмосковном селе). Овчинникова рассказывает, как маленькая Надя постепенно забывает о пережитом. Детям дано забывать. Это великое счастье.
А Москва – не ребенок. Москва – старый город. Москва все помнит. Каждый раз становится больно, когда проходишь мимо старого университета, искалеченного немцами. Я бывал в этих аудиториях давно – тридцать лет тому назад…
В редакции газеты три девушки расшифровывают телеграммы военных корреспондентов: Крым, Донбасс, Мурманск. «Уничтожен батальон противника… Нанесены большие потери». Поэт Симонов – военный корреспондент. Он только что вернулся с фронта. Он побывал зимой и в Мурманске и в Керчи, плавал на подводной лодке к берегам Румынии, обморозил лицо в самолете. Он читает мне стихи о маленькой девочке, которую вынесли из горящего дома два кавалериста. Это стихи о том, как через двадцать лет в глазах женщины скажется испуг, отсвет пожара, тень войны, и она сама не поймет, почему она загрустила. Она ведь все позабыла – детям дано забывать.
А Москва – не ребенок. Москва – не притворщица. Издавна говорят: «Москва слезам не верит». Москва верит только делу – суровому делу. Москва верит своим защитникам.
В большой типографии наборщики набирают новые книги. Скоро выйдут новые издания Стендаля и Киплинга, Чосера и Мопассана, Гейне и Гашека, Колдуэлла и Уэллса, Брехта и Ромена Роллана. Тиражи по 50, по 100 тысяч – люди читают, и в подсумке красноармейца часто можно увидеть томик стихов. А больше всего читает Москва «Войну и мир». Новое издание (сто тысяч) разошлось за три дня. Каждый хочет оглянуться назад, чтобы понять себя и чтобы увидеть будущее.
Часы на кремлевской башне вызванивают четверти. Сейчас глубокая ночь. Далеко где-то пролаяли зенитки, и снова тихо. Как весит время в ночи войны! Кажется, оно из железа: каждая минута гнет спину. Но вот новая сводка: «Трофеи Западного фронта». Шесть часов утра. «Освобождено 132 населенных пункта». Весеннее солнце. Москва просыпается и жадно слушает бесстрастный голос диктора.
14 апреля 1942 года
Снег потемнел на лесных полянах. Идешь и проваливаешься в маленькое озеро. Дороги порыжели, потекли, как речки. Прилетели грачи. Зиму они провели далеко на юге и успели отвыкнуть от шума войны. При орудийных залпах они испуганно мечутся. Вот и весна…
На небе нет распутицы, и вечером на аэродроме – оживление весеннего сезона. Отсюда улетают бомбардировщики далеко на запад: бомбят аэродромы, вокзалы, мосты.
А на земле – грязь, ругань шоферов и ожидание событий. Бои не затихают. Инициатива по-прежнему в наших руках.
Вот идут на восток грузовики с валенками. Пожалуй, этот груз убедительней, чем грачи, говорит о приходе весны. Я гляжу на валенки с нежностью: в январе они не подвели. Сердце человека может гореть священным огнем, но для победы важна еще хозяйская смекалка. Слава тем, кто вовремя подумал о валенках, о ватных штанах, об ушанках. А теперь да здравствуют сапоги!
Сапоги хорошие – боец шагает по лужайке, ставшей болотом, и смеется: не подведут и сапоги.
Ходить в сапогах легче, чем в валенках. Легче идти по сухой земле, чем по глубокому снегу. Это понимают не только немцы… Я не стану сейчас гадать, как развернутся военные операции в мае и в июне, скажу: хоть медленно, но мы продвигаемся вперед – то там, то здесь. Причем наши атаки трудно объяснить упорством зимы: если в Карелии сейчас снежные метели, то в Крыму уже распускаются первые розы.
Когда в декабре немцы побежали от Ельца и от Калинина, что-то в них надломилось. Гитлер нашелся, он внушил своим солдатам, что горе от климата, от зимы, от снега. Весенней мечтой Гитлер попытался склеить сердце Германии. Но стоит первому немецкому батальону побежать не по снегу, а по сухой земле, и трещина станет непоправимой.
Майские и июньские бои будут боями не столько за тот или иной город, сколько за самомнение германской армии, за ее престиж, за ее дух.
Мы знаем, что Гитлер подготовил большие резервы. Он преспокойно снял дивизии с побережья Атлантики. Об этом знаем мы. Надо надеяться, что об этом знают и наши друзья – англичане.
Каждый поймет, что мы не склонны говорить о наших резервах – при одном слове «резервы» любая стена обрастает ушами. О наших частях, созданных зимой, расскажут летние сводки. Но можно ли не улыбнуться, слушая, как берлинское радио уверяет, что в новых русских дивизиях «только подростки 16 лет и старики от 60 до 70 лет»? Немцы стали, видимо, невзыскательными…
Я побывал недавно в небольшом городке, где стоит одна из наших резервных частей. Я увидел крепких солдат в возрасте от 25 до 35 лет. Это ярославские крестьяне или рабочие ивановского промышленного района. Все они служили в Красной Армии, хорошо стреляют, владеют пулеметом.
Половина офицеров уже побывала на фронте. Это раненые или больные, вернувшиеся из отпуска. Другие еще не воевали. Среди них имеются и кадровые офицеры и резервные. Они обладают солидными военными знаниями.
Я помню, с каким недоверием относились еще недавно западноевропейские авторы к нашему старшему лейтенанту или майору. Внешность часто обманывает (в особенности тех, кто хочет быть обманутым). Советская интеллигенция в значительной части вышла из сельской среды. Это сказывается на типе лица, на выговоре, на манерах. В наших школах наибольшее внимание уделялось знанию. Быть может, средний наш интеллигент, а следовательно, и средний наш офицер говорит и пишет без того блеска, который присущ среднему французскому интеллигенту. Но ведь блеск часто помогает скрыть незнание, даже невежество. Я разговаривал с сотнями наших командиров. Они не только толково проанализируют операцию на Сингапуре. Они знают и подоплеку римского процесса. Они много читали, да и продолжают читать. Они спорят о Шостаковиче, о Хемингуэе, о театральных постановках. А в походе они показывают недюжинную подготовку.
Младший командный состав этой резервной части превосходный. Много солдат-фронтовиков, прошедших трехмесячные курсы. Вот старшина. Это токарь. Ему 22 года. Он участвовал в осенних боях. Бойцы все старше его, но он сумел внушить им уважение: он знает, как бороться с немецкими танками, как защититься от минометного огня, как ходить в разведку.
У политработников солидный стаж. Это в недалеком прошлом секретари райкомов, активные советские работники, люди, привыкшие убеждать, организовывать, приободрять. Политработники прошли специальные курсы: они изучали не только социологию, международную политику, основы философии, но и военное дело. Батальонный комиссар знает то, что знает командир батальона. Он может разобраться в обстановке боя, дать веские указания. Это не штатский политик, приставленный к военному специалисту, это командир двойной закалки.
Экипированы резервисты превосходно. Каждый получил сапоги или крепкие ботинки с обмотками, штаны, гимнастерку, белье, шинель. Шинель теплая, не мнется, не страдает от дождя.
Я уже сказал, что среди резервистов, с которыми я встретился, много крестьян. Разговаривая с ними, видишь, какая перемена произошла в сознании русского народа.
Один английский офицер, сражавшийся в Ливии против войск Роммеля, рассказал мне: «Война там носит скорее спортивный характер». Трудно что-либо сказать против спорта. Но я не представляю себе человека с психологией футболиста, который способен одолеть гитлеровского солдата.
Две силы движут германской армией. Первая – это материальная заинтересованность каждого солдата в войне. Летом 1940 года немцы в Париже часто расспрашивали меня про Англию. Это были «хозяйственные» вопросы: какие в Лондоне рестораны или хорошо ли носится шотландское сукно. Они считали, что война для них способ прокормить себя и свою семью. Они знают, что значит для какого-нибудь Касселя или Иены украинская пшеница. Они радуются, посылая домой «трофейные» посылки. Второй силой гитлеровской армии является страх, круговая порука людей, связанных общим преступлением. Я вспоминаю немецкого ефрейтора в сожженной деревне, который сказал мне: «Нельзя ли удвоить конвой – я боюсь ваших женщин…»
Голод и ужас – трудно противопоставить этому спортивный дух или абстрактные разговоры о преимуществе либеральной концепции перед тоталитарной.
Прошлым летом война была для русского крестьянина просто войной, теперь она стала его кровным делом. Фашистские зверства летом жили на газетных столбцах, зимой они перекочевали в частные письма. О дикости фашистов теперь говорят не ораторы, но очевидцы, крестьяне из освобожденных районов. И в русском народе проснулась ненависть к захватчикам. Вот основное отличье весны от осени и тех резервистов, с которыми я недавно беседовал, от резервистов, уходивших на запад в июле или августе.
Прошлым летом еще жил миф о непобедимости немецкой армии. Что предшествовало походу Гитлера на Минск, на Киев, на Смоленск? Воспоминание о Компьене, захват Югославии и Греции, Крит. А теперь в сознании каждого резервиста живы другие имена: Ростов, Калинин, Можайск, Керчь. Теперь каждый русский уверен в конечной победе, и если он гадает о чем-либо, то только о том, когда придет эта победа.
Нам незачем скрывать те жертвы, на которые пошла наша страна. Вся Россия теперь в солдатских шинелях. Много разбитых семей, много человеческого горя. Война для нас не справки о потопленных регистровых брутто-тоннах, не военные стычки в отдаленных колониях, не замена белого хлеба серым. Война для нас трагедия, которая разыгрывается на нашей земле. Это судьба Ленинграда, это развалины Днепрогэса, это тысячи сел, сожженных захватчиками, это трудная жизнь миллионов эвакуированных. Мы не зазнаемся и не прибедняемся. Мы сдержанно говорим: мы теперь воюем одни против общего врага. Час тому назад боец мне задал все тот же вопрос – его теперь слышишь повсюду: «А союзники?…»
16 апреля 1942 года
Военные корреспонденты немецких газет всегда находят несколько «теплых» строк для русской артиллерии и для комиссаров. Известна точность огня нашей артиллерии. Но почему немцев так возмущают комиссары? Обычно гитлеровцы уверяют, что «комиссары насильно гонят солдат вперед…». Это плохая выдумка: даже наивные немки понимают, что насильно народ не заставишь воевать. Немцы, кроме того, знают, что комиссары идут не позади, а впереди бойцов. Гитлеровцам ненавистны комиссары, потому что они как бы олицетворяют душу нашего народа.
Институт военных комиссаров свидетельствует о важности человеческого начала. Командир вырабатывает план атаки. Он живет в мире огневых точек, простреливаемых дорог и блиндажей. Для него холмик, речка, овраг – нотные знаки величественной партитуры. Карта с синими кружками и красными стрелами говорит ему о самом сокровенном. Он знает, что завтра в восемнадцать ноль-ноль первая и третья рота должны занять березовую рощу и выйти к скрещению двух проселочных дорог. План обсуждается в штабе батальона: в маленьком блиндаже при тусклом свете коптилки. И здесь вмешивается комиссар: «Вместо первой роты нужно пустить вторую…» Для комиссара бойцы – живые люди. Он помнит их лица. Он слышит их разговоры. Он знает лихорадку смелости и малодушия. Он подготавливает мужество и стойкость, как интендант подготавливает склады продовольствия.
«Человек решает все» – с этой мыслью мы вышли против германской мощной армии. Мы сохранили веру в человека, когда танковые колонны Гитлера двигались на восток. Мы думали о нашей пехоте, которая задерживает продвижение моторизованных частей противника, о наших рабочих, которые на Урале изготавливают танки, о наших будущих танкистах. И роль комиссаров в Красной Армии определяется советским подходом к понятию человека.
Пройдите в роту, стоящую на передовых позициях. Вот в блиндаже заместитель политрука читает бойцам статью из «Красной звезды». Еще недавно этот заместитель политрука был простым солдатом. Политрук его отметил: он был сообразительней и развитее товарищей. Это комсомолец, слесарь. Он много читал, задумывался над книгами, над людьми, над жизнью. Он не только прочитает статью, он сможет связать ее с окружающей действительностью. Если речь идет о моральном лице гитлеровской армии, он напомнит о том, что видели сами бойцы. Если статья посвящена ночной разведке, он ее оживит рассказом о недавнем подвиге младшего лейтенанта того же батальона. Он ответит на все вопросы. А вопросов немало: «Много ли у Гитлера австрийских солдат?… Какие у немцев новые пулеметы?… Правда ли, что Петэн продался немцам?… Почему англичане не воюют по-настоящему?… Что делают американцы со своими самолетами?…»
Заместитель политрука несколько месяцев спустя станет младшим политруком. Он будет комиссаром роты. Часть политруков прошла трехмесячные курсы, другим боевой опыт заменил лекции. Конечно, командир батальона разбирается лучше в чисто военных проблемах, нежели комиссар батальона, но и комиссар – военный человек, он может свободно командовать ротой, а в случае необходимости заменить командира батальона. Комиссар полка может командовать батальоном.
Редко увидишь комиссара на командном пункте. Обычно он ведет в бой самую слабую единицу – роту или батальон. Этим объясняются большие потери среди комиссаров, – комиссары не только говорят о военной доблести, они ее показывают на своем примере. Обычно в части имя комиссара – символ отваги.
В одной из танковых бригад я встретился с комиссаром батальона Медянцевым. Он много мне рассказывал о храбрости бойцов своего батальона. О себе он молчал. Но бойцы мне рассказали, как комиссар недавно спас один танк: «Подъем был. Танк соскользнул с дороги. Здесь левая гусеница свалилась. Машина и застряла. А положение было скверное. Немцы стреляют по танку: у них два орудия там были. А кругом немецкие автоматчики. Комиссар тут как тут. Говорит: «Надо гусеницу нацепить и вытащить машину». Сам с нами работал, прямо под пулями. А полчаса спустя танк уже был в бою…»
Конечно, не дело комиссара дублировать командира. Но я уже говорил, что комиссары – люди с военным образованием, многие из них обладают и военными талантами. Встретился я с комиссаром танковой роты Будниковым. Было это в январе. Наши части наступали. Предстояло овладеть сильным узлом сопротивления. К селу вела одна дорога, и она была сильно укреплена противником. Комиссар предложил идти в обход по снегу, проверил местность, доказал осуществимость маневра. И маневр действительно удался. Наши потери были ничтожны, а немцы оставили две роты убитыми и пленными.
Сущность работы комиссара – это ее конкретность. Перед лицом смерти неуместны абстрактные разговоры или сухие доклады. Вот шли в январе бои за Можайск. Полковой комиссар при мне беседовал с бойцами. Он рассказывал им о славном прошлом Можайска. Он говорил о том, как в Можайске немцы мучают русских людей. Когда наши бойцы вошли в Можайск, они уже знали, что увидят на одной из площадей виселицу…
Человечность института комиссаров связана с человечностью нашей армии. Когда я разговариваю с немецкими пленными, я вижу перед собой не людей, а усовершенствованные автоматы. Они отучены от мысли, стерилизованы от чувств. Они еще повинуются своим командирам – это автоматизм поступков. Но стоит одному из них задуматься, и он погиб для германской армии: он готов сдаться в плен или дезертировать. Взвешивая накануне майских боев шансы сторон, нужно помнить, что никакое вооружение не может заменить душу армии.
20 апреля 1942 года
Я видел немецкий танк, выкрашенный в зеленый цвет. Его подбили наши в начале апреля, тогда еще лежал снег, и немецкий танк напоминал франта, который преждевременно сменил одежду. Но не франтовство – нужда выгнала в холод весенние танки и весенние дивизии Гитлера. А теперь снег сошел. Дороги потекли. Они покрыты ветками, едешь и подпрыгиваешь: автомобиль будто скачет галопом. Распутица на несколько недель замедлила военные операции. Кое-где – в Карелии, в районе Старой Руссы, на Брянском фронте – продолжаются атаки наших частей, но это отдельные операции. Перед майскими битвами наступило грозное затишье. А по Десне, по Днепру проходят последние льдины. На полях – разбитые немецкие машины, трупы людей и лошадей, шлемы, неразорвавшиеся снаряды – снег сошел, открылась угрюмая картина военной весны.
Никогда столько не говорили о весне, как в этом году. Гитлер колдовал этим словом. Он хотел приободрить немецкий народ. И вот весна наступила. Две армии готовятся к бою. Тем временем Гитлер начинает лихорадочно оглядываться назад. Что его смущает? Добротные фугаски томми? Кампания в Америке и в Англии за второй фронт? Растущее возмущение порабощенных народов? Так или иначе, Гитлер начал весну походом… на Виши. Для этого ему не пришлось израсходовать много горючего. Несколько баков на поездки Лаваля и Абеца. Английское радио передает, что фон Рундштедт перекочевал с Украины в Париж. Это, однако, только путешествие генерала. По дороге фон Рундштедт должен был встретиться с немецкими эшелонами: Гитлер продолжает перебрасывать дивизии из Франции, Бельгии, Норвегии в Россию. Видимо, ни RAF, ни статьи в американской печати, ни гнев безоружных французов не отразились на немецкой стратегии.
Перед весенними битвами Гитлер хочет приободрить своих солдат, потерпевших зимой поражение. Он пускает слухи о новом «колоссальном» вооружении немцев. Он распространяет вздорные сообщения о слабости Красной Армии. Вряд ли солдаты 16-й армии обрадуются, услыхав по радио рассказы Берлина о том, что в русских полках теперь только шестидесятилетние старики и шестнадцатилетние подростки…
Сейчас не время говорить о наших резервах. О них расскажут летние битвы. Я побывал в одной из резервных частей, видел молодых, крепких бойцов, хорошо обученных и хорошо экипированных. Настроение в резервных частях прекрасное: все понимают, что враг еще очень силен, но все понимают также, что враг будет разбит. Прошлым летом люди помнили о Париже, о Дюнкерке, о Крите. Теперь они помнят о Калинине, о Калуге, о Можайске, о Ростове. Ненависть к захватчикам воодушевляет резервистов. Прошлым летом Германия представлялась русскому крестьянину государством, фашизм еще мог сойти за газетное слово. Теперь фашизм стал реальностью – сожженными избами, трупами детей, горем народа. Между Нью-Йорком и Филиппинами не только тысячи миль, между ними – мир. Сибиряк чувствует, что под Смоленском он защищает свою землю и своих детей.
Наши заводы хорошо работали эту зиму. Не стоит напоминать, в каких тяжелых условиях протекала эта работа. Миллионы эвакуированных показали себя героями. Есть у нас танки. Есть самолеты. Наши друзья часто спрашивают: «А как показали себя американские истребители? Английские танки?» Легко понять чувства американского рабочего или английского моряка, которые хотят проверить, не напрасно ли пропал их труд. Отвечу сразу: не напрасно. Я видел немецкие бомбардировщики, сбитые американскими истребителями. Я видел русские деревни, в освобождении которых участвовали английские «матильды». Но правда всего дороже, и друзьям говорят только правду: у нас фронт не в сто километров, и на нашем огромном фронте английские и американские истребители или танки – это отдельные эпизоды. Достаточно вспомнить, что все заводы Европы работают на Гитлера. И Гитлер самолеты не коллекционирует. Гитлер не копит свои танки – его самолеты и танки не во Франции, не в Норвегии, они даже не в Ливии – они перед нами и над нами.
О втором фронте говорят у нас повсюду – в блиндажах и в поездах, в городах и в деревнях, женщины и бойцы, командиры и рабочие. Мы не осуждаем, не спорим, мы просто хотим понять. Мы читаем цифры ежемесячной продукции авиазаводов США и улыбаемся: мы горды за наших друзей. И тотчас в голове рождается мысль: какой будет судьба этих самолетов?
Мы говорим о втором фронте как о судьбе наших друзей. Мы знаем, что теперь мы воюем одни против общего врага. Вот уже триста дней, как война опустошает наши поля, вот уж триста ночей, как сирены прорезают наши ночи. Мы пошли на все жертвы. Мы не играем в покер, мы воюем. Судьба Ленинграда, его истерзанные дворцы, его погибшие дети – это символ русского мужества и русской жертвенности. Накануне весны мы говорим о втором фронте как о военной мудрости и как о человеческой морали. Так мать, у которой все дети на фронте, глядит на другую – ее дети дома…
26 апреля 1942 года
Недавно наши бойцы захватили два мешка с немецкой полевой почтой: письма на фронт и письма с фронта. Я просидел ночь над листками, покрытыми готическими буквами. Не скажу, чтобы это было увлекательным чтением. Нам теперь приходится все время заниматься душевным миром гитлеровцев. Это примитивный и скучный мир. Лучше разводить кроликов или наблюдать за барсуками. Немец выпуска 1942 года однообразен, заранее знаешь все, что он может написать своей невесте и невеста напишет ему.
Все же немецкие письма назидательное чтение. Если они не открывают нам ничего нового в психологии, они помогают в оценке военного положения. Немецкая армия развинчена. Солдаты начали думать, а для гитлеровских солдат – это микроб смертельного заболевания. Из десяти писем восемь полны жалоб, шесть дышат сомнением, три отмечены отчаяньем. Конечно, эта статистика случайна: что значат триста писем по сравнению с миллионами солдат? Но это не первые письма, которые я читаю. Прибавьте сотни дневников, рассказы пленных, секретные немецкие сводки. Немецкий солдат усомнился в победе – таково главное завоевание зимней кампании 1941/1942-го.
Однако во многих письмах еще чувствуется надежда на весну. «Весной начнется большое наступление», «Когда подсохнет, мы двинемся вперед», «Весной будет большая игра – или выиграем, или продуемся». Немцы надеются не столько на майское солнце, сколько на майские танки. Офицеры вместо «мая» часто ставят «июнь» или более туманно – «лето». Так или иначе все говорят о готовящемся наступлении.
Один штабной офицер философствует: «Основной удар, по-видимому, определяется проблемой нефти. Кроме того, для фюрера операции в России связаны с мыслями о победе на всех фронтах, и я не удивлюсь, если мы здесь должны расчищать дорогу к последним восточным бастионам Англии…» Другой офицер в письме к другу, находящемуся в Париже, мечтает: «Если нам удастся весной занять политические центры России, мы сможем повернуться на запад, и тогда мы будем справлять рождество в Германии – с английскими плюм-пудингами…»
Гитлер все надежды возлагает на моторы. Танки и авиация, авиация и танки – вот его козыри. Германия не спала зиму. Она готовилась к тем боям, которые, по всей видимости, будут решающими. Конечно, не спали и русские. Предстоят большие танковые сражения, и небо по оживлению не уступит земле.
В течение двух последних месяцев, разговаривая с пленными, я слышал все те же ответы: «Недавно из Франции…», «Недавно из Бельгии…», «Недавно из Голландии…». На прошлой неделе я встретил пленного фельдфебеля Макса Германа, который объяснил, что он со 104-й группой транспортных самолетов прибыл из Ливии. Я не знаю, верно ли, что фон Рундштедт уехал с Украины в Париж. Возможно. Но вместо одного Рундштедта из Франции на Украину прибыли десятки тысяч солдат.
До сегодняшнего дня Гитлеру удается воевать на одном фронте. Мы это не только знаем, мы это чувствуем.
Теперь многое зависит от решительности наших друзей – я говорю это прямо, как человек, знающий силу и слабость демократий. Давно уже сказали, что война – это не только наука, это еще искусство. Остается добавить: война – это еще чувство. Будь у людей большая голова и крохотное сердце, не было бы в яслях детей и не было бы на свете победы.






