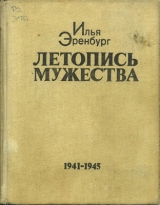
Текст книги "Летопись мужества"
Автор книги: Илья Эренбург
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Мы видели среди трофеев самолеты, выпущенные с немецких заводов в феврале 1942-го, орудия, изготовленные немцами в марте 1942-го. Гитлер их не коллекционирует, он воюет. Радостно мы встречаем описания английских операций на французском побережье: мы верим, что это разведка. Вчера зенитчики читали при мне о десанте в Булони, о резиновых подошвах, которые помогли англичанам. Потом один из них сказал: «Здорово!… Но вот когда у них во Франции окажутся не только бесшумные подошвы, а и шумные пушки, тогда дело пойдет к победе… Почему я говорю о том, что Гитлер не коллекционер самолетов или танков? Свыше трехсот дней мы воюем как можем – изо всех сил. Первые в мире мы нанесли тяжелый удар слывшей непобедимой германской армии. И вот мы читаем, сколько самолетов производят США, сколько танков изготовляют доминионы…
В мирное время стены Лондона перед троицей покрывались плакатами: «Лето во Франции…», «Лето в норвежских фиордах…», «Лето в Швеннингене…», «Лето в Остенде…». Может быть, эти слова горят на звездном небе затемненного весеннего Лондона?
Передо мной немецкий приказ командующего 18-й армией «О подготовке зимней кампании 1942-1943». Гитлер забыл о своих «молниях»… Но брать Гитлера осадой – это значит погубить вместе с фашизмом труд многих поколений, это значит оставить нашим детям, пустыню. Тот, кто хочет все сберечь, может все потерять.
11 мая 1942 года
Люди с севера как никто умеют ценить солнце, цветы, весну! Бойцы этого батальона – северяне. Ласково жмурясь, они глядят на первые подснежники. Воздух особенно прозрачен, а стволы берез кажутся подвенечными платьями. Принесли почту. Одно письмо – комиссару. Он прочитал его, отошел в сторону, потом снова стал читать. Он говорит бойцам: «Слушайте – это письмо всем нам от матери Гоши».
Он читает письмо матери Гоши Азарова, погибшего недавно при разведке. Письмо адресовано бойцам третьего взвода стрелковой роты. Я переписал его: «Дорогие ребята! Товарищи моего сына и теперь мои товарищи! Я получила извещение вашего батальона о том, что мой сын, мой родной, единственный мальчик убит. Мне очень тяжело. Мне трудно пережить то горе, которое свалилось на меня, больного человека, но я постараюсь держать себя так, чтобы своей работой могла принесли много пользы своей родине и отомстить проклятым, трижды проклятым гадам, напавшим на наш Союз, исковеркавшим столько человеческих жизней, семей и убившим моего сына. Сына, которого вы знаете, я одна, женщина, с такими трудностями растила, и воспитывала, и учила. Мой сын, как огонек будущего, светил мне во всей тяжелой и трудной моей жизни. Но, как видите, что вышло. Я прошу вас, если мой сын похоронен один в могиле, написать мне где и отметить его могилку чем-либо, чтобы, когда кончится война, я могла бы найти ее. Если вместе с другими товарищами, то напишите где и чтобы я могла найти ее. Вы теперь, ребята, мои сыновья. Не забывайте меня. Если кому что нужно, я все для вас сделаю. Я вас люблю так, как любила моего сына. Напишите мне, как погиб мой сын. Жил ли после ранения, передавал ли что-либо мне или, может быть, еще что-нибудь. Я прошу вас очень об этом. Юра Виленский! Я перед тобой много виновата, родной мой: когда я видела тебя в последний раз, то попрощаться не смогла – я была очень расстроена. Прости меня. Об этом писала и Гоше. Если у Него были при себе документы или письма, верните мне все, если это возможно. Я знаю, что в комсомольском билете он носил фотографию одной девушки. Если она сохранилась, передайте мне ее и, если есть, ее адрес. Я надеюсь, что вы это сделаете. Желаю вам, ребята, крепко бить этих проклятых нечистей и много удач в боевых делах. Мария Азарова».
Это настоящее письмо матери: большое горе, большая любовь и большая стойкость. Меня давно перестала удивлять отвага наших бойцов. Но я все еще дивлюсь мужеству наших матерей. Нет в нем ни позы, ни заученного пафоса, оно органично. Оно сродни нашей земле, нашей природе – большой и стыдливой.
Фашисты часто спрашивают себя: почему в России они нашли такое сопротивление? Против них поднялась вся страна. Я видел много партизан в прифронтовой полосе, видел стариков и подростков. Видел молоденькую девушку Катю, которая до войны занималась музыкой, увлекалась Шостаковичем, Стравинским, Хонегером и которая теперь взрывает мосты. У нее были близорукие добрые глаза и тонкие розовые пальцы, будто только что вымытые ледяной водой. А рассказывала она о том, как лежала в снегу возле моста и ждала немцев. Она не прибавила: «Ждала смерти», – но я понял, что ждала и что хрупкая девушка оказалась сильнее смерти. Видел я старика лесоруба, он рассказал, как поджег избу с гитлеровцами, потом задумчиво добавил: «Господи, бог ты мой, сам не пойму, откуда сила у меня взялась…»
В немецких газетах пишут, что русских «гонит под огонь комиссары…». Как можно обманывать народ такими наивными баснями? Кто гонит вперед всю Россию? Большая ненависть и большая любовь.
Лет пять тому назад один француз сказал мне: «Я не думаю, чтобы ваша армия оказалась стойкой – у вас ослабел инстинкт собственности. А только он придает силу солдату…» Я тогда не стал спорить. Я не хочу спорить и теперь с моим французским приятелем: может быть, в поруганном Париже он понял свое заблуждение. Его мысли были распространены. Вероятно, их разделяли и правители Германии.
Француз – я говорю о так называемом «среднем французе» – был крепко привязан к собственности, к своему саду, к своим сбережениям. Он чтил ренту, а завещание казалось ему божественными скрижалями. Он жил хорошо, ему было что защищать. И вот летом 1940 года я увидел Францию, которая потеряла голову. Люди бросали все. Элегантные парижанки угощали шоколадом немецких ефрейторов, а фермеры стреляли в голодных французских солдат, которые просили хлеба или молока.
Сопротивление России должно обрадовать всех, кому дорого понятие человека. Я убежден, что католики и протестанты, либералы и консерваторы, люди самых далеких воззрений, если они искренне преданы своим идеалам, должны считать сопротивление русского народа своей победой: русские теперь показали, что человек лучше, чем о нем думают многие, что человек способен защищать не только деньги, унаследованное поместье или право на барыши, но нечто высшее: родину, свободу, достоинство.
Русский солдат всегда был хорошим солдатом. Но я сейчас говорю не о боевых качествах армии, а о душевной силе, проявленной народом. Гитлеровцы вешают партизан, сжигают деревни, где живут семьи партизан, – это не рассказы о жестокости противника, это официальные приказы германского командования. Почему же не удалось задушить партизанского движения? Почему в немецком тылу существуют районы, где признают только советскую власть? Почему десятки и сотни тысяч людей предпочитают мученическую кончину покорности? Это – победа человеческого духа над механической силой. Мать комсомольца Азарова может завтра стать партизанкой: перечтите ее письмо – и вы все поймете.
Да, мы приняли бой не с голыми руками, мы оказались не Норвегией и не Грецией. Но все же вначале борьба была неравной. Семьдесят лет Германия создавала свою армию. Ее индустрия много старше нашей. На Германию работает вся Европа. Немцы пришли к нам, обогащенные опытом двухлетней войны. И, однако, мы выстояли. Я повторяю: дело не только в храбрости русского солдата. Можно напомнить, как осенью привозили заводы на пустыри, выгружали машины среди грязи или снега. Казалось, никогда ничего не наладить. Люди спали под холодным октябрьским дождем. Не было хлеба. А месяц спустя завод на новом месте изготовлял авиамоторы или пулеметы. Для этого нужно не только сырье, не только пространство, не только энергия, для этого нужно подлинное человеческое мужество. И оно нашлось.
Наш народ не был воинственным. Мы не увлекались штурмовыми отрядами. Мы не сидели над «геополитикой». Наши юноши всегда предпочитали Толстого Ницше. Мы не росли на культе силы. Наши солдаты и теперь идут в бой с песнями о реках, о березах, о девушках – их песни не похожи на марш эсэсовцев. Мы не писали, что «война – высшее проявление человеческого духа». Мы не говорили, что «война – это опасный, но веселый спорт». Мы приняли войну с большой грустью и с большим мужеством. Двадцать пять лет мы строили наш новый дом. Мы можем все сказать о нашем государстве, как сказала Азарова о своем сыне: «С такими трудностями растила, и воспитывала, и учила». Мы защищаем нечто большее, чем территорию, чем личные блага, и это придает нам силы. Конечно, в немецкой армии немало храбрых солдат. Но что их поддерживает? Презрение к другим народам, желание господствовать, война, понимаемая как призвание, традиции рейхсвера, его дисциплина. Что поддерживает наш народ? Сознание, что мы защищаем нашу общую землю и нашу общую правду.
Я пишу об этом накануне больших битв. Вскоре не будет времени для таких статей. Мы будем говорить о высотах, о переправах, о населенных пунктах, о танках, об атаках и контратаках. Но сейчас, когда уже позади горе и гордость зимы и когда еще не открылась весенняя кампания, нужно напомнить зрителям, на что именно они смотрят. У меня в Швеции много друзей, и я хочу им сказать, что мы отстаиваем не только независимость России, мы отстаиваем сейчас и независимость человека – это выше, чем политические или философские расхождения. Когда десять наших танков против десяти гитлеровских, я говорю: «Тридцать русских сердец против десяти моторов». Человечество пересмотрит многое после этой страшной войны. И тогда-то люди, наверное, скажут, что сердце народа крепче самой крепкой брони.
14 мая 1942 года
Как раз в то время, когда Черчилль произносил свою речь, на другом конце Европы с особенной ожесточенностью заговорили орудия. Пока в Лондоне обсуждался вопрос о втором фронте, на первом и пока что единственном антигитлеровском фронте разгорался горячий бой.
Перефразируя французское выражение, мы можем сказать «deshonneur obliqe» («бесчестье обязывает»)-декабрьское бесчестье и разговоры о весеннем реванше требовали продолжения. Гитлер выбрал для начала наиболее удобный участок – наш керченский плацдарм. Он тщательно подготовил эту операцию.
Немцы сосредоточили при выходе с полуострова крупные танковые соединения. Они бросили в бой свыше пятисот самолетов. Они добились численного превосходства и вклинились в наше расположение. Наши части были вынуждены отойти на новые позиции.
Вскоре после начала керченской битвы советские части начали наступательную операцию возле Харькова. Первым ударом частям Красной Армии удалось прорвать фронт противника в двух местах.
Сильные бои продолжаются и на других фронтах. Так на Северо-Западном фронте позавчера наши части заняли два населенных пункта. На одном из участков этого фронта за первые десять дней мая уничтожено свыше четырех тысяч немцев. На Калининском и на Западном фронтах бои не замолкают: ряд «весенних дивизий» Гитлера сильно потрепаны.
С приходом весны партизанские вылазки сменились настоящими боями. На Брянском, на Калининском, на Западном фронтах отдельные партизанские отряды объединились и наносят немецким войскам чувствительные потери. Трудно порой сказать, где происходят самые ожесточенные сражения – на фронте или за линией фронта, в немецком тылу.
Успешно разворачиваются воздушные бои. Несколько дней тому назад на Калининском фронте наши летчики на «Харрикейнах» сбили изрядное количество немецких бомбардировщиков. На Брянском фронте вчера наш бронепоезд сбил два «Хейнкеля-111». Немцы пытаются прорваться к нашим большим городам, и зазеленевшие леса на запад от Москвы чуть ли не каждую ночь дрожат от падающих немецких бомбардировщиков.
Да, весна пришла! В Крыму жарко. Над Мурманском белые ночи. Вокруг Москвы стоит чересчур теплая предгрозовая погода. Огромная внутренняя сила воодушевляет Красную Армию.
Немцы упорно дерутся: под Керчью или у Харькова они защищают свое право не только терзать кашу землю, но и владеть Парижем, мучить греков и крошить старые английские города. На наших полях сейчас идет грандиозная битва за свободу нашу и мира. Европа не может ждать. Разговорами о втором фронте нельзя отвлечь ни одну германскую дивизию, ни одного германского солдата.
Мы слышали речи государственных деятелей Великобритании. Надо надеяться, что англичане услышат голос орудий.
26 мая 1942 года
Эта война богата контрастами. В немецком тылу не затихает партизанская война. Люди с охотничьими ружьями и с ножами нападают ночью на немецкие штабы. А в районе Харькова продолжаются гигантские танковые сражения, похожие на морские бои, где приходится говорить не столько о территориальном продвижении, сколько об уничтожении сухопутных кораблей противника. В Карелии можно проехать десятки километров фронта и никого не увидеть. А вот участок фронта, где бои идут за один дом, даже за одну комнату.
Город расположен на Западной Двине. В нем было много древних церквей, и городом интересовались, кроме окрестных крестьян, только археологи. Улицы были полусельскими. Во дворах мычали коровы, кудахтали куры, когда проезжал автомобиль, на него кидались с лаем собаки. Но городок был советским. В школах мальчики мечтали об авиации и об Арктике. Все знали, что сын огородника стал депутатом Верховного Совета, что касается дочки аптекаря, она любила перманентную завивку, а увлекалась Хемингуэем. В городе были даже кружок друзей испанского народа и курсы поэзии. Потом началась война. В город пришли немцы. Сначала они только грабили, но, когда к городу подошли русские, немцы стали убивать жителей. Эсэсовцы согнали четыреста человек: женщин, стариков, детей – и всех расстреляли. Немецкий комендант объявил, что «расстреляны евреи», но среди убитых было много русских.
Три месяца идут уличные бои. Когда подъезжаешь к городу днем, над развалинами низко стелются черные облака дыма. Ночью город пылает, – сколько может гореть город, в котором половина домов из дерева? Казалось бы, давно он должен был превратиться в гору пепла. Но он еще горит… силы города велики, и только человек еще упорней.
«За что сегодня идет бой?» – «За детский дом». Это не шутка. Двухэтажное каменное здание, здесь помещался детдом. Бойцы еще нашли среди гильз и мусора куклу с отбитым носом. Этот дом был превращен немцами в дот, в амбразурах мелкокалиберные пушки, в окнах верхнего этажа пулеметчики и автоматчики. За вывеской «Детский дом» сидел автоматчик. Русское орудие пробило стену. Русские ворвались в нижний этаж. Немцы убежали на верхний этаж. Лестницу они забросали гранатами. Тридцать шесть часов бой шел между двумя этажами. Один из красноармейцев, осмотревшись, заметил, что потолок деревянный. У русских был крупнокалиберный пулемет. Начали строчить от одного угла к другому. Наверху забегали. Потом закричали: «Рус, сдаюсь»… Дом захвачен.
В другом доме – здесь была фотография, еще валяются карточки молодоженов и детишек – борьба шла между двумя комнатами. Красноармейцы, высовываясь в окно, кидали гранаты в соседнее окошко.
Идут сражения за маленький домик, за ларек, за газетный киоск, за будку сторожа среди огородов. Отдельные немецкие гарнизоны из 25-30 солдат и офицера защищают дома, превращенные в дзоты. В мае уличные бои разгорелись с новой силой. В боях за одну улицу немцы потеряли свыше пятисот человек. Запах трупов и гари. Яркое, уже знойное солнце. И оскалы мертвых.
Немцы стараются поджечь деревянные дома, укрепленные русскими. Пожары приходится тушить среди боя. Саперы тащат мешки с песком, а если нужно, берутся за гранаты.
Подошли русские танки. Таких боев город еще не видал. За два дня от немцев очищено более половины города. Немцы ушли за реку. Теперь бои идут на другой стороне.
Ночью ползут к русским постам перебежчики. Их становится все больше. Один из них, солдат 257-го полка 83 ПД Вильгельм Штрейх, пьет чай и лопочет: «Это ад… ад…» Он католик из Прирейнской области, религиозный человек, он в ужасе рассказывает: «В церкви мы убивали женщин… полковник приказал… звери… у нас полторы тысячи раненых в подвалах, а их даже не перевязывают… полковник сказал, что, если мы сдадимся, будут отвечать семьи… у меня жена, мать… Это ад… ад…»
Город горит. И будто улыбается мертвый немец на улице. Рядом с ним расплющенная детская кровать, томик стихов и пробитая пулей жестяная вывеска магазина «Торты. Пирожные. Сдоба». Пламя пожара кажется бледным и нарисованным среди золота заката. Так изображали ад художники пятнадцатого века. В двадцатом веке так воюют.
29 мая 1942 года
Белые ночи, они и над плененной Норвегией, над настороженным Стокгольмом и над Ленинградом. Время бессонницы, время для чудаков и влюбленных. В нереальном ночном свете мир представляется иным, меняются пропорции, перемешиваются перспективы. Фантазия севера никогда не была цветистой, яркой, необузданной. Север прежде всего стыдлив. Но он отнюдь не скромен, он многого хочет и многого требует. «Все или ничего» – этот вызов прозвучал на далеком севере. И люди севера в самой романтике оставались непримиримыми. Кто лучше поймет героизм Ленинграда, нежели горняки Кируны, моряки Норвегии, пасторы в деревянных домах, тоскующие о справедливости, студенты Лувда и Упсалы, для которых и в наш век страсть выше сварки металлов?
Я не хотел говорить ни о белых ночах, ни об Ибсене, ни о родстве архитектуры Стокгольма с архитектурой Ленинграда. Но иногда становится невтерпеж. Тяжело человеку, который знает и любит Норвегию, который понимает ее драму, пережить, что несколько сот изменников, авантюристов, босяков, родившихся в Норвегии, называются «норвежским легионом», что и они приложили свою руку к покушению на Ленинград.
Может быть, норвежцы смогут простить напавшей на них большой стране и пепел городов, и могилы. Не знаю. Но Квислинга они не простят. Я говорю не «Квислингу», но «Квислинга» – покорителям мало было убивать, они захотели унизить.
Квислинг произнес недавно речь. Он заявил, что Россия основана предками Квислинга и поэтому норвежцы должны сейчас вместе с гитлеровской Германией завоевать СССР. Он добавил, что в России «много хлеба и яиц для наших ребят». Все, что было в Норвегии, немцы съели, включая яйца чаек и морских попугаев, а теперь Квислинг предлагает голодным норвежцам добывать себе русский хлеб – не в поте лица своего, а в крови. Причем «потомки викингов» должны стать скромными наемниками. Можно ли нанести большее оскорбление народу Бранда и Штокмана?
«Норвежский легион» насчитывал восемьсот голов. Квислингцы набрали норвежских наци, уголовников, проходимцев. Многих они соблазнили деньгами. Унтер-офицер Ионтвед Кьель рассказывает: «Мне обещали ежемесячно 66 марок и моей семье 184 марки, итого 250 марок. А это уже кое-что…» Вот он, «потомок викингов», наемник, готовый за 250 марок убивать!
8 марта норвежских легионеров привезли на Ленинградский фронт. Им сказали, что Ленинград падет в ближайшие недели, обещали богатую добычу. «Добровольцы» шарили по окрестным деревням: искали хлеба и яиц, обещанных Квислингом. Вместо этого их ждали пули партизан. Немцы посылали норвежцев в атаки. Легион быстро редел. Сейчас в нем осталось только четыреста пятьдесят человек. Ждали пополнения. Но из Норвегии прислали за все время всего только тридцать «добровольцев». Многими ротами командуют немцы. Командир полка тоже немец. Как-то он выступил с речью, объяснял «потомкам викингов», почему они должны умереть в России: «Норвежцы записались добровольцами, чтобы показать немцам, что и норвежцы умеют воевать. Тогда после победы над Россией немцы освободят Норвегию». Я тоже думаю, что немцы убедятся в боевых качествах норвежского народа. Только будет это не под Ленинградом, а в Осло, в Бергене, в Тронхейме… Недаром сдавшиеся в плен легионеры жалуются. Ионтвед Кьель говорит: «В Норвегии женщины кидали в нас камнями. А когда мы были на пароходе, толпа на берегу ругалась, многие плевали в нас…» Солдат Виорн Баст рассказывает: «Норвежцы уважают не нас… Вот тех, что уехали в Англию, тех они уважают…»
Русский народ понимает муки Норвегии, и он не примет за норвежцев изменников из «норвежского легиона». Ленинград пережил страшную зиму, но Ленинград не сдался.
Русские солдаты умирают, отстаивая свободу и честь своей родины. Против них немцы посылают низких предателей. Люди севера – люди чести, и они отвернутся, когда мимо них пройдут норвежские «добровольцы».
Я начал этот рассказ о человеческой низости с воспоминаний о белых ночах. Я кончу его сухой справкой о смерти тридцати пяти защитников Ленинграда. Ими командовал лейтенант Ерастов. Крупными силами немцы атаковали. Тридцать пять героев, отрезанные разлившейся весенней рекой, шесть дней сопротивлялись, Они убили пятьсот фашистов. Среди защитников был молоденький радист Лычов. До войны Лычов плавал на судах, любил море и штормы. У него были удивленные глаза и детская улыбка. Лычов каждый час передавал по радио о положении защитников. Вот его последние слова: «Враг окружил. Отбиваемся гранатами. Будем драться до последней капли крови». Когда красноармейцы снова отбили потерянную позицию, они увидели в землянке мертвого Лычова с автоматом. А перед землянкой валялись трупы немцев. Лычов умер последним. Позади него был Ленинград, родина, свобода. Это было в белую ночь севера.
4 июня 1942 года
Немцы сидят за рекой. На фронте артиллерийская дуэль. А когда орудия молчат, слышно пение птиц – их очень много, и они привыкли к войне. Я вернулся с фронта в город. Вернее, здесь был город Думиничи, районный центр. Кое-где торчат трубы, остатки стен. В бывших комнатах зазеленела трава. Шлемы немцев. Скелеты танков. На солнце сверкают сотни новеньких эмалированных ванн. Это все, что осталось от города, сожженного немцами. Здесь находился завод, изготовлявший ванны, и ванны уцелели.
Думиничи освободили ранней весной. Я проехал 300 километров по земле, отвоеванной у немцев. Страшная дорога. Зимой снег сострадательно все прикрывал. Теперь повязка снята, раны обнажились. Старая женщина в Калуге вчера сказала мне: «Может быть, в Кельне они почувствовали, что такое их война». Дом этой женщины гитлеровцы сожгли, пятнадцатилетнего сына расстреляли.
Я еду в вездеходе. Его называют «пигмеем», солдаты говорят о нем шутливо «козел» и с одобрением поясняют: «Козел всюду пройдет». Мой «козел» шумно мчится по шоссе, искалеченному танками и снарядами. Потом я сворачиваю в сторону. Глухие проселочные дороги. По ним прежде ездили только крестьянские телеги. Стоит грозовая погода, и, что ни день, шумные веселые ливни обрушиваются на землю. Тогда проселочная дорога превращается в поток рыжей лавы. Но мой «козел» ночью отважно плывет по земной хляби, кренясь то налево, то направо, как лодочка в разбушевавшемся море.
Я проехал мимо изуродованных городов: Малоярославец, Калуга, Угодский Завод, Козельск, Мочальск, Мещовск, Сухиничи. Сотни сел. Некоторые из них уцелели. Деревянные дома с резными украшениями. На скамейках сидят старики и, завидев военного, спрашивают: «Бьют Гитлера?» Гитлер – стало нарицательным именем. О немцах говорят «фрицы», крестьянки это имя иногда переиначивают на русский лад: «фирсы». О немецкой армии колхозники говорят: «Гитлер». Идут полевые работы. Колхозницам помогают пахать и сеять бойцы. А вечером в деревнях весело. Девушки плетут веночки, поют песни, смеются на околице с русскими солдатами.
Многих деревень нет. Там, где были дома, крапива. Буйно цветут цветы – желтые, лиловые, красные. Кажется, никогда я не видал столько цветов. На опушках лесов обугленные деревья, а в чаще обычный зеленый уют и стараются перекричать друг друга кукушки, пророча кому-то долгую жизнь.
Красавица Калуга с древними церквами на крутом берегу Оки вся искалечена. За последние годы здесь много строили. В городе, слывшем издавна захолустным, появились большие комфортабельные дома, школы, хорошие больницы, клубы, театры. Молча прошел я с калужанином по длинной улице, от которой остались только развалины. С трудом строили люди дома, и страшно глядеть на эту пустыню.
Я знаю, что американцы сильнее всего ждут от нас военных сводок. Но это тоже сводка – наши друзья должны знать, что сделали наци с русскими городами и селами. Они должны помнить об этом в те дни, когда весь советский народ и вся Красная Армия с радостью говорят о посылке американских войск в Европу, – разговоры об этом я слышал и в блиндажах и в деревнях.
Теперь я нахожусь в районе, очищенном от немцев в марте и в апреле. Здесь мало леса и в селах было много кирпичных домов. Немцы их превратили в доты. Еще видны стены с окнами, забитыми камнем. Здесь стояли пулеметы. Такие же доты в деревнях по ту сторону Жиздры, занятых немцами. Нелегко было выбить немцев из города Думиничи, из тридцати окрестных сел. А села здесь большие: по триста – пятьсот домов. Я поднял аккуратно завернутый в красную тряпочку пакетик. В нем полтораста граммов аммонала. Такие пакетики гитлеровцы закладывали в печь, прилаживали взрыватель, и от дома оставалась груда развалин. Вот развалина большой церкви села Попково. Немцы здесь держались три дня. Саперы хотели взорвать церковь. Но тогда с колокольни раздались детские крики: «Мы русские…» Оказалось, что фашисты забрали в церковь деревенских ребятишек. Саперы ушли. Фашисты не отпустили детей. Церковь обвалилась, всех засыпало.
Крестьянки говорят: «Дом сожгли. Мужа угнали. Дочку испортили». Это – спокойствие большого горя.
Поля и дороги загромождены ломом: танки, орудия, машины. Здесь – прошлогодняя продукция Эссена, Рено, Шкоды, Аугсбурга. И молодой майор, усмехаясь, говорит: «Теперь им будет труднее – англичане им дают жизни…»
Прошлой осенью трудно было ездить по прифронтовым дорогам: немецкие самолеты гонялись за каждой машиной. Теперь немцы стали экономней и осторожней. Сегодня прекрасный летний день. Пять раз над нами пролетали немцы: каждый раз одиночка бомбардировщик. Они хотели повредить железнодорожный мост, но это им не удалось. А русская авиация сегодня совершила большой и удачный налет на прифронтовой аэродром: все небо гудело.
Ночь наступает поздно, в десять еще светло. Ночи здесь шумные. С наступлением темноты немцы открывают сильный огонь из орудий и минометов. Привезли они новые шестиствольные минометы. Этой ночью советские артиллеристы уничтожили такой миномет. А чуть рассветет – тишина, вместо пушек жаворонки.
Обе стороны готовятся к летним битвам. Весело, с песнями русские девушки роют рвы. Движутся к фронту русские тяжелые танки, трехосные английские грузовики с советскими орудиями, свежие части из Забайкалья, с Урала, с Волги. Я проехал мимо одного города в воскресенье. Все жители от мала до велика работали на «воскреснике» – строили укрепления: они отведали немецкой оккупации. А там, за рекой, подневольное население тоже роет рвы – для своих палачей. Партизаны и пленные подтверждают, что немцы стягивают подкрепления. К чему они готовятся? На войне не предскажешь, но тишина, порой наступающая днем, кажется предгрозовой.
Сегодня, впрочем, громкий день. Советская радиоустановка в километре от немецких блиндажей. Напротив немецкие солдаты 211-й пехотной дивизии, сформированной в Кельне и состоящей из уроженцев Рейнской области. Сначала тишина. Диктор на отменном немецком языке говорит: «Солдаты 365-го полка! Среди вас имеются уроженцы Кельна. Мы доводим до их сведения, что Кельна больше нет. Свыше тысячи английских бомбардировщиков…» – и в ответ немцы открывают неистовый огонь. Два часа грохота. Снова тишина, и диктор начинает: «Среди вас имеются также жители Эссена…»
21 июня 1942 года
Это было год тому назад. Короткая июньская ночь казалась Москве обычной. Люди, засыпая, мечтали о летних каникулах, о горах Кавказа или о голубом море Крыма. Это была ночь на воскресенье, в клубах молодежь танцевала. На подмосковных дачах, среди сирени и жасмина, влюбленные тихо говорили о том, о чем говорят влюбленные всех стран и всех времен. Москва поздно проснулась.
Люди завтракали, когда в густой медовый полдень лета вмешался взволнованный голос диктора. Мы узнали, какой ночью была та ночь. Мы узнали, как немецкие бомбардировщики налетели на залитые светом города, как ползли гитлеровцы среди высокой, некошеной травы. Война… Это слово прозвучало, как труба архангела. Прошел год. Это слово стало жизнью.
Помню зимний вьюжный день. На стене висел плакат: «Что ты сделал для победы?» К стене подошел человек в солдатской шинели. Мне показалось, что он разглядывает плакат. Я подошел ближе и увидел, что у человека нет глаз: свои глаза он отдал победе. Почему передо мной сейчас эта черная повязка среди серебряного снега? Я хочу сказать английским друзьям о самом простом – о наших жертвах.
Все знают, как был взорван Днепрогэс. Об этом писали газеты всего мира. Изба крестьянки Прасковьи Филипповны была обыкновенной избой. Нужно ли говорить о привязанности крестьян к своему дому? Это было недавно в небольшом селе Ленинградской области. По размытой дождем дороге подошел к околице отряд партизан. И Прасковья Филипповна, выбежав навстречу партизанам, закричала: «Скорей сюда! Вот мой дом. В нем спят четырнадцать фашистов. Не жалейте дом – жгите, кидайте гранаты!»
Сколько домов сожгли наши люди, чтобы дома не достались немцам? В сухие знойные дни люди жгли как спички свои дома и свое добро. А что не сожгли хозяева, сожгли потом гитлеровцы. Пожар был прежде катастрофой, божьим гневом народных легенд. В этот год пепел стал бытом, и под пеплом поседела Россия. Но у нее молодые глаза и молодое сердце.
Человек, привыкший сызмальства к избытку, не знает цены вещам. Новая Россия родилась в годы разрухи. Богатство прежде было достоянием немногих. Нельзя говорить о домнах Кузнецка, не напомнив, что в России накануне революции еще были курные избы – без труб. Крестьяне ходили в лаптях. Миллионы и миллионы неграмотных вместо подписи покорно ставили крестики. Легко понять, как дорожила Советская Россия началом достатка. Посаженные деревья только-только начинали приносить плоды, когда нагрянул враг. Мы уничтожали не просто добро – мы уничтожали добро, оплаченное героическим трудом, жертвами целого поколения. В Витебске горели склады сукна. Крым дышал запахом пороха и муската: старое вино впитала сухая земля.
Люди жертвовали всем.
Прошлым летом и осенью Россия кочевала. Кто видел эти караваны беженцев, никогда их не забудет. Люди молча уходили на восток. Шли украинские крестьяне, шли старые евреи из Белоруссии, шли актрисы по вязкой грязи дорог на высоких каблучках… Уходили за Волгу вагоны с машинами. Переезжали заводы. Переезжали города. Сложные станки оказывались в степи среди снега. Камерный театр, один из самых изысканных театров мира, ставил спектакли в пустыне возле Аральского моря. Ученые дописывали книги в теплушках. Киевляне распылились среди сел Средней Азии. Башкирия приютила школы Одессы.






