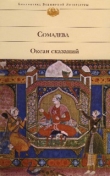Текст книги "Москва за океаном"
Автор книги: Игорь Свинаренко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
– Те дни в Нантере… У нас было чувство, что мы свергнем то правительство. Танки на улицах… Де Голль… Рабочие поднимались…
Постаревший мечтатель мне говорит еще какие-то красивые слова насчет пролетариата. И полно же еще таких, кто приписывает чернорабочим какие-то изящные устремления. Нет, никогда эти наивные иностранные люди не носили унылых спецовок, не таскали на голове тупых пластмассовых касок, не получали талоны на бутылку бесплатного молока в день – за вредность. Безумцы, безумцы… Я представил себе советскую власть в Париже и содрогнулся от ужаса. В восемь вечера все уже закрыто, как будто это уральский райцентр, на place Pigale пусто, проституток увезли перековываться, то есть катать тачки на досрочном пуске туннеля под Ла-Маншем… На улицах вместо картинок с бесстыжими тощими девчонками – портреты старых пердунов и идиотские лозунги: миру – мир, сэру – сыр и так далее. Нотр-Дам взорван, на его месте вырыт вонючий публичный бассейн "Париж". Я молчал… Он считал с моего лица нечто-то такое, что вынудило его оправдываться:
– Нет, нет, я не коммунист. Я называл себя тогда… социалистом. А не принадлежал ни к какой партии.
– А голосуешь за кого?
– За демократов. Правда, никого не выбрали из тех, за кого я голосовал, кроме Клинтона, но это исключение.
– Тогда, в Париже, ты чувствовал, что это лучшее время в твоей жизни?
– Я всегда в каждый момент чувствую, что у меня лучшее время в жизни. За исключением моего первого брака.
С тем браком была интересная история. Приехал он однажды с войны, да и записался вольнослушателем в Кембридже. Ни с каким колледжем официально он не связывался, из революционных побуждений. Он полагал, что обязан протестовать против официальной системы образования – нахватался на парижских баррикадах… То есть что у нас с ним вообще может быть общего в опыте? Казалось бы? А вот что: мы страдали от зверств социализма! Дэниел это называет, правда, изящно: культурный шок. Там, в Кембридже, он познакомился со студенткой из Польши, а после на ней и женился. Конечно, в Польше они не жили, все ж нормальные люди, но тестя же приходилось навещать. Он был польский профессор.
– Представь себе! – пытается мне рассказать страшилку бывший военный корреспондент. – Тесть, бедный, заплатил деньги авансом и ждал три года, чтоб получить автомобиль "фиат" – ну, такой, station-wagon! Да и автомобиль не очень хороший, и мне показался немного неудобным…
Знаем мы этот польский "фиат". Обыкновенный "жигуль", а station-wagоn это универсал, вылитый наш "ВАЗ-2102", какой был когда-то у писателя Аксенова.
– Да не только машины – все было трудно достать. И вдобавок денег не было! – рассказывает дальше Дэниел. Что вы говорите!
А с польской женой потом был развод – ведь пропасть и культурный шок. Представляете, приезжает цивилизованный западный человек – вы уже к этому ближе, чем при Советах, так что поймете – с войны, с работы, а дома "холодная война" и буквально варшавский договор; условия, конечно, невыносимые.
В какой-то момент он перестал ездить на войну; это по-человечески вещь очень понятная, если из этого военного цикла вовремя не выскочить, так случится замыкание и не сможешь ездить никуда, кроме войны, а когда ее нигде не будет, придется употреблять наркотики, подобно Шерлоку Холмсу в дни простоя.
Имеет право у тихой речки отдохнуть
Но от военных репортажей к тихим мирным текстам он отступал постепенно через скандальные разоблачения.
– Я хотел чувствовать, что в жизни что-то меняется оттого, что я пишу, повторяет он ранее уже сказанное и продолжает: – Я написал пару историй, после которых люди попали в тюрьму. Это были журналистские расследования – по случаям мошенничества. Я работал тогда на Philadelphia magazinе, в ранние семидесятые. Это был самый отважный и агрессивный журнал…
– Был?
– Был. После обиженные персонажи с ними судились и отсуживали кучи денег, ну вот они бросили разоблачения и стали публиковать безопасные истории. В этом-то и проблема с журналистскими расследованиями…
Да… Везде люди живут. Тошно мне слушать эту историю.
– Настоящими расследованиями сейчас только один журнал занимается – Mother Jones. Я его читаю.
– А пишешь?
– Нет, не могу себе этого позволить. Я сейчас занимаюсь другой журналистикой и за день зарабатываю больше, чем, бывало, за два месяца тяжелого труда… Это было ужасно: месяц фактуру собираешь и пишешь, потеешь…
Понятно… Другая журналистика – это PC magazine. Он берет какой-нибудь принтер, пробует его в разных режимах и сочиняет высокохудожественный текст про новую высокопроизводительную технику. Платят, сказано, хорошо…
– Потом я познакомился с Салли… – мы плавно переходим ко второй части жизни, когда уставший путник тормозится, остепеняется и оседает в милом захолустье. Кто, как говорится, воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть.
Хороший дом, хорошая жена, что еще…
Салли была актрисой и моделью, то есть дама видная, выразительная. Она устала от сценической и подиумной жизни (попробуйте сами; там неуютно проводить жизнь, ее там можно только устраивать), которая, кстати, и не была блистательно успешной, ну и бросить не жалко.
Все эти компьютеры и принтеры Дэниел выучил в начале 80-х, когда они были никому не нужны. Он знал про них столько, что к началу бума создал свою компьютерную фирму, которая зашла высоко в гору, а после рухнула.
– Мы потеряли все, – произносит он красивую драматическую фразу.
Впрочем, плевать. У него вон сколько везения. Одно-единственное поражение его смутить не смогло, видите, он его играючи пережил, даже без легкого запоя обошлось, и все равно чудесно устроился.
– Мое преимущество было в том, что я, в отличие от прочих компьютерных писателей, был не инженером, а одним из немногих профессиональных писателей, знающих компьютер. Нашлось много журналов, которым это понадобилось. И они платили! Даже, – говорит он с придыханием и восклицательной интонацией – "New York Times"! Там мне за заметку, сделанную за день, заплатили мой прежний трехнедельный доход – три тысячи долларов. Ну и еще мы много писали про путешествия! – спохватывается он. "Мы" – это он и Салли, ведь еще потом вдвоем столько колесили. – Мы были разъездные. И вот Салли ездила, ездила со мной, писала, снимала… И стала очень хорошим фотографом! Она стала профессионалом. Она была хорошей ученицей и… превзошла меня. (То ли врет, то ли комплимент говорит жене?) Мы вдыхали аромат разных стран и писали эссе, а из них после делали путеводители. Поскольку мы хотели работать вместе, то проводили вместе почти все время. Мне нравилось это. Бывало, как уедем куда-нибудь, и полгода нас дома нет… Салли и я, мы партнеры, и лучшие друзья, и любовники… Люди, которые все время проводят вместе, они… или любят друг друга, или ненавидят.
– Я все время чему-то учусь, – подхватывает она. – За двадцать лет брака я столькому у него научилась! И он так меня удивляет. Это восхитительное приключение – быть замужем за ним. (Она сентиментальна и за немцев, и за евреев, вместе взятых, за всех своих предков. – Прим. авт.). Мне больше ничего не нужно. Мы – лучшие друзья, самые близкие. Вот когда хочется что-то рассказать, то, что рассказываешь обычно близкому другу, – так я мужу рассказываю. Нам больше не нужен никто.
– Даже психоаналитик?
– Даже. Он очень широкий и яркий человек.
– Какие у вас развлечения?
– Друзья. Чтение. ТВ не смотрим, а кассеты берем иногда напрокат. Играем с собакой. Пишем, читаем, разговариваем. Мы получаем удовольствие от людей, это важно.
Он совсем расслабился и капризничает – не в беседе со мной, а в жизни:
– Я отказываюсь от очень выгодных заказов, если мне не нравится работать с редактором, который их предлагает. Вот одна из причин, что мы не богаты, – что мы переборчивы в работе…
Она улыбается профессиональной улыбкой модели – на русский вкус в ней не хватает искренности, она уж слишком ровна, но ведь это и есть дело вкуса – и мечтательным голосом говорит:
– Это замечательный городок, я так не хочу, чтоб тут что-то изменилось. Они не любят чужих, и это правильно – нельзя ничего менять.
– А вам-то что ж тогда делать?
– Как что? Становиться своими, – и она рассказывает, как с большим трудом внедрилась в общественный комитет по уходу за кладбищем. Чтоб быть ближе к массам и сходить за свою. Ну и давнишний тот вертолет – тоже хорошее подспорье. Когда местные кривят нос, что-де понаехали лимитчики, Салли им гордо напоминает, что тот вертолет, 1955 года, вызвала ее тетя, – те затыкаются.
Дэниел вспоминает пример из прошлых путешествий, и ему, как профи, это легко, эти примеры, наверно, лезут ему в голову бесконечно и топчутся в утомленном странствиями мозгу:
– Взять, например, Молокаи, это Гавайи. Там население шесть тысяч всегда было. А теперь стало расти, и местным не нравится, что столько чужих. (Ну, понятно, эти аборигены типа латышей. – Прим. авт.) Они там очень любезны с гостями, но если кто-то объявляет, что пришел навеки поселиться, – так они становятся очень неласковы. Они не хотят чужаков, которые могут изменить их жизнь.
Пока что в их Ньюфаундленде население меньше, чем на гавайском островке, всего 5 тысяч. Некоторые, вот странно, ездят каждый день на работу в Нью-Йорк, а это два часа пилить без пробок! А утром и вечером как раз самые пробки! Это такие медленные самоубийцы. Они не сразу кончают с собой, а укорачивают жизнь на четыре часа в день. За год набегает два месяца, хороший, кстати, темп.
– Мы еще романы сочиняем.
– Вы пишете романы – вместе?
– Нет, – отвечают они хором. И она дополняет:
– Это единственное в жизни, что мы делаем порознь.
– А вы много написали?
– Мы ни одного еще не докончили, – говорит она бесстрастно. – Мы написали вместе… Сколько вместе написали книг?
– Пять книг, – подсказывает он.
– Пять книг, – повторяет она. – Про путешествия и про компьютеры. Две про путешествия и три про компьютеры.
– Она прекрасный фотограф, – опять хвалит жену Дэниел.
– Спасибо, – отвечает та весело.
Но все равно она от него безнадежно отстает: она всего в 80 странах была, а он в 105, и уж не догнать, они ведь теперь только на пару путешествуют.
– Я не жалею ни о чем, что с ним было до меня, ни даже о его первом браке, ни о его прежних любовях. Но когда мы познакомились и поженились, я сказала ему – если он куда поедет, то я с ним, потому что новые путешествия изменят его, а я не хочу, чтоб он менялся один, без меня, я хочу меняться с ним… Мы будем путешествовать вместе, хотя… у меня нет больше такого желания. Мы наездились. Сейчас мы изучаем наш внутренний мир. Что внутри нас, внутри близких нам людей? (Вы, конечно, узнаете термины, которые часто применяют артистические дамы в любимых ими разговорах на возвышенные темы… – Прим. авт.) После того как мы поездили, можно уже осесть. Мы были почти везде. Самая большая правда, которую я узнала в путешествиях, – что люди везде одинаковы. Чтоб их знать, не надо путешествовать. Я хочу быть тут, это место, где я хочу умереть.
Выходит, остановись, мгновенье?
Лишние люди
Нет, пока что не время, потому что у меня остался последний к ним вопрос:
– Отчего ж у вас нет детей?
Глаза Дэниела расширяются от ужаса.
– Если б ты побывал в Калькутте, ты б так не спрашивал… Калькутта – это катастрофа, это страшное место… Там миллионы нищих и несчастных, и убогих, они сидят на головах друг у друга и умирают в грязи и мучениях… А еще Шанхай и Мехико! Это будет со всем миром, если мы не ограничим рост населения.
– То есть ты в первых рядах, личным примером?..
– Да, это моя философская позиция… И все-таки сожалеем ли мы об этом? Иногда, иногда…
Глава 33. Американский художник Кулагин
Из Филей художник Игорь Кулагин эмигрировал в Подмосковье. Только там он, собственно, и состоялся. Потому что русское искусство, по наблюдениям Кулагина, в Америке страшно ценится. Однажды ему посчастливилось за выходные продать этого высокого искусства на три тысячи долларов.
Жить в Америку Кулагина увезла из Москвы американская жена по имени Ким…
Он бросил пить, а она – троцкистскую партию, и теперь оба живут в Америке долго и счастливо. У них приятная работа, две машины и на носу покупка собственного домика.
Жизнь удалась.
А ведь, по всему, не должна же была удаться!
Прежде чем стать преуспевающим американским художником, Игорь Кулагин сначала был киевлянином, после чего стал москвичом и занимался тоже важными делами: крепил оборону СССР, служил в МИДе, охранял окружающую среду и воспитывал подрастающее поколение.
Оборону он крепил в комендантском взводе: облагораживал кистью Ленинские уголки в войсковых частях Реутова и Одинцова. В МИДе он трудился не на Смоленской, а на улице Василисы Кожиной (там мидовская автобаза): писал на траурных лентах поминальные слова, если кто помирал за рубежом. Среду Кулагин охранял в Филевском парке, вырезая лавки. А детей воспитывал дома, в Москве, пока с той первой женой не развелся.
А как развелся, выпил однажды с ребятами и едет домой в метро. Там сидит девушка и рыдает: ограбили! Ни денег, ни документов, и ночевать негде. Кулагин пожалел прибалтийку со смешным акцентом и повел к себе домой ночевать, а сам строго пошел к другу на диван. Прибалтийка утром оказалась американкой, но при Горбачеве американок уже было можно… И вот ночная гостья как-то постепенно стала у него жить.
Как Ким занесло в Москву? А потому что здесь духовная родина революционеров. Ким же как раз состояла в партии под названием worker's world, это такая социалистическая рабочая партия троцкистского толка, стоящая на позициях 4-го Интернационала; надеюсь, вы не из тех, кто путается в номерах интернационалов, и все замечательно поняли.
Странно вообще, как это американская девушка из хорошей семьи (у нее папа был профессор математики) попала в такую подозрительную компанию?
Она охотно рассказывает об ошибках молодости – о том, как пристрастилась к левацким делам:
– Я училась, можно сказать, на советолога. В Мичиганском университете, город Анн Арбор (кажется, половина самиздата была оттуда; этот "Анн Арбор" часто стоял в выходных данных. – Прим. авт.) У них большой факультет русского языка и литературы. У меня степень магистра по изучению России и Восточной Европы. Я интересовалась историей политики.
А где ж политика интересней нашей? Вот она и влипла, и начала вязнуть. Пошла в ООН работать – а там, пожалуйте, курсы русского как рабочего языка. Дальше и вовсе стажировка в Ленинграде, ну и пошло-поехало. До Москвы добралась… Долго искала работу и таки нашла.
А что ж страна победившего коммунизма, духовная родина? Сурово обошлась она с духовной дочкой: на ней Ким сразу ограбили, и при этом еще сильно поколотили, поскольку она по приобретенной в свободном мире привычке противилась произволу. Далее Кулагин, который приютил ее в Филях. Он с легким злорадством вспоминает приключения своей жены в стране коммунистов:
– Как идешь от моего дома к метро, так там по пути как раз винный, на Малой Филевской, и его как Бастилию брали… А там с утра такие ребята торчали! Она сначала удивлялась – отчего ж у них такие румяные рожи. После насмотрелась всякого – там и лужи крови, и драки бывали. Для нас это нормальное явление, как бы комедия… А у нее такой вот создался страх перед русскими. Она думала, что там, в России, труба дело – там все пьяные ходят…
В Москве Ким пыталась понять жизнь и специально встречалась с анонимными алкоголиками, с пролетариями – представителями революционного класса и "лучшими" людьми – коммунистами; очень удобно было то, что иногда все три ипостаси соединялись в одном лице.
Ну и какой был вывод? – спросите вы. А какой может быть вывод после общения с такой публикой?
Ким страшно расстроилась и во многих своих идеалах разочаровалась:
– Мне видно, что любой нормальный умный человек, порядочный в моих глазах, который имеет какие-то принципы, – такой человек не будет в русской компартии.
И я тут что, с ней спорить буду?
– Так коммунисты – они и есть коммунисты, какой с них спрос…
– В Америке – это другое, – обижается она. – У нас даже в компартии США были принципиальные люди! И рабочие у нас чувствуют, что они могут что-то делать. А в Союзе рабочий – бессильный. Если он не получает зарплату, он не будет протестовать, он просто будет без денег. Это какая-то рабская психология! – Дальше она меня берется утешать: – У нас такая психология тоже есть у негров от исторических причин, потому что они рабами были. И поэтому сейчас у них нет такого самоуважения, как у белых. Они не могут поднимать себя, они пользуют наркотики. Большинство негров нищие…
Будущее России Ким представляется прекрасным:
– Я надеюсь что у вас забастовок будет еще больше. А то большинство страдает и бедствует, а мафиози правят страной.
Это жестокое триединое разочарование в коммунистах, рабочих и алкоголиках могло бы сломить Ким, если бы она не нашла утешения в Кулагине. Он был всем хорош: во-первых, беспартийный, во-вторых, не пролетарий, а художник, а в-третьих, пить фактически бросил. А душевность одинокого художника, с которой он по пьянке бескорыстно спас несчастную девушку, была и вовсе беспример-ной.
И она сделала ему предложение, от которого он не смог отказаться:
– Она мне говорит, пойдем женимся, в смысле я замуж выхожу. Ну, за меня.
Узаконили они свои международные отношения. И стали жить-поживать и добра наживать.
– Помню, были у нее какие-то французы, я им матрешек с Горбачевым налепил, а они мне телевизор цветной и палас подарили. – Кулагину приятно про такое рассказывать. – Стал я подниматься, подниматься… Я в Америку жить и не собирался. Мне и в Москве было хорошо. Думал, жена – американка, даст мне престиж какой-то.
А престиж точно появился:
– Телефон, как утюг, стал нагреваться. Всем я стал нужен, всем я стал хороший. Все ко мне уже липнут…
Однако разлука художника с родиной представлялась неминуемой.
– В Москве тогда дела такие начались, что и жратвы нету; как раз мятеж первоначальный был в августе. Так что решил я ехать.
Таким был его ответ на вечный и мучительный вопрос: "С кем вы, мастера культуры?"
– А ехать в Америку – так надо ж уметь что-то делать! Ну, перед отъездом взял я доллары, поменял на русские бабки, купил ящик водки и поехал в Федоскино. А там же лаковые шкатулки. Снял на неделю комнату, пригласил тех, кто любит выпить, – ремесленников. Ну вот, ребята начали пить и показывать мне, как они рисуют – один способ, другой. И как орнаменты делать. Все это я записал в своем мозгу. Потом аналогичную операцию проделал в Жостове. Ну теперь, думаю, можно рвать отсюда. Вот. И поехал сюда. Друзья меня догоняли снимай пиджак, снимай куртку, ты там себе все равно купишь. Ботинки снимали! До самого поезда за мной бежали, раздевали…
– Это с какого вокзала на Нью-Йорк отходят поезда?
– Нет, мы до Хельсинки, а дальше – самолетом. Потому через Финляндию, что везли заготовок много, из "Шереметьева" столько не выпускали.
Жить они стали в тихом американском Подмосковье, поближе к теще. Сняли в райцентре Скрэнтон дешево, за 300 долларов в месяц, домик.
Вот в нем-то мы и сидим, на кухне. Вообще я заметил, что иностранцы очень быстро заражаются русской привычкой кухонного общения; съездили разок в Москву – и все, неуютно им уже в стандартной вылизанной гостиной. Сидим совершенно по-русски, только что без водки. Ким заранее по телефону взяла с меня слово, что я приду без нее, родимой. Я так и пришел пустой. Кулагин стал уныло расставлять на кухонном столе здоровенные чайные, как в России про них иногда говорят, бокалы и доставать из буфета шоколадки равнодушной недрогнувшей рукой… Это, конечно, очень скучное занятие. Но вот он вспомнил о чем-то приятном, бросил эти шоколады и прочувствованно воскликнул:
– А вот, подарю-ка я тебе свитер!
И быстро принес, точно из другой комнаты, этот подарочный свитер. Толстый такой, самодельный (явно индейской, с характерным узором, вязки), теплый, под суровую подмосковную зиму:
– Вот, бери!
И размер у нас один, солидный и внушительный, так что отговорить его от дарения свитера было очень непросто. Художник поначалу не хотел меня слушать:
– Скучно мне! Живешь как в золотой клетке. Жрать есть, обуться-одеться есть, выпивки полно, машина есть, вторая есть, а общения нет никакого… Русские эмигранты, которые сюда приехали, друг от друга убегают; какая-то паранойя! Но тут один есть из Ленинграда, так мы с ним выпиваем иногда водку деликатесную, при том что я практически не пью, ты ж знаешь.
Последние слова были, видимо, для жены: она ж волнуется. Ведь с ошибками молодости покончено – никаких левацких завихрений, экспериментов, страшных заграниц. Ким теперь предпочитает приличную размеренную жизнь и респектабельную деятельность. Обе ее работы вполне буржуазные. Первая – она менеджер своего мужа, то есть понятного коммерческого художника из области массовой культуры. Вторая – это в департаменте защиты окружающей среды: она там клерк в департаменте тушения подземных пожаров и приведения в порядок ландшафта, попорченного шахтерами.
Кстати, насчет пролетариата; что касается русского, так его Ким до сих пор вспоминает недобрыми словами. За то, что он оказался пассивным, безыдейным и совершенно не склонным к потрясению основ! К тому же и ограбил ее в Москве скорее пролетариат, чем интеллигенция или, допустим, деловые круги…
И вот, сидим на кухне, давимся чаем… Трудно художнику на чужбине! Это факт…
– Непросто тут! Сам знаешь: два мира – два детства.
Из России Кулагину шлют деревянные заготовки матрешек и яиц, а он их раскрашивает.
– Надо вкалывать, геморрой наживать. А то при коммунистах вкалывали как собаки безвозмездно, все чертям каким-то помогали!
Некоторые завидуют; американцы многие зарабатывают меньше меня, а вкалывают как! Крыши красят, например. А я сижу дома и потихоньку работаю. Некоторые очень бедствуют, у них нет работы. А у меня есть и будет. Искусство – оно вечное… Только выдумывай.
Вечное искусство – крашеные яйца и матрешки – хорошо расходится в week-end на сельских ярмарках.
– Это делается такая простая вещь. Я тут купил микроавтобус (у всех ремесленников такие). Какой марки? Я в них не разбираюсь ни хрена. Ну вот… Забили машину товаром и поехали. Катаемся по деревням, по маленьким городкам, в них во всех ярмарки по очереди – на стадионах, в школах. Едем, значит, часа полтора, а там в гостиницу. Утром встали пораньше и на ярмарку. Платишь пятьдесят долларов в день за одно место и торгуй. А этих ремесленников тьма-тьмущая. И еще они за вход билеты продают, ну как в Большой театр. Ну денег-то делают! На ярмарке весело, музыка, волосатиков много. Пошла торговля… Вот я – художник! Какой-никакой, а все же учился в народном университете имени Крупской. Но сижу и ору: "Кам он, гёрл, нот експенсив! Рашн!" Язык-то у меня плохой, но ведь понимают…
Меня тут знающие люди научили: для успешного бизнеса надо, чтоб я был чистый, свежий, аккуратный, – чтоб баб притягивал, чтоб от меня дышало сексуальностью. (А куда, уже песок сыпется нахрен, хоть бы одну оформить…) И я одного еврейчика тут нашел, он красивый, Хайм, вот от него – да, дышало. Я ему говорю: "Хайм, я тебе заплачу, давай-ка ты подыши сексуальностью немного, поторгуй на ярмарке". Ну и вот он тыр-пыр, чуть не за зад их берет. И знаешь, как он продавал – обалдеть можно. Мгновенно!
И вот что интересно: если у тебя настроение плохое, я заметил, у тебя никто покупать не будет. Тут что нужно: улыбка, приятная, свежая внешность, ты должен быть приветлив. А если сядешь как бирюк, с похмельной рожей, не пойдет бизнес. Если ты американский торгаш, то должен быть мягкий, дипломатичный…
– Противно так улыбаться?
– Конечно, противно, но иначе ничего не заработаешь. То тут продадим, то там – на жизнь хватает. Меня даже один раз пригласили масоны торговать в свое здание! Так один масон деревянных яиц купил долларов на двести.
Но не весь разговор о деньгах; у Кулагина, как у всякого русского интеллигента, в особенности "шестидесятника", душа болит за народ:
– Почему в России таких craft show нет? Ведь у нас такие мастера! Если б тут Измайловский парк показать, вся Америка б сбежалась…
Художник на чужбине… На первых порах, когда Кулагин не знал, что умом Америку не понять, он думал, что все в жизни просто.
– Сделал я одну матрешку обалденную. Значит, там Рузвельт, Черчилль, Сталин, Гитлер, Хирохито, Муссолини. Все похоже, все профессионально, чисто исторически. Подходит один: "Ху из ит?" – "Ну ты что ж, не видишь? Рузвельт. Ты что…" – "А кто это, Рузвельт?" Потом клиент смотрит дальше и спрашивает так подряд: кто такой Черчилль и т. д. Я задумался: что за народ тут? А пять таких матрешек у меня купил все-таки один немец…
Но постепенно художник постигал новую страну, при том что общим аршином ее никак не измерить. Например, однажды в Америке Кулагин решил отметить Хеллоуин. Купил бутылку водки "Абсолют", причем перед самым закрытием, принес домой и сел за стол. А тут вдруг пришли незнакомые дети колядовать. Кулагин их усадил на диван, принес из подвала матрешек и подарил. Дети ушли. Кулагин опять за стол, а водки-то и нет. И ножа нет. А еще пропал кожаный плащ.
– Украли, сволочи! – сокрушается он. И делает вывод: – Поэтому-то американцы в дом к себе никого и не ведут.
Волей-неволей пришлось ему корректировать свой менталитет:
– Очень надо быть тут осторожным. Тут не трогай бабу, а то посадят! Чуть ее заденешь, сразу же арестуют. На улице пьяного поймают – оштрафуют на триста долларов. А домашнее пьянство – это пожалуйста, имеешь право. – Он спохватывается, чуть не забыл: – Я не пью, то есть пью, но если мерить по-российски, я вообще святой человек. Сидишь пьешь или работаешь – зависит от вдохновения. Я теперь выпиваю редко. Ну если только пива. У американцев же как? Если у тебя бизнес какой, дело, ты не должен пить. Потому что с похмельной рожей, запомни, ничего не продашь. Я даже на Новый год не пью шампанского. Родня собралась, подарки раздали, merry Christmas… Так хоть бы кто-нибудь вина подал. Шампанского не выпить! Сидели, сидели за столом, а никто не поругался, не покричал. Чайку попили, и все, страшная скука. Я не видел ни разу пьяного! Допустим, та же ярмарка: народу – тьма, праздник, музыка, а ни одного пьяного; что ж за люди такие… Хоть бы подрались, что ли, чтоб повеселиться.
Да вообще Кулагину в Америке попадается много удивительного. Взять хоть оригинальных прохожих.
– Идет баба, вроде нормальная, но с наколкой: Дракула летает, как в кино. Вся спина в ужасах. А сама идет, курит. Присмотришься – вроде нормальная, и дети у нее еще не татуированные. Или у многих в носу кольцо – это у них взято из культуры от индейцев.
Но в целом Кулагин американцев одобряет:
– Ценят искусство! Особенно русское. Русское искусство – оно очень сильное! Смотри, какие яйца я делаю. Они же обалденные, ну я, правда, и дорого беру. Что ты! Есть страшно богатые художники! А у одного, Володя его зовут, так дом с бассейном даже. Модерн рисует, какие-то кубики там, сам не пойму.
Словом Кулагин вполне отдает себе отчет в том, что предела совершенству нет и есть куда стремиться. Понятно, что он нашел себя и стал востребованным народным художником без вредных привычек. А жене каково жить с художником-иностранцем из опасной далекой страны?
– Не тяжело ли с русским мужем? – интересуюсь. – Американцы ведь такие чистенькие, умытые, такие послушные. А русские – от них столько беспорядка и лишнего беспокойства. А?
Но Ким на мужа не жалуется и рассказывает, что жизнью довольна. Она Кулагина, разумеется, страшно любит, но отнюдь не слепо, а нелицеприятной требовательной любовью:
– У Игоря есть дефекты, связанные с тем, что он пьет бесконтрольно. Но плюсов-то больше.
– И каких же?
– Он очень домашний, любит убирать в комнатах. Американские мужчины… Многие из них не любят жить с женщиной. У меня был первый муж – американец, я разведенная. Вы что, не знаете нашу культуру? Ну они, конечно, живут с женщиной, но временно. Не любят жить в браке, а любят без брака жить. У нас, американцев, есть такой дух: приключения, путешествия, свобода. Но для многих мужчин это значит, что они безответственны, они как дети, как русские мужчины. Хотя, – Ким сбивается и запутывается, – русские мужчины тоже как дети. У русских мужчин это еще хуже.
– Так все-таки какой муж лучше, русский или американский?
– Я не знаю… Но все-таки которые любят деньги, хуже тех, которые любят водку, – смеется.
Но Кулагин не смеется:
– Какая водка? Ведь к нам друзья не ходят. Русские, они все пьяницы. Скучно страшно. Вот можешь себе представить, что я всю Библию перечитал, с начала до конца, сижу разбираю. Втянулся так: древнееврейский народ, какие у него проблемы.
– Я так и не понял, тебе тут хорошо или нет? Ты Америку полюбил? спрашиваю художника.
Он от ответа уходит и говорит туманно:
– А я ее вижу? Я ж сижу дома. Языка толком не знаю. Вывернешь скулы, куда ж научиться. Я чужой человек для них… Боюсь куда ходить! Кстати, Кей-Джи-Би ихнее за тобой не следит? Я им почему-то не доверяю… Я их побаиваюсь. Всю жизнь была "холодная война", люди смотрят натянуто. Зайдешь в бар пивка попить, чувствуешь – стоит стена между нами. Ну вот хочется мне пообщаться, зайду в польский бар (тут много этнических поляков), так они смеются, вроде я из недоразвитой страны. Начали со мной спорить… Я там одному спорщику говорю: напиши мне закон Ома, раз ты электрик. Он не знает! Я ему написал формулу, а он смотрит бычьми глазами… Да, а что ж Россия? – спохватывается Кулагин, не бывший на родине шесть лет из экономии. – В экономике есть толчок? Что Невзоров-то говорит? Не будет к старому возврата? Ну тогда, значит, можно успокоиться и заняться своим здоровьем…