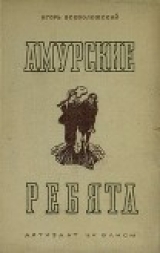
Текст книги "Амурские ребята"
Автор книги: Игорь Всеволожский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
На столе стоял самовар, на тарелках было разложено угощение. Гости разговаривали, но Павка ничего не мог расслышать. И Павке стало смешно: люди размахивают руками, смеются, а отсюда кажется, что они словно в кинематографе: губами шевелят, а ничего не слышно.
Остап сидел прямо против окна, нарядный, причесанный, и все расправлял свои пушистые усы.
По левую руку Остапа сидел Косорот, брат Глаши. Косорот так нравился Павке, что он даже своего любимца Сюркуфа представлял себе похожим на Косорота. Всем известно, что Косорот никого и ничего не боится. Вот таким, как Косорот, хотелось быть Павке. И еще он хотел быть похожим на брата, Петра. Вон он сидит рядом с Косоротом – ведь они неразлучные друзья, – коренастый, плотный, крепко сколоченный матрос с карими глазами. Петр очень умный и очень сильный, недаром его выбрали в судовой комитет.
По правую руку от дяди Остапа сидел его зять, рыжий комендор с «Грозы» Илюшка Зазвонов. Он только недавно, весной, женился на дочке Остапа Варе, и вся флотилия веселилась тогда на их свадьбе. Илюшку Павка любил: это был золото-парень, он вечно выдумывал что-нибудь – то новую приманку для рыбы, то какие-нибудь затейливые улочки, а один раз даже подарил ребятам-портовикам сделанную им самим из дерева скорострельную пушку. Пушка, правда, по-настоящему не стреляла, но зато здорово палила горохом.
Рядом с Илюшкой сидела Варя, его жена, курносая, черноглазая, похожая на девчонку. Ее часто вечерами встречал Павка на улице. Она ходила под руку с Илюшкой и с другими матросами и пела песни. Голос у нее был звонкий, пела она хорошо. Павка знал, что она служит где-то в городе в прислугах.
Рядом с Варей сидел Бережнов в старомодном костюме. Галстук у него тоже был старомодный: два голубых шарика, болтающиеся на голубом шнурочке. Он то снимал, то снова надевал свои очки, перевязанные веревочкой. Наверное, он говорил что-то веселое, потому что все смеялись.
Соседом Бережнова по столу был Гаврилов, рабочий тех же мастерских, что и Бережнов, отчаянный человек. К удивлению всех ребят, он переплывал без передышки Амур взад-вперед в тех местах, где и берега-то противоположного почти не было видно. Он любил возиться с ребятами, учил их плавать и играть на гитаре. Веснушки словно божьи коровки усеивали все его лицо, и ребята не раз принимались считать: сколько у него веснушек? Но на второй сотне сбивались и решали, что гавриловские веснушки никак пересчитать невозможно.
Павка прижался носом к окну и пытался разглядеть: кто же сидит спиной к окну, против дяди Остапа? Но в эту минуту дядя Остап заметил его и поманил пальцем. Павка завернул за угол и вдруг наткнулся на большую лохматую собаку. Он удивился: чья же это собака? У Остапа собак не было. Собака лежала у крыльца и даже не зарычала на Павку.
Павка быстро поднялся на крыльцо и вошел в темные сени. Толкнув вторую дверь, он очутился в «кают-компании».
– Где тебя носит? – спросил Павку из-за стола Петр.
– Седай, Павка, седай, – скомандовал Остап, и Петр подвинулся, освобождая для брата место. Павка сел на табурет. Варя улыбнулась мальчику, показав свои белые зубы, и протянула ему тарелку и вилку. «Что бы это мне съесть? – подумал Павка. – Конечно, гуся», решил он. На другом конце стола стояло большое блюдо, а на блюде – коричневый, блестящий, с пупырышками жареный гусь. Но полезть через стол за гусем Павка побоялся. Прямо перед ним, широко раскрыв рты, лежали три жирные, маслянистые селедки. Чуть подальше расположилась горка рассыпчатой вареной картошки, а посреди стола распласталась на блюде большая серебристая кета. Она была как живая, и казалось – вот-вот поднимет голову и шевельнет хвостом. Павка принялся есть селедку с картошкой. А Остап стал продолжать прерванный приходом Павки рассказ:
– В пятом году, як продали нас адмиралы, бились мы одни с целой японской эскадрой. О, це был бой, так бой! Как грянул японец по нас со всех своих броненосцев! Как ответили ему наши комендоры!.. «Не давай им передохнуть, братцы, не давай!» кричал наш командир. Горячий японский снаряд ударился в рубку и засыпал командира обломками. Кинулись мы к нему все разом, откопали. А японец все бил и все бил снарядами. Прямо под сердце осколком ранило друга моего Хоменку. За борт упал храбрый комендор Барсуков, убитый. Грянулся на палубу Иван Труба, бравый матрос-сигнальщик. И тогда порешили мы отдраить кингстоны. Вызвались на верную смерть два дружка, два Ивана. Опустились они на дно корабля, отдраили кингстоны и сбила их с ног холодная океанская вода...
Все помолчали. Потом Никита Сергеич сказал:
– А слыхали вы про японцев во Владивостоке? Говорят, скоро дойдут и до нас. До Москвы далеко, они и расхрабрились.
– Не дойдут, – сказал Гаврилов.
– Во Владивостоке тоже говорили – не дойдут, – возразил Бережнов. – А вот высадили десант, заняли город, развесили листовки...
Он вынул из кармана какую-то бумажку, поправил очки, положил бумажку на стол, разгладил ее рукой и стал читать:
Объявление командующего японской эскадрой.
Граждане.
Я, командующий японской эскадрой, питаю глубокое сочувствие настоящему положению России и желаю немедленного искоренения междоусобиц и блестящего осуществления революции.
– Видали, как завернуто? – усмехнулся Петр. – Японский адмирал, значит, с нами, за революцию.
Бережнов из-под очков поглядел на Петра и продолжал читать – медленно, напирая на «о»:
Однако, глубоко встревожась и увидя, что в городе не наблюдается порядка, я не мог не беспокоиться о жизни и имуществе проживающих в городе подданных Японской империи.
– Ого! – сказал Косорот. – Читай, читай дальше.
К сожалению, ныне в городе произошли среди бела дня неожиданное убийство и ранение трех японцев...
– Сами же и ухлопали, – поднял глаза из-под очков Бережнов.
...что заставило меня принять на свою ответственность защиту жизни и имущества подданных Японской империи, и, следовательно, я принужден высадить десант с вверенной мне эскадры и принять меры.
– Ясно! – сказал Гаврилов. – Все?
– Нет, не все. Тут еще приписка:
Еще раз заявляю, что горячо питаю глубокую дружбу и сочувствие к русским властям и к русскому народу и у меня нет иной мысли и желаю, чтобы русский народ ни о чем не беспокоился и, как обыкновенно, занимался своими делами.
Командующий японскою эскадрою контр-адмирал
Хирохару Като.
Бережнов аккуратно сложил японскую листовку в убрал в карман.
– Дружбу питает! – хлопнул Косорот кулаком по столу так, что задребезжала посуда.
– Сочувствует! – сказал Петр. – С белой гвардией спелся – с Калмыковым. Наш Приамурск хочет занять. Дружбу! Питает!
– Не только наш город хочет занять, – спокойно сказал Бережнов. – Все Приморье занять хотят, весь Амур. Нагонят желтых мундиров, заполнят весь край. Край-то богатый, богатств в нем видимо-невидимо, вот и зарятся: а не сумеем ли оторвать кусок у Советской России?
– А я сегодня солдата в желтом мундире видел, – вдруг выпалил Павка.
– Ну что, дурак, брешешь? – сердито оборвал его Петр.
– Ничего не брешу... – тихо сказал Павка.
Все засмеялись, только Бережнов спросил:
– Где видал?
– На острове, в шалаше, – ответил Павка.
– Да ну его, не слушай, Никита Сергеич, – сказал Петр. – Начитался своих пиратов, померещилось. Он такого бывает напридумает, что уши вянут.
– А ведь очень может быть, – сказал Бережнов, – что они подойдут неслышно, окружат и...
– Никита Сергеич, милый, – сказал Гаврилов. – Тут, можно сказать, вроде именины, а ты японцами пугаешь.
– Расшибем! – крикнул вдруг Косорот, вставая из-за стола.. – Пусть только сунутся!
– Ясно, расшибем! – крикнул Петр.
– Погоним до самого Японского моря! – закричал Митроша, сигнальщик с «Грозы», сидевший против Остапа.
– Ну чего вы раньше времени раскричались? – сказала вдруг Варя. – А ты чего встал? – спросила она Косорота. – Выпили бы, закусили бы...
Косорот снова сел. Петр положил Павке на тарелку толстый розовый кусок кеты. Никита Сергеич хитро улыбнулся, поправил рукой очки и сказал:
– А ну тогда, молодые, горько!
Все захлопали в ладоши и засмеялись. А Варя покраснела и сказала:
– Да ну вас, не надо...
«Ну, чего тут особенного? – подумал Павка. – Взяла да и чмокнула. Удивительно!»
Илюша и Варя встали, и Варя подставила мужу щеку.
Илья, вытянув губы бантиком, слегка приложился к щеке.
«Давно бы так», подумал Павка, отправляя в рот кусок розовой рыбы.
Павка презирал поцелуи, он никогда и не знал их. Мать его умерла давно, на Волге, от сыпного тифа, он ее еле помнил. Сестер у него никогда не было, а Петр был не таков, чтобы заниматься нежностями. Павка видел, что девчонки, встречаясь, непременно целуются. Девчонкам он это прощал, но когда взрослые люди занимались подобными глупостями, Павке становилось смешно.
Митроша вдруг поднялся из-за стола и сказал:
– Я вам сейчас гостя приведу.
Он вышел на улицу и вскоре вернулся с большим лохматым медведем. Мишка стал на пороге и начал кланяться налево и направо. Тут Павка понял, что собака, лежавшая под крыльцом, была вовсе не собака, а медведь.
– Мишка! Мишка! – закричали все. – Покажи, как Митроша на гулянку идет...
Митроша выучил корабельного медведя самым занятным штукам. По воскресеньям он сходил на берег вместе со своим четвероногим другом, и медведь все время ходил на задних ногах, совал лохматую лапу под руку Митроше и преумильно склонял треугольную шерстяную голову к нему на плечо. Их сразу же окружали и взрослые и ребята, и медведь начинал показывать, как матрос идет на парад, отдает честь начальству, пьет водку, идет в лазарет лечиться. Дойдя до этого номера представления, медведь начинал охать и хвататься за бок.
– Знаменитый медведь-юморист, – объявил Митроша как в цирке, – Михайло Потапыч с «Грозы» представит вам новый номер совершенно исключительной важности. Михаил Потапыч, прошу.
Тут только все увидели, что у медведя на боку висит брезентовая сумка, такая, какую носят почтальоны.
Митроша хлопнул в ладоши и запел так, как поют бродячие певцы на базаре:
Миша тихий, не кусает, только счастье вынимает.
Миша счастье достает и людям его дает.
– А ну, Миша-друг, достань-ка счастье самому главному, самому усатому, самому богатому...
Медведь скосил свои рыжие бусинки-глаза, мотнул головой и вразвалку направился к дяде Остапу.
Павка оставил еду и вскочил на табурет. Медведь достал из сумки какой-то голубенький листок. Остап оторопело смотрел на медведя. Он даже откинулся назад, и усы у него поднялись кверху.
– Бери, бери, не бойся, – сказал Митроша. Он взял листок у медведя и протянул Остапу.
Остап расправил усы и взял голубую бумажку. Развернув ее своими большими волосатыми пальцами, он медленно прочитал: «Жить тебе сто лет, хочешь или нет».
– Вот це закручено! – в восхищении сказал Остап. – Вот це добре! Ну и выдумщик ты, Митроша. А ты, Михайло Потапыч, – обратился дядя Остап к медведю, – ты гарный Михайло. Варвара! Сбегай-ка в камбуз, принеси Мишке вечерять...
– Сейчас, батько, – сказала Варя и пошла на кухню. Илья отправился за ней.
– А теперь, Миша, – сказал Митроша, – подай счастье самому малому да самому удалому. – И он пошел прямо к Павке. Павка оцепенел. Медведь смотрел на него веселыми умными рыжими глазками.
– Ну, доставай, Миша, не ленись, – сказал Митроша.
Медведь достал розовый листок.
– Бери, бери, не бойся, – подбодрил Павку Митроша, и Павка взял листок. Он развернул его. На листочке была наклеена картинка, вырезанная из какого-то журнала. На картинке военный корабль шел полным ходом. Из труб валил черный дым. Флаги развевались на мачтах. А на мостике стояла какая-то фигурка. Фигурка была пририсована чернилами. Павка вгляделся и узнал в фигурке себя в капитанской форме.
Под картинкой была написана красными чернилами подпись:
Капитаном, Павка, будешь —
Нас с медведем не забудешь.
Митроша.
– Петя, гляди, что написано, – сказал Павка, протягивая картинку брату. Сердце у него замерло. Он был твердо уверен, что это предсказание, поднесенное медведем, обязательно когда-нибудь сбудется. Павка размечтался. Как во сне он слышал смех, возгласы и какие-то обрывки стихов, – очевидно, медведь продолжал разносить счастье. Когда Павка очнулся, брат держал его за плечи и спрашивал:
– Ты, Павка, чего? Вина не пил, а пьяный.
– Нет, я ничего, Петя, я так. Где мое счастье?
– Вот твое счастье. – Петр подал Павке картинку.
Павка тщательно припрятал ее под тельняшку. А медведь уже стоял против Косорота, и Косорот кричал на Митрошу не то шутя, не то сердито:
– Ты что ж это – насмешки строить? Над механиком?
Косорот вдруг обхватил Митрошу поперек туловища.
– Вот я тебе покажу насмешки! – Он легко, без усилия, поднял Митрошу. Сигнальщик замотал ногами в воздухе.
– Расшибу! – загудел Косорот. – Ой, дьявол, новые штаны! – вдруг отчаянно крикнул он и с размаху опустил Митрошу на пол.
– Палубу проломите, хлопцы, – сказал Остап.
А медведь, вступившийся за своего друга, внимательно осматривал свою лапу: в когтях он держал клок новых Косоротовых штанов. На крик вбежали Илюша и Варя. Варя принесла миску с едой и поставила ее перед медведем. Медведь обрадовался и, став на четвереньки, чавкая совсем по-собачьи, стал есть.
А Гаврилов снял со стены гитару, повязанную розовой шелковой ленточкой. Он приготовился петь. Все затихли. Больше всех любил пение Гаврилова Павка: ведь он и сам играл на гитаре. Гаврилов ударил по струнам и запел:
Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...
И все грохнули разом:
Сени новые кленовые...
Когда допели эту песню, Остап сказал:
– Спевай мою любимую, про кочегара.
Гаврилов встал. Лицо его стало серьезным. Он взял несколько аккордов и запел:
Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали.
Товарищ, мы едем далеко,
Далеко от нашей земли...
Остап расправил свои пушистые усы и загудел густым басом, подпевая Гаврилову:
Товарищ, мы едем далеко,
Далеко от нашей земли...
Остап глядел куда-то вдаль затуманенными глазами. Наверное, он вспоминал сейчас свою молодость, свою матросскую службу и своих дружков-матросов. Он видел себя молодым, бравым боцманом, которому все было нипочем: и бурное море, и выстрелы, и сражения.
Варя смотрела на мужа преданным взглядом. Ее быстрые глаза вдруг притихли и точно засветились. Ее курносое личико стало даже красивым.
Гаврилов пел. Он стоял, широко расставив ноги в широких, сшитых клешем штанах. Косорот подтянул припев. Дребезжащим, старческим голоском запел и Бережнов. Даже Петр, никогда не умевший петь, стал подтягивать: один мотив – без слов.
Напрасно старушка ждет сына домой, —
с чувством пел Гаврилов, —
Ей скажут, она зарыдает...
Все подхватили последний куплет:
А волны бегут и бегут за кормой,
И след их вдали пропадает...
Гаврилов отложил в сторону гитару – песня кончилась. В «кают-компании» стало тихо. Все словно замерли, и каждый думал о чем-то своем, заветном. Было слышно, как на реке загудел пароход и затих. Потом донесся визгливый свисток паровозика: это в мастерских работала ночная смена. Остап крутил ус, засовывал его в рот и жевал. Петр смотрел куда-то в стену. Он весь подобрался, сжался, лицо его было печально. Павка понял, что думает он о жене, об Анне (женился он, когда ездил на побывку, в Нижнем). Павка никогда Анны не видел. Однажды она прислала письмо, что выезжает на Амур к мужу. С тех пор прошло полгода, а Анна не доехала до Амура. Между Нижним и Амуром было много фронтов, пассажирские поезда ходили плохо. Петр писал письма в Нижний, никто не отвечал. Он все думал, что Анна где-нибудь совсем близко, он каждый день ждал ее приезда, но Анна не приезжала...
Медведь лежал возле пустой миски, положив голову на лапы, и, казалось, спал.
– Был у нас адмирал, – вдруг сказал Остап. Он всегда начинал неожиданно свои рассказы. – О, це был адмирал, так адмирал! Всем адмиралам адмирал. Чуть матрос зазевается – сейчас матроса по зубам. Чуть матрос оплошает – сейчас кроет матраса последними словами. И вот однажды порешила наша братва над адмиралом пошутить. Купили мы в кругосветном плавании в складчину крокодила. Крокодил не крокодил – крокодилыш, вот такой. – И Остап раздвинул руки, показывая, каких размеров был купленный крокодил. – Ну, добре. Притащили его контрабандой на корабль. Только денщик адмиральский зазевался, мы туда-сюда, воды напустили и крокодилыша в адмиральскую ванну – бултых. А адмирал как раз купаться собрался. Ну, добре. Ждем. Заходит в ванную адмирал. Вдруг выскакивает из каюты голый-преголый, в чем мать родила, посинел весь со страху, кричит, як гудок-сирена, чуть с перепугу за борт не сиганул. Ну, мы туда-сюда, стали ловить голого адмирала. Он – от нас, мы – за ним, он – от нас, мы – за ним. Скользкий, мокрый – пойматы трудно. Ну, поймали, потащили в каюту, будто не знаем, что там такой-сякой крокодил купается. «Ваше превосходительство, – говорим, – пожалуйте в ванночку, чего вы труситесь, як заяц?» А его превосходительство кричит, ногами лягается. Зубы стучат. Заикается. «Т-т-там, – орет, – к-к-крок... кодил... братцы, там крокодил купается!»
«А у нас был матрос такой, Хоменчук... Он уж умел такое словцо сказать... Так вот он и говорит... – Тут Остап сделал хитрое лицо и поднял палец кверху. – Он и говорит...»
Но что сказал Хоменчук, никто так и не узнал.
Медведь поднял голову и посмотрел на дверь. Дверь распахнулась. На пороге стоял кок «Грозы», рябой, с лицом, тронутым оспой, Василий Шагай.
Кроме варки обеда и ужина, кок наряду с другими матросами отстаивал вахту. Сейчас он только сменился.
– Товарищ Сокол, японцы близко, – сказал кок, ни с кем не здороваясь,
Петр встал.
– Ну! – сказал Косорот. – Японцы во Владивостоке! Какие там японцы! Садись, – и он указал Василию на табурет.
– Японцы под самым городом, товарищ Сокол. Идет их несметная сила! – крикнул Шагай, не садясь.
– Откуда слыхал? – быстро спросил Петр.
– Катер «Дозорный» пришел.
– Товарищи, на корабль! – скомандовал Петр.
Все вскочили из-за стола. Петр уже надел бескозырку и накидывал на плечи бушлат.
Матросы мигом оделись, Митроша прицепил цепь к ошейнику медведя. Медведь встал на задние лапы. Варя подошла к Илье.
– А я как же, Илюша?
– Если уйдем в поход – прощай, – просто сказал Илья. Он обнял и поцеловал Варю, поцеловал как-то совсем по-иному, не так, как тогда, когда кричали «горько».
– А ты, Павка, марш домой, – сказал Петр, уходя. – Нечего тебе шататься.
Павка вышел на темный пустырь последним. Ночь стояла темная, безлунная и беззвездная. Он оглянулся и увидел освещенное окно Остапова домика. Варя, прижавшись лицом к стеклу, вглядывалась в темноту. Остап ходил по комнате и размахивал руками.
Павка хотел было уже бежать к дому, как вдруг в темноте столкнулся с Косоротом.
– Павка, постой! Есть разговор.
Разговор? У храброго Косорота есть разговор с Павкой? Павка насторожился.
– Мне нонче домой уж не успеть, – сказал Косорот. – Если уйдем мы в поход, ты к Глашке зайди, скажи, чтоб не беспокоилась. Да сведи ее к Гаврилову. Он за ней присмотрит. Понял?
– Понял, – ответил Павка.
– Ну, ну. Не забудь, смотри, – сказал Косорот и исчез в темноте.
Павка побежал через пустырь к халупам. Вдруг небо осветилось ярким пламенем. Огненный дождь рассыпался высоко над Павкиной головой, и золотистые капли покатились по черному куполу во все стороны.
«Ракеты пускают, – подумал Павка. – Тревога».
За оградой мастерских в темноте заметались факелы. Они передвигались то взад, то вперед, чертя огненные полосы по черному небу, а потом собрались все вместе, и над ними в небе образовался оранжевый след. На реке, под обрывом, задвигались фонари – зеленые, желтые, красные. Павка понял, что это снуют катера. На клотиках кораблей замигали перемежающиеся огоньки – корабли разговаривали между собою световыми сигналами. Павка не все понимал еще в сигнализации, но он понял, что разговор был тревожный. Замелькали сигналы и на высокой портовой мачте. Заискрилась мачта беспроволочного телеграфа.
Что-то тревожное происходило в порту, в городке, на кораблях. Вдруг отчаянно завизжали сразу несколько паровозиков. Они продолжали визжать минуту, другую, третью, и, казалось, вся ночь наполнилась тревожным их визгом. Загудел большой гудок портовых мастерских. Мимо Павки стали пробегать темные тени, они стремились в порт, к чугунным воротам. Любопытно было посмотреть, что же там происходит.
Павка побежал за ними. У ворот его остановил часовой.
– Куда? Нельзя.
Павка удивился. Всегда часовой здоровался с ним и пропускал беспрепятственно в мастерские.
– Мне бы к Никите Сергеичу. К Бережнову, – сказал Павка.
– Не до тебя, пацан, – сказал часовой сердито. – Катись, катись.
Каких-то трое людей вышло из ворот. Они оживленно разговаривали и размахивали руками. До Павки донеслись обрывки разговоров:
– На японцев работать?..
– Драться надо...
– Артиллерия, снаряды, а у нас...
– «Гроза» уходит... будут на реке биться...
Люди исчезли во тьме. За воротами поднялся шум и крик. Теперь уже паровозы не визжали и гудок не гудел. Многоголосо кричали и спорили рабочие портовых мастерских.
Павка стоял в темноте. Стало холодно. Он ничего не мог понять толком. Факелы стали гаснуть один за другим. Павка повернул и пошел к дому.
Перед своею халупой он в удивлении остановился. В халупе горел свет.
«Что бы это значило?» подумал Павка и вошел в халупу.
Петр с вещевым мешком в руке разговаривал с Бережновым. Павка даже не узнал сразу Бережнова: так переменился за несколько часов старик. Он словно похудел, да и морщин на лице стало больше.
– Товарищ Ленин нас в беде не оставит, – сказал он Петру.
И вполголоса добавил:
– В подполье уйдем.
Он снял простые, стальные, перевязанные веревочкой очки, протер их платком, снова надел на переносицу и пошел к двери. Потом вдруг вернулся, крепко обнял Петра, поцеловал в губы и, слегка сутулясь, вышел на улицу.
Братья остались одни.
– Надолго? – спросил Павка брата.
– Чего надолго?
– Уходишь надолго?
– Ухожу-то?
Петр внимательно посмотрел на Павку.
– Не знаю, Павка. Может – надолго, может – нет. А только пора тебе привыкать к самостоятельной жизни. Довольно лодыря гонять. Я в тринадцать лет баржи на Волге грузил, всю семью кормил. Завтра пойдешь к Бережнову в порт, он тебе работу найдет. Понял?
– Понял, – ответил Павка. – А ты... ты, значит, не скоро придешь?
– Не скоро, – ответил Петр. – Ложись спать.
– Погоди, – остановил он Павку, который начал стлать постель. – Если Анна приедет, передашь ей вот это письмо.
Он протянул Павке незаклеенный конверт.
– Спрячь получше.
Павка спрятал конверт под подушку, лег на койку и укрылся бушлатом. Вдруг где-то очень далеко, за сопками, глухо ударило орудие. Петр встал, вышел на порог, прислушался. На дворе стояла ночь, глухая, темная, тихая. Он притворил дверь, подошел к Павке, укрыл потеплее, пошевелил рукой Павкины вихры и дунул на коптилку. Стало темно. Хлопнула дверь, и Павка понял, что Петр вышел на улицу. Павка решил не спать, но глаза его стали слипаться сами собой, и он заснул...








