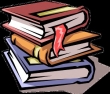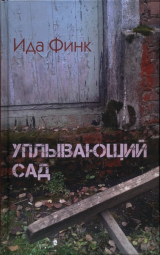
Текст книги "Уплывающий сад"
Автор книги: Ида Финк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Маленькое, старомодное кафе. Сдавая в гардеробе пальто, она заметила на стене уже пожелтевшую афишу оперы «Дон Жуан». Отвела взгляд, спустилась по ступенькам в зал, мягко подсвеченный канделябрами и наполненный дымом. Пахло свежезаваренным кофе. Она присела за столик с тонкими рахитичными ножками, неуверенно и неудобно стоявший на самом проходе.
Официантка терпеливо ожидала, пока она сделает заказ. Она никак не могла решиться, ничего не хотелось. Рядом, в нише у окна, на столике стояли маленькие чашки и яблочный пирог со взбитыми сливками. Так что она заказала эспрессо и пирог. Взгляд остановился на сидящей у окна паре. Она рассматривала их жадно, так, как раньше не решилась бы ни на кого смотреть. В последнее время ей часто случалось с такой ненасытностью разглядывать близость двух людей. Она изучала их движения, взгляды, улыбки. Их близость. «Прекрати, так нельзя», – сказала она себе, тщетно. Она не могла прекратить, не сводила с них глаз. Они не обращали на нее внимания: мужчина, склонившись к женщине, что-то объяснял тихим голосом, достал из кармана блокнот, вырвал листок и написал несколько слов. Она прочитала, рассмеялась, а он взял ее руку и приложил к губам.
Она увидела его глаза, наполненные теплом. Перехватило дыхание, она поспешно открыла сумочку в поисках лекарства.
Эльвира стояла у входа, в короткой шубке, темные волосы обрамляли ее лицо. Они поцеловались. Тактичная Эльвира сказала только:
– Как хорошо, что ты приехала… Почему ты села так неудобно, на самом проходе?..
– Потому что все столики заняты…
– Как это? Вон тот у окна, в нише, ведь свободен… Пойдем, пересядем, там будет лучше.
– Я не заметила, как он освободился…
«Мы уже ушли в оперу», – сказала она себе. Посмотрела в окно и увидела их, удалявшихся вдоль берега озера. Они держались за руки. Она ощущала тепло его ладони.
Мой первый конец света
Mój pierwszy koniec świata
Пер. С. Арбузова
Весть о том, что ожидается конец света, принесла с рынка Агафья. Она ввалилась в кухню, запыхавшаяся, бледная, бросила сумку с продуктами в угол и крикнула матери испуганным голосом: «Вы знаете, на рынке говорят, что через месяц будет конец света!»
В этот день варили варенье: кухня пропахла сладкой малиной, и мама как раз собирала с поверхности закипевших ягод розовый «шум» – легкую пенку, которую, хоть она и вкусно пахнет, следует снимать, чтобы сироп получился прозрачным.
Вопли Агафьи мама восприняла спокойно. Не переставая снимать зловредную пенку, она сказала с мягким упреком:
– Но, Агафья, кто же верит в эту дурацкую болтовню…
– Дурацкая болтовня? – заартачилась Агафья. – В газетах написано, люди читали, ксендз в деревне с амвона объявил, на рынке паника, люди головы потеряли, а вы говорите – дурацкая болтовня. – Маленькие некрасивые глаза Агафьи, подернувшиеся слезами, заблестели от гнева. – Я знаю, вы ученая, но одно дело – наука, а другое – божественный приговор, – добавила она и трижды перекрестилась.
Мать улыбнулась, но не ответила. Спорить с Агафьей не стоило.
– А что будет потом? – спросила моя младшая сестра.
Мы стояли рядом с мамой в ожидании сладкой, нежелательной для варенья пенки – нашего любимого лакомства.
– Ничего не будет! Ничего! Ни человека, ни животных, ни растений, ни….
– Достаточно, Агафья, – прервала мама. Творческие наклонности Агафьи иногда ее забавляли, но не сегодня. Сейчас мама говорила резко, решительно. И нам так же решительно сказала: – Брысь отсюда…
Мы схватили миску с розовой пенкой и побежали в садовую беседку, к Войцеху. На круглом столе лежала колода карт – то был период игр в очко и шестьдесят шесть.
– Что-то случилось? – спросил Войцех.
– Через месяц будет конец света. Агафья вернулась с рынка. На рынке ужас. Люди головы потеряли. В газете была статья… Но все это, конечно, чушь…
– Почему чушь?
– А ты веришь в конец света? – спросили мы с легким беспокойством. Войцех был для нас непререкаемым авторитетом.
– И верю, и не верю. Поживем – увидим…
– Потому что мы верим нашей маме, а не Агафье. А мама говорит, это чушь.
– Поживем – увидим, – повторил Войцех.
Мы молча ели розовую пену. Она была сладкой и липла к губам. Пустую тарелку облепили пчелы.
– Жалко было бы, – внезапно сказал Войцех, после чего принялся раздавать карты, но внезапно бросил их на стол и побежал к себе домой.
* * *
После разговора с мамой о теории возникновения мира и о газетных «утках» в мертвый сезон принесенная Агафьей новость поблекла: еще день, еще два, и о ней почти забыли. Почти… Несколько раз о катастрофе вспоминал садовник – он был родом из Франции и ел лягушачьи лапки, да Войцех изредка прерывал игру в карты, высовывал голову из беседки и, оглядевшись вокруг, объявлял: «Все в порядке, мир как стоял, так и стоит».
Мы от всей души смеялись этой шутке.
Только Агафья ходила понурая, бурча что-то под нос, и каждый вечер бегала в церковь.
Мир действительно был прекрасен: под августовским жарким солнцем дни каникул тянулись лениво, один как две капли воды похожий на другой, и река покрылась мясистыми, но нежного цвета водяными лилиями. Как обычно летом, приехали передвижные театры: польский и украинский. В зале «Сокола» играли Фредро[110], в украинском доме культуры – Лесю Украинку. После отъезда театров приехала, как каждый год, чтица: выдающихся размеров дама со звонким и звучным голосом. Этот голос звонил колоколом, чирикал птичкой и выражал самые разные состояния: радость, грусть, раздумья. «Мастер оно-ма-то-пеи» – уважительно говорили о чтице в городке. В длинном белом платье, она стояла на сцене будто статуя. Рукава-воланы, кружевной воротничок, лицо точно вырезано из камня. Ее звучный голос гремел как гром. У нее было амплуа чтицы серьезной и трагической.
Я сидела в самом центре переполненного зала – одна. Мама не разделяла всеобщего энтузиазма по поводу артистки, а у сестры болело горло. Войцех поэзию не признавал.
Артистка склонила голову, переждала шквал аплодисментов и начала: «Нам велели не стрелять…»[111] – и замолчала, поскольку в этот самый момент ослепительные вспышки одна за другой замелькали за окнами, свет погас и ударил гром. Близко. На долю секунды зал замер, а потом поднялась суматоха – в темноте послышались плач и крики. Гром продолжал грохотать. Чтицу увели со сцены. Толпа бросилась к выходу, одновременно хлынул ливень, хлеставший под порывами ветра в окна и двери. Завхоз из нашей гимназии, в шапке с козырьком и высоких сапогах, заслонял дверь.
– Люди! – кричал он. – Ветер не дает открыть, за дверью молнии, за дверью потоп, за дверью конец света…
Я задрожала. Быстро подсчитала. Предсказанный Агафьей конец света опоздал на четыре дня.
* * *
Гром утих, ливень прекратился, только небо прорезали немые, бледные вспышки. По круто уходящей вниз улице неслись потоки желтой воды, воздух пах непривычно, резко и имел странный желтый цвет. Небо тоже было серо-желтым, по нему бежали желтые тучи, желтые деревья стояли вдоль дороги. Весь мир пожелтел.
Я подумала: ну вот и все. Так выглядит мир после конца света – он желтый и мокрый. Я набрала в легкие резко пахнувший воздух. Вдали в желтой мгле исчезали силуэты разбегавшихся по домам любителей поэзии. Вокруг никого не было. Я лениво брела среди желтых потоков и прибавила шаг, только когда увидела маму. Она бежала ко мне на помощь. В одной руке держала большой черный отцовский зонт, в другой – мой дождевик. Она кричала. Я не понимала, что она кричит. Я не сводила глаз с перекинутого через мамино плечо моего зеленого плаща. У плаща был цвет надежды.
* * *
В доме горели все лампочки. Электростанция уже работала. Отец и младшая сестра ждали на веранде. Они обняли меня, будто я вернулась из далекого путешествия.
Агафья, все еще угрюмая, стояла на пороге кухни и молчала.
Я подошла к ней и сказала – одновременно чувствуя, что говорить это не следует:
– Ну так что, Агафья? Теперь уже можно не бояться? Конец света позади…
– Не смейся, – резко ответила она. – В этот раз прошел стороной, но он еще придет, еще придет… вот увидишь…
Тошнота
Mdłości
Пер. И. Лаппо
Она хотела поехать на вокзал прямо из аэропорта. В этом городе ее ничего не интересовало, кроме вокзала, первого перрона, зала ожидания второго класса и туалета, в который нужно было спускаться по лестнице. Она странно себя чувствовала, какая-то тошнота и легкое головокружение, – неуверенно переставляя ноги, она шла к машине, у которой их ждали Ян с женой, Юзеф уже здоровался с ними, говорил что-то веселое, все смеялись…
«Первые шаги в этой стране, – подумала она и тут же сама себя отругала. – Только не устраивай спектакль…»
Это тоже было странно – что она использовала выражение «только не устраивай спектакль», так она обычно говорила себе в те времена, когда ее охватывало отчаянье. Потом она никогда не использовала это выражение, никогда – оно относилось к прошлому. И вдруг само всплыло из глубин на поверхность. «Только не устраивай спектакль», – сказала она Ядвиге, при виде приближающегося к ним Шуцмана.
– Дорогая, давай быстрей, ах, как же я тебе рада! – воскликнула Мира. Она тоже была рада Мире и Яну и их встрече после стольких лет. Мира и Ян – старые, самые близкие друзья молодости, которые теперь жили здесь, в этом городе, возможно даже недалеко от вокзала, где они тогда едва не…
Она хотела сказать: «Пожалуйста, давайте сначала поедем на вокзал», – но постеснялась. И не хотела признаться, что приезд в этот город, в который она только что спустилась с небес, вызвал у нее легкую тошноту. По дороге из аэропорта, когда ехали через лес, ей стало лучше. От внешнего мира ее отделяли стенки машины, она была среди своих, все они, запертые в этой жестяной коробке, были вместе. Уже на границе города она как бы невзначай спросила, не будут ли они проезжать мимо вокзала, но оказалось, что нет, Ян с женой жили, слава Богу, совсем в другом районе, потому что окрестности вокзала – это ужас что такое.
– Зачем тебе вокзал? – спросил Ян, но Мира помнила.
– Ах, точно-точно, вы ведь тогда здесь чуть не попались, я совсем забыла, что это тут… – сказала она. И будто маленькому ребенку: – Завтра, дорогая, мы поедем на вокзал, поедем все вместе, посмотришь на то место, где не оценили твои актерские способности… – Мира помнила.
И Ян что-то припомнил:
– Это была какая-то выходка Анны, да? Подожди… или это с тем Шуцманом? Что ты ему тогда сказала?
Говорить на эту тему она не хотела, хотела только посмотреть. Мира, как всегда, мгновенно сориентировалась и, как всегда, сухо, но совершенно по делу заметила:
– А нельзя ли поменьше эмоций… более отстранение? Ведь тридцать лет прошло…
Ян ни с того ни с сего сказал:
– Когда мы сюда приехали, то в первые годы любой мужчина после сорока вызывал вопрос – что он тогда делал. До сих пор иногда… но уже реже…
Ян с женой жили в красивом районе. «Тихо, зелено, в сущности, – мысленно признала Анна, – мило». Но, едва выйдя из машины, снова почувствовала, как сжимается желудок, и еще какую-то странную скованность. Она с трудом передвигала ноги. Ян поставил машину в гараж, сверкавший чистотой дворик со всех сторон окружали кусты.
На лестнице они разминулись с парой среднего возраста, Мира сообщила им, что приехали друзья.
– Соседи, – объяснила она потом.
– Вы общаетесь?
– Ну так далеко мы не заходим. Но отношения добрососедские. Небольшие одолжения, вежливость… – И спустя минуту добавила: – Ты забываешь, что мы здесь живем.
В большой гостиной Анна подошла к окну. Вид открывался широкий – парки, скверы, виллы с эркерами, сецессион и модерн, мягкие теплые краски, тишина. Хорошо.
Она стояла у окна и смотрела, хотела проверить, почувствует ли любопытство, которое всегда охватывало ее после приезда в незнакомое место. Обычно сразу по прибытии ей хотелось идти и смотреть.
Нет. Этот город ее не интересовал.
– Мне очень у тебя нравится, – сказала она Мире, которая показывала ей квартиру. – И я вовсе не собираюсь никуда больше идти.
Сказав это, она, конечно, себя выдала, и Мира все поняла:
– Конечно, дорогая, ты ведь приехала к нам, а не город осматривать.
– И на вокзал не хочешь? – насмешливо уточнил Ян.
Они относились к ней как к маленькому ребенку и были правы. Она вела себя не-ра-зум-но.
* * *
После ужина Ян повел Юзефа на вечернюю прогулку, она осталась с Мирой наедине. Они пили чай и говорили о давних временах, и о хороших – совсем уж давних, и о плохих – все еще слишком близких, хотя прошло столько лет. Иногда замолкали на полуслове и долго молчали. Иногда смеялись от всего сердца, как умели смеяться раньше.
Они вышли на балкон подышать. Повеяло свежестью, их окутал какой-то незнакомый, наверное, присущий этому городу запах. Череда огоньков тянулась вдоль аллей, над центром города нежно розовело небо.
А тогда было темно, ни огонька, выли сирены, возвещая отбой тревоги. Она стояла под каменным портиком, на привокзальной площади ни души, в глубине – мертвые, глухие дома.
– Я замерзла, – сказала она Мире, и они вернулись в комнату.
Спать она легла рано, сквозь сон слышала, как вернулись мужчины, их оживленные голоса, и чувствовала, что ее слегка, совсем чуть-чуть, подташнивает.
* * *
На следующее утро Юзеф решил:
– Значит, сначала на вокзал, тебе нужно с этим разобраться, но предупреждаю – тебя ждет разочарование, ты не найдешь того вокзала… А потом мы пойдем…
Она не слушала, куда он хотел потом пойти. Думала – меня тошнит, мне не интересен этот город.
– А как же кофе? – настаивала Мира. – У меня низкое давление, и в одиннадцать мне обязательно нужно выпить кофе…
Они поехали на машине. Ян вел резко, на поворотах на нее накатывали волны тошноты, накрапывал мелкий летний дождик.
Они вошли через главный вход, там, где каменный портик, и Анна сразу же спросила единственный ли это зал.
– Спокойно, – остудил ее Ян, – не спеши, с памятью надо осторожно…
Он был прав, вопрос был излишним, это был тот самый зал. Длинный ряд билетных касс исключал ошибку. Она тогда купила билеты в окошке у самых перронов, мрачный кассир посмотрел на нее неприветливо, но аусвайс не потребовал. Было два часа ночи, больше никто билеты не покупал. Он подошла к окошку ближайшего перрона, там сидела девушка с невыразительной внешностью, в очках, не страшненькая, но и не красавица. Наверное, ей столько же лет, сколько мне было тогда, подумала Анна и поспешно отошла. Она остановилась посреди зала, у самого киоска. Тогда киоска не было, а теперь есть. Стоит – навязчивый, наглый, разноцветный. Она закрыла глаза. Со стороны перронов наплывала толпа пассажиров, ее толкнули раз, другой, она прислонилась спиной к разноцветной стене киоска, к большому, многократно повторенному на обложках журнала лицу Софи Лорен. Закрыла глаза, но это не помогло. Правда, зал (под веками) опустел, яркий свет погас, но что с того? Вульгарный киоск, пестрящий коллажем из красоты актрис и наготы танцовщиц, стоит, как крепость, и не шелохнется. Он не пускает Анну на ее место, не позволяет сунуть Шуцману прямо под нос билет, купленный у мрачного кассира, не позволяет возмущенным тоном произнести ту безумную реплику: «Mein Mann ist an der Front»[112]. Он не собирается уступать Анне место, которое как-никак в этот момент принадлежит ей по праву.
– Это здесь? – спрашивает подбежавший Юзеф, его встревожили закрытые глаза Анны, прислонившейся к лицу Софи Лорен и телу темнокожей танцовщицы.
– Это здесь, прямо в центре зала, здесь, где киоск.
– Я тебя предупреждал… – говорит он и тут же добавляет, что зал ожидания второго класса находится в конце коридора.
Юзеф уже все разузнал, он хочет уберечь Анну от ненужных поисков, расспросов. Хочет провернуть все поживее и как можно быстрее покинуть территорию вокзала – подобно Мире он не любитель вызывать духов и проводить следственные эксперименты.
Анна:
– Значит, в этом коридоре мы спрятались за ящиком. Смотри, смотри! – восклицает она, радуясь неизвестно чему: – Смотри, там стоят два ящика…
– И что с того? – с иронией спрашивает Ян. Откуда только он взялся, она даже не заметила, что раньше его не было… Вернулся и иронизирует.
Погрустневшая, задумавшаяся Анна признает:
– Ничего, ты прав.
Однако она все же спускается в туалетную комнату, где они тогда долго сидели на плюшевом диванчике с вишневой обивкой, потому что боялись вернуться наверх, в зал. Вишневый плюш выцвел, порыжел. Вода тихонько шумит в трубах так же, как тогда. Да, похоже. Анна присела на порыжевший плюш и вдруг испугалась – она была не одна. Недалеко от нее на плюшевом диванчике сидела какая-то женщина. Она не сразу узнала собственное отражение в пожелтевшем от старости зеркале. Сердце стучало как бешеное – она изо всех сил бежала по лестнице. Мира допивала в буфете свой кофе.
– Ну и как? – спросила она. – Вот оно тебе было нужно? У тебя совершенно красные глаза. Наверное, давление подскочило…
После чего сообщила, что мужчины ждут в машине на парковке. Едва они вышли на улицу, Анна почувствовала очередную волну тошноты.
* * *
Они отправились гулять по городу. Сделав несколько шагов, Анна сказала, что возвращается домой, но сначала ей нужно в аптеку, чтобы купить порошок. Юзеф всполошился:
– Какой порошок? Тебе плохо? Болит голова?
– Нет. Нет… Мне жаль, что я испортила нашу встречу.
– Не говори глупостей, – оборвала ее Мира.
Они купили драмину. Улыбающийся аптекарь услужливо предложил ей стакан воды. Седые волосы, здоровый цвет лица, ухоженные ногти. Нехороший возраст, думала она, запивая порошок.
Дома она легла, оставив лишь тусклый свет, тошнота почти отступила. Лежа в драминовом полузабытьи, она слышала доносящийся из соседней комнаты голос Юзефа, который говорил:
– Мы вернемся домой пораньше, завтра утром и отправимся, думаю, так будет лучше.
И голос Миры:
– Наверное, ты прав.
Потом до нее доносились обрывки разговоров. Речь шла о том времени. Юзеф тоже что-то рассказывал, он, который так неохотно, так скупо говорил на эту тему.
* * *
Поезд тронулся, Анна уснула и долго спала.
– Где мы? – спросила она, проснувшись. – Мы уже пересекли границу?
Оказалось, что границу они пересекли давным-давно и скоро надо будет выходить.
– Ах, как удачно, – обрадовалась она. – Мне срочно надо что-то съесть, я ужасно голодна. Давай как следует позавтракаем на вокзале…
– Тебе уже лучше? Правда? Скажи…
– Что значит лучше? Я чувствую себя прекрасно. Просто прекрасно…
Юлия
Заметки к биографии
Julia
Zapiski do życiorysu
Пер. А. Векшина
Юлия приехала с детьми на каникулы и так и осталась в нашем городке. Ее мужа, рослого Шимона, с черной щетиной, пригнал сентябрь разгрома Польши.
Я помню Юлию последних дней августа: она плывет по пыльной площади под парусом широкополой черной соломенной шляпы, еще худая, в песочном платье, в песочных перчатках до локтя, элегантная, городская. Походка легкая, ножка изящная.
– Поразительно в некоторых женщинах умение приспосабливаться, – говорит приятель ее молодости, Генек, который приехал в родные края из самого Парижа и, как и Юлия, остался в городке. – Последний раз, когда я ее видел, она жила с мужем в деревне, – рассказывает он (можно подумать, я и без него этого не знаю…), глядя на удаляющуюся Юлию. – Они жили там в избе, которую снимали у крестьян, Юлия ходила с ними в поле, освоила их кухню, манеру одеваться – носила широкие юбки и старые свитера, в ее лексиконе появились чисто деревенские выражения. Вечером, когда она помогала хозяйке кормить свиней, я коротал время за чтением Пруста, стоявшего на полке рядом со справочником первой помощи – в деревне не было врача. Я был поражен этой метаморфозой, ведь я знаю ее с детства. Пруст на полке, а она – крестьянка. А теперь снова…
Он крутил головой в перышках тоненьких волос, его голубые глаза выражали, помимо недоумения, глубокое восхищение.
Недавно миновал полдень, солнце печет. Новая Юлия удаляется легким шагом, в песочном платье и черноте соломенных крыльев. Никто, кроме самых близких, не знает, что черное и песочное куплены не ею, что не она выбирала крой и цвет: это подарок богатой родственницы. Никто и не догадался бы, потому что Юлия выглядит так, словно всю жизнь носила парижский песочный цвет и флорентийскую соломку.
По мере того как она удаляется, песочный сливается с красками пыльной площади, и вскоре виднеется лишь черное облачко, плывущее над ее красиво очерченной головой.
Люди суеверные увидели бы в этом предсказание.
– Но, но… нельзя же так!
– Почему нельзя? – спрашивают люди суеверные и извлекают на свет еще одно предсказание, на этот раз из далекого прошлого. Старший сын в два года лишился глаза, не помогли поездки к венским профессорам, так и остался одноглазым, со стеклянным шариком с коричневой радужкой. Рассматривая что-нибудь, он поворачивал голову вбок. Младший же родился раньше срока, и долго не знали, выживет ли. А потом и его возили к профессорам, рахитичного, худого, голова у него была немного великовата, вытянутая, как яйцо.
– Но… ведь… многие дети рождаются раньше срока, многие болеют рахитом, получают увечья… Это были необыкновенные мальчики. Младший в четырнадцать лет штудировал Маркса, старший своими вопросами ставил в тупик учителей гимназии. И если бы старшего не убили в лесу, а младший не погиб в лагере…
– Вот именно, – говорят люди суеверные и отводят глаза.
Юлия провела с мужем и детьми в деревне ровно два года. Дела у них тогда шли скверно. Рослый Шимон долго не мог найти работу, после чего уехал в П., где кто-то из родственников выпросил для него место в большой текстильной фирме. Через год Юлия последовала за ним. Как-то они в П. устроились, дела кое-как наладились, но, видно, не особенно, раз на вопрос «чего ты не любишь» младший, Тулек, без колебаний отвечал «судебного пристава». Юлия тут же перестроилась на городскую жизнь. В обеденную пору стала ходить на чашечку кофе, с увлечением осматривала музеи и достопримечательности, время от времени позволяла себе билет на хороший концерт. Летом ходила на реку, на дикий пляж – так дешевле.
На второй год их жизни в П. произошли два случая, от которых у нее резко поубавилось симпатии к городу, который она полюбила за чистоту и порядок. Старшего сына, Давида, побили в школе одноклассники, крича «бей еврея, бей еврея», и мальчик с тех пор стал сутулиться, словно все время ждал удара. Второй случай приключился в роскошном холле филармонии и был не менее красноречив, хоть и менее демонстративен по форме. В перерыве сольного концерта известного пианиста Юлия услышала произнесенную вполголоса фразу: «Даже здесь от них спасу нет…» Она отказалась от двух последних, любимых сонат Бетховена (Юлия была меломанкой-любительницей, без музыкального образования) и покинула здание филармонии раз и навсегда.
Поскольку в тот год во многих заведениях повесили таблички с надписью «Собакам и евреям вход воспрещен», остались только прогулки вдоль реки, омывающей этот чистый, германизированный город. Сыновья вздохнули с облегчением, когда в июне закончился учебный год и мать начала складывать чемоданы на каникулы. Они собирались провести их в родном 3.
«Городская» Юлия уже скрылась из виду, от черного облачка не осталось и следа, а лицо приятеля, приехавшего из самого Парижа, все еще выражает недоумение и восхищение. Но слова, которые он произносит, не имеют с недоумением и восхищением ничего общего. Ни с того ни с сего он заключает, что у Юлии тяжелая жизнь. Непонятно, зачем он это говорит… Как будто я и без него этого не знала.
* * *
Уже настал военный сентябрь, радио заговорило странным языком аббревиатур и призывов, городок наводнили беженцы, по главной улице вихрем промчались лимузины сановников, набитые женами и чемоданами, на капотах машин развевались бело-красные флажки. Лимузины ехали на юг, поднимая клубы пыли и возбуждая всеобщее любопытство. Вариант, что немцы займут городок, никто всерьез не рассматривал. «Так далеко, – говорили, – они не пройдут». В один из вечеров – а все они были одинаково ароматными, искрящимися от звезд, – появился Шимон, муж Юлии, чернее обычного, заросший, небритый. Он добирался пешком и на телегах, сбил в кровь все ноги, твердил: «Разгром, разгром». Рассказывал о поездах, которые отправляются и не прибывают, о дорогах, забитых людьми и транспортом, о бомбардировщиках над головой, о людях и лошадях, лежащих на полях.
Юлия слушала вполуха, суетилась на кухне, затопила печь, разогрела суп, поставила на огонь котел с водой для мытья и на следующее утро после возвращения мужа стала искать квартиру. Лимузины промчались, радио смолкло, фронт замер, и во второй половине месяца русские войска перешли границу неподалеку. «Русские идут, – гудел городок, – идут на помощь, они нас спасут от Гитлера». Лежа в одной из четырех башен, некогда охранявших княжеский замок от татарских набегов, мы ждали наших избавителей. По пустой дороге вдоль пруда, который был виден с башни как на ладони, – вода гладкая, серая, серый тростник, камыши и далеко, на холме противоположного берега, белая церковь – тарахтела бричка, в бричке сидел маленький и круглый, с седыми вислыми усами, в высоких сапогах, помещик и градоначальник. Сарматско-шляхетский бургомистр-еврей ехал встречать спасителей хлебом-солью. Солнце садилось, когда появились первые отряды, несколько солдат спрыгнули на берег у пруда, умыли лицо и руки. «Посмотрите, – кричал младший сын Юлии, – у них чистые полотенца!»
На следующий день арестовали сарматского бургомистра-еврея и всех городских чиновников. Больше о них никто ничего не слышал. Ночью мы бросали в пруд мундиры прятавшихся офицеров, остатков польской армии. Они спали в столовой, на матрацах. А нам, детям, запретили ходить на башни.
* * *
Юлия сняла двухкомнатную квартиру и обставила ее раздобытой мебелью – разномастными предметами, как она говорила. Обустроилась как придется, очень даже на свой лад. Из старых платьев сшила разноцветные покрывала, подушками прикрыла просевший диван. Колючие одеяла легли на кровати, крестьянская лавка встала в угол, а полевые цветы – в глиняные грубые горшки. Пейзаж был не то деревенский, не то городской, и сама она была теперь не то из города, не то из деревни. Парижский песочный и соломку убрала в коробку, коробку в шкаф… Сбросила с себя городские манеры, как сбрасывают ветхую одежду – без сожаления и церемоний. Начала одеваться просторно, удобно, слегка небрежно. Пополнела. Утром лепила клецки, шинковала капусту, стирала, штопала – но в пять часов вечера неизменно заваривала суррогатный кофе и попивала его, сидя на просевшем диване среди подушек из тафты и друзей – старых и новых. Знакомства она завязывала моментально, причем разного рода. Каждый день заходил Генек из Парижа, которого война заточила в 3. и который опять шептал о метаморфозе, приходила поболтать прачка Антося из флигеля, учитель истории из местной гимназии и маленькая, зашуганная старая дева, секретарша в суде. Раз в неделю, в базарный день, появлялись хозяева, у которых она когда-то жила в деревне. Приезжали с визитом и за советом. Она подавала им – как и всем гостям – печенье, изготовленное собственноручно, второпях и всегда непропеченное, и кофе в маленьких чашечках из тонкого фарфора, а они спрашивали: «Тетя, что вы скупитесь? Надо чашки купить нормальные, в этих кофе – кот наплакал…» Потом советовались, продать ли им Гнедого, который хромает, но для работы еще годится, и не старовата ли Маланья для Степана… Прощаясь, оставляли у порога корзинку, накрытую пестрой салфеткой. В ней были яйца, творог, кусок масла.
– Видишь, – говорила Юлия – мы неплохо живем, то есть не хуже, чем многие другие. Может быть, даже лучше. Надо всегда смотреть на тех, кому хуже. Помни об этом.
Шимон работал на мельнице, и мука, которую он получал, уберегала их от голода, досаждавшего почти всем. Питались они исключительно мучными блюдами, и, видимо, из-за клецок Юлия сделалась широкой и бесформенной. Несмотря на вес, она по-прежнему двигалась легко и изящно. Закутанная в огромное (дареное) меховое пальто, перехваченное кожаным поясом, в шерстяной шапке, надвинутой на лоб, она стала похожа на помещиц, которых новая власть выгнала из деревенских усадеб, а потом вывезла на восток. Курила махорку.
В ту первую военную зиму она читала Монтерлана, скрупулезно делая пометки и записывая цитаты в толстый блокнот, полный счетов и списков покупок. Монтерлана привез Генек из Парижа. Монтерлан Юлии не понравился, ей было жаль Пруста, оставшегося в П. Вечером, за ужином, когда они садились есть клецки, разгорались жаркие споры. Шимон, социалист, бундовец, насмехался и язвил, младший сын, который как раз открывал для себя Маркса, защищал происходящее и называл старшего брата «этот эстетствующий либерал».
– А ты, мама? Что ты скажешь? – спрашивали они.
Юлия затыкала уши. Пока однажды они не приперли ее к стенке – тут она призналась, что попросту боится. Того, что сейчас, и того, что будет. В их новых паспортах, выданных новыми властями, был «одиннадцатый пункт», и теперь они могли жить только в провинции, вдали от больших городов. Этим пунктом обозначали так называемый «неблагонадежный элемент», в том числе, всех, кто, убегая от немцев с запада страны, сменил место проживания. Факт, что Юлия, Шимон и их дети родились в 3., не имел никакого значения. Для властей они были «беженцами».
Шимон по поводу этого пункта только презрительно пожал плечами. Не то что Юлия. Она сидела на диване, накинув на плечи клетчатый крестьянский платок, съежившаяся, взволнованная, сама на себя непохожая. Хотела что-то сказать, но промолчала, вынула носок из корзины и принялась за штопку.
Приятель Генек вскочил со стула:
– Может быть, я мешаю… Ты хотела что-то сказать… Может, мое присутствие…
– Боже, что за дурак! – крикнула Юлия своим охрипшим, прокуренным голосом. – Сиди себе спокойно…
– Юлия, вероятно, хотела обратить внимание на тот факт, что наши пункты грозят нам депортацией в Сибирь, – пояснил Шимон.
Из-за позолоченной оправы очков мелькнул боязливый взгляд голубых глаз. Парижский приятель стал в последнее время хрупким и тоненьким, как прутик. Он работал на складе древесины, сторожем.
– Я не жалуюсь, – говаривал приятель. – Зарплата мизерная, зато есть время читать. – Сейчас он читал русских авторов. Юлия подкармливала его клецками.
Юлию и Шимона не увезли, а вот Генек весной отправился в Сибирь. Они еще успели принести ему на станцию мешок сухарей.
– Пропадет он там, беспомощный, как ребенок, – причитала Юлия.
– Мы ему еще позавидуем, – ответил на это Шимон, и Юлия потом часто повторяла его слова.