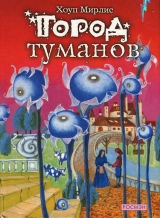
Текст книги "Город туманов"
Автор книги: Хоуп Миррлиз (Мирлис)
Жанр:
Детская фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
– А теперь, – проговорил он, – надеюсь, ваша честь позволит мне немного поговорить о вашем собственном деле. Насколько я понимаю, хворь, которая мучает вас, называется «жизненной болезнью». Вы, так сказать, являетесь плохим моряком, и течение жизни кружит вам голову. Здесь, под вами, вокруг вас, вздувается и бурлит, откатывается и набегает огромная и неподвластная нам безжалостная стихия, которую мы зовем жизнью. Ее движение проникает в вашу кровь, туманит голову. Привыкните к ней наконец, господин Натаниэль! Я не хочу сказать – перестаньте ощущать ее движение, ощущайте себе на здоровье, только научитесь любить, а если не любить, то хотя бы переносить на твердых ногах и с ровной головой.
Глаза господина Натаниэля наполнились слезами и он кротко улыбнулся. В это мгновение ноги его, безусловно, находились на твердой земле; и как каждому из нас случается думать, что тому или другому настроению не будет конца, в тот миг он полагал, что голова его более никогда не замутится от присущей жизни морской болезни.
– Благодарю вас, Лер, благодарю, – пробормотал он. – За то, что вы сейчас сделали для меня, я готов оказать вам любое содействие.
– Отлично, – промолвил доктор. – В таком случае предоставьте мне возможность исцелить вашего сына. Лечить людей – для меня самая большая радость. Позвольте мне договориться о его переезде на ферму.
В своем нынешнем состоянии господин Натаниэль был просто не способен противоречить ему. И теперь Ранульфу в ближайшее время скоро предстояло отправиться в Лебедянь-на-Пестрой.
Прощаясь, Эндимион Лер произнес:
– Господин Натаниэль, хочу, чтобы вы запомнили одно: за всю свою жизнь я ни разу не назначил больному неправильного лекарства.
Рыся от дома Шантеклеров, Эндимион Лер хихикал себе под нос и потирал руки.
– Никак не могу перестать быть врачом и исцелять раны, – бормотал он. – Но какой политический успех! Он согласился отпустить мальчика на ферму.
Вдруг он вздрогнул и замер прислушиваясь. Издалека донесся едва слышный звук. Он вполне мог оказаться залетевшим из неведомых краев петушиным криком, иначе его следовало бы назвать отголосками полного издевки хохота.
Глава V
Ранульф отправляется на ферму вдовы Тарабар
Эндимион Лер был прав. Рассудок – всего лишь лекарство, и его действие не может быть постоянным. Вскоре господин Натаниэль вновь стал страдать от своей морской, то есть жизненной, болезни, в той же степени, что и прежде.
Во всяком случае, отрицать, что в голосе Эндимиона Лера, певшего над Ранульфом, прозвучала та самая Нота, было нельзя, и факт этот мучил господина Натаниэля, невзирая на все доводы рассудка.
Однако одного только факта было недостаточно, чтобы заставить его усомниться в Эндимионе Лере. – Господин Натаниэль был убежден, что Ноту можно услышать в голосе ни в чем не повинного человека, так же, как крик нахальной кукушки может прозвучать из гнезда жаворонка или лесной завирушки. И тем не менее он не собирался отпускать Ранульфа на запад, на эту самую ферму.
А мальчик уже тосковал, нет, жаждал этой поездки, потому что Эндимион Лер, оставшись наедине с ним в то утро в гостиной, успел распалить его воображение прелестями далекой фермы.
Когда господин Натаниэль принялся выспрашивать у сына, о чем еще говорил Эндимион Лер, мальчик сказал, что тот задал ему целую уйму вопросов о том облаченном в зеленый наряд незнакомце, которого он видел танцующим в своем саду, и несколько раз заставил в точности повторить слова, сказанные этим человеком.
– А потом, – продолжал Ранульф, – он сказал, что своей песней сделает меня счастливым и здоровым. И я уже начинал чувствовать себя по-настоящему здоровым, когда ты, папа, влетел в комнату.
– Прости меня, мой мальчик, – извинился господин Натаниэль. – Но почему ты сперва так закричал и умолял меня не оставлять тебя с ним?
Ранульф поежился и опустил голову.
– Наверно, опять получилось, как с тем сыром, – сказал он смущенно. – Но, папа, я хочу поехать на эту ферму. Пожалуйста, отпусти меня.
Несколько недель господин Натаниэль упорно отказывался дать согласие. Он держал мальчика при себе – насколько позволяли дела и официальные обязанности, – стараясь подобрать для него занятия и развлечения, которые могли бы настроить ребенка на новый лад. Дело в том, что слова Эндимиона Лера, хотя и произвели не слишком большой эффект на его духовное состояние, но в память врезались самым решительным образом. И все же он не мог не замечать, что Ранульф увядает день ото дня, что речи его становятся все более и более фантастичными; и отец начал уже опасаться, что нежелание отпустить сына на ферму вызвано эгоистическим желанием оставить его при себе.
Хэмпи, как ни странно, была за то, чтобы отправить ребенка из дома. Старуха относилась ко всей этой истории прелюбопытнейшим образом. Ничто не могло заставить ее поверить в то, что Вилли Клок дал мальчику нечто другое, а не кусочек плода страны Фейри. Она сказала, что подозревала это с самого начала, однако заводить об этом речь было просто неразумно.
– Если он дал ему не это, так что же тогда? – спрашивала она презрительным тоном. – И что представляет собой сам Вилли Клок? Он оставил свое место – не взяв заработанных денег – в одну из двенадцати ночей после Рождества. А когда пес или слуга вдруг сбегает именно в это время, все мы знаем, что надо думать.
– И что же нам надо думать, Хэмпи? – спросил господин Натаниэль.
Старуха с таинственным видом покачала головой. Но в конце концов рассказала, что в некоторых уголках страны верят, что если фейри сумеет затесаться среди слуг, то он обязан возвратиться в родной ему край как раз в эти двенадцать дней после зимнего солнцестояния; а если среди собак окажется пес из своры герцога Обри, все эти ночи он будет выть и выть, пока его не выпустят из конуры, а потом исчезнет во тьме – и поминай как звали.
Натаниэль нетерпеливо заворчал.
– Ну, ты сам заставил меня произнести эти слова, и пусть ты у нас мэр и лорд Высокий сенешаль, над моими мыслями ты не властен… У меня есть полное право на них! – вознегодовала Хэмпи.
– Моя добрая Хэмпи, если ты действительно веришь в то, что мальчик кое-что съел, могу лишь сказать, что ты слишком легкомысленно относишься к этому факту, – рявкнул Натаниэль.
– А что пользы, если я изображу унылую харю, как у какой-нибудь статуи с Грамматических полей, хотелось бы мне знать? – парировала Хэмпи и добавила: – К тому же, что бы ни происходило, с Шантеклером ничего плохого случиться не может. Покуда Луду стоять, Шантеклерам суждено процветать. Поэтому, гладко ли все у тебя, или есть колдобины, меня это не беспокоит. Но на твоем месте, господин Нат, я отпустила бы мальчишку на волю. Когда болеешь – взрослый ты или ребенок, – нет ничего лучшего, чем жить по собственному разумению. Для больного – это все равно что лекарственная травка для прихворнувшего пса.
Мнение Хэмпи значило для господина Натаниэля больше, чем он готов был признать; но только разговор с Немченсом, капитаном йоменов городского ополчения, наконец заставил его отпустить Ранульфа.
Ополчение исполняло обязанности городского гарнизона и полиции поэтому господин Натаниэль приказал его капитану найти Вилли Клока.
Оказалось, что мошенник хорошо знаком капитану, Немченс подтвердил то, что говорил Эндимион Лер. Этот безобразник перевернул своими проказами весь город за те несколько месяцев, пока находился на службе у господина Натаниэля. Однако после его исчезновения, приключившегося во время Святок, в Луде более не слышали о нем, и Немченсу не удалось отыскать никаких следов проходимца.
Господин Натаниэль позволил себе выразить легкое недовольство бестолковостью йоменов, однако в сердце своем он почувствовал облегчение. Он постоянно опасался того, что Хэмпи права, а Эндимион Лер ошибается и что на самом деле Ранульф все-таки отведал плода из страны Фейри. Однако спящий факт лучше не будить, а он боялся, что при личной встрече с Вилли Клоком факты проснутся и начнут кусаться. Но что это вдруг стал говорить ему Немченс?
Выходило, что за последние месяцы в городе обнаружился заметный рост употребления плодов фейри – естественно в бедных кварталах.
– Это следует пресечь, Немченс, вы слышите меня? – с пылом воскликнул господин Натаниэль. – А главное, необходимо изловить и пересажать в тюрьму контрабандистов – всех до последнего сукина сына. Мы и так слишком долго миндальничали с ними.
– Да, ваша честь, – невозмутимо ответил Немченс. – С ними миндальничал еще мой предшественник, если ваша честь простит мне это выражение (Немченс обожал длинные слова, однако считал непочтительностью пользоваться ими при начальстве), и его предшественник, и так далее. А ведь считать себя умнее своих предков негоже. Иногда мне кажется, что с тем же успехом можно пытаться поймать Пестрянку и засадить ее под замок. Ваша честь, настали печальные времена, очень печальные… Все ученики лезут сразу в господины, каждый лавочник рвется в сенаторы, а каждый неумытый малец считает, что ему незачем уважать старших! Знаете ли, ваша честь, по своим служебным обязанностям – простите за выражение – мне приходится видеть и слышать много разного и всякого, но то, что тебе говорят глаза и уши, не складывается в слова, не так уж просто передать другим, что они говорят, эти самые глаза и уши. Вот гуси тоже знают, когда будет дождь, но сказать не могут. – Он почтительно усмехнулся. – Но я не буду удивлен, совсем не буду, если окажется, что в городе что-то зреет.
– Ради Солнца, Луны и Звезд, Немченс, не говорите загадками! – рассердился господин Натаниэль. – Объясните все толком.
Немченс переступил с ноги на ногу.
– Ну, ваша честь, начнем с того, что людишки как-то вдруг снова заинтересовались герцогом Обри. Девчонки носят дешевые брошки с его портретом, прикалывают к чепцам грубо сработанные веточки плюща и пролески, а на каждой, самой захудалой улочке, какаду, которых привозят моряки, верещат из своих клеток, что, мол, герцог еще вернется. И прочую чушь, и…
– Мой добрый Немченс! – нетерпеливо перебил его господин Натаниэль. – Негодяй герцог Обри умер более двухсот лет назад. Надеюсь, что хотя бы вы не верите в то, что он оживет?
– Я не говорил, что это случится, ваша честь, – уклончиво ответил Немченс. – Но мне ли не знать, что, когда в Луде начинают его вспоминать, это всегда предвещает беду. Помню, как старина Трипсенд, который командовал йоменами, когда я еще был мальчишкой, говорил, что подобные разговоры начались как раз перед великой засухой.
– Ерунда! – воскликнул господин Натаниэль.
Он немедленно выбросил из памяти все теории Немченса относительно герцога Обри. Однако то, что тот говорил о плодах фейри, весьма смутило мэра, и он начал подумывать, что Эндимион Лер был, в сущности, прав, полагая, что Ранульф окажется дальше от соблазна в Лебедяни-на-Пестрой, чем в Луде.
Он вновь переговорил с Лером, и было решено, что как только Календула и Хэмпи соберут Ранульфа в дорогу, он отправится на ферму вдовы Тарабар. Эндимион Лер сказал, что намеревается поискать нужные травы в ее окрестностях, и охотно проводит туда Ранульфа.
Господин Натаниэль, конечно же, предпочел бы сделать это собственной персоной, однако закон запрещал мэру покидать Луд, кроме тех случаев, когда этого требовала служба.
Вместо себя он решил отправить Люка Хэмпена, внучатого племянника старой Хэмпи. Парню было около двадцати лет, он работал в саду и всегда охотно прислуживал Ранульфу.
Итак, прекрасным солнечным утром, примерно неделю спустя, Эндимион Лер подъехал к дому Шантеклеров, чтобы забрать Ранульфа, который нетерпеливо дожидался врача в шпорах и сапогах; мальчик выглядел гораздо лучше, чем в предыдущие месяцы.
Прежде чем Ранульф сел в седло, господин Натаниэль смахнул с глаз слезы, поцеловал сына в лоб и шепнул:
– Черные грачи улетят, мой сын, ты вернешься загорелый, как ягодка, и веселый, как сверчок. Если я тебе понадоблюсь, пришли с весточкой Люка, и я поскачу самым скорым галопом, разрешает это закон или нет.
За решетчатым окошком на верхнем этаже появилась покрытая старая Хэмпи в ночном колпаке. Погрозив кулаком, она крикнула:
– Вот что, молодой Люк, если не усмотришь за моим мальчиком – схлопочешь!
Маленькую кавалькаду на мощеных улицах города то и дело провожали любопытными взглядами. Мисс Летиция Прим и мисс Рози Прим, симпатичные дочки главного городского часовых дел мастера, возвращавшиеся с рынка с покупками, дружно решили, что Ранульф очень мил верхом на коне.
– Впрочем, – добавила мисс Рози, – говорят, что он чуточку странный, и потом, скажу откровенно, жаль, что ему достались от отца имбирного цвета волосы.
– Во всяком случае, Рози, – возразила мисс Летиция, – во всяком случае, он не прячет их под черным париком, как это делает один из знакомых нам подмастерьев!
Засмеявшись, Рози дернула головкой.
Провожая их взглядом, многие женщины Луда благословляли Эндимиона Лера, выражая сожаление, что не он является мэром и Высоким сенешалем. Несколько грубых с виду мужланов глядели на Ранульфа хмурыми и злыми глазами. Однако мамаша Тиббс, полусумасшедшая прачка, которая, несмотря на свои сорок лет, танцевала куда изящнее, чем любая девица, и потому пользовалась огромной популярностью как партнерша в любой таверне города во время плясок, что играли огромную роль в жизни народных масс Луда туманного, – безумная, ничтожная и недостойная персона, наделенная тем не менее благородным и чистым лицом, эта самая мамаша Тиббс бросила ему букетик цветов и крикнула певучим, проникающим в душу голосом:
– Кукареку! Кукареку! Кукареку! А маленький господин едет в тот край, где все куры несут золотые яйца!
Однако никто не обратил на нее внимания.
Во время путешествия до Лебедяни не произошло ничего достойного упоминания, вокруг лежала прекрасная летняя земля. Буки карабкались вверх по крутым берегам, усыпанным бурой прошлогодней листвой; поляны были покрыты мятликом и щавелем; загорелые старые женщины звали своих коз; акации стояли в полном цвету, рассыпая белые лепестки. Время от времени эту красу пронзали земнородные кометы – то синий зимородок, то рыжая лиса.
А вдалеке там и сям неподвижно и в полном молчании жались к реке Пестрянке крытые красной черепицей деревни – наименее тщеславные из здешних красот, они никогда не засматривались на собственное отражение, а неусыпно разглядывали горизонт.
Были там увитые плющом, разрушенные замки. В полог этого плюща ныряли голубки, оставляя за собой аметистовый след. Круглые башни замков казались прочно вросшими в небо, так что и птица не могла бы пролететь сквозь соединяющий их с небосводом прозрачный мрамор.
А потом солнце садилось, и наши всадники могли видеть, как медленно меркнут краски вокруг. Неужели это дерево действительно осталось зеленым или же воспоминание о том, что оно было зеленым несколько секунд назад, еще не покинуло его?
А та нимфа, которую преследуют все путешественники, хотя никому еще не удавалось поймать ее, – белая столбовая дорога мерцала в сумраке, приглашая их продолжить путь.
Впрочем, все эти зрелища были знакомы каждому жителю Луда. Однако на третий день пути (ради Ранульфа длинных переходов не делали) пейзаж стал меняться, особенно деревья. Вместо акаций, буков и ив, хорошо знакомых живых созданий, вечно нашептывающих себе непонятные нам тайны, появились сосны, падубы и оливы. Поначалу они казались бездушными произведениями искусства, и Ранульф воскликнул:
– Ой посмотрите-ка на смешные деревья! Ну прямо как те старинные изваяния почивших предков на Грамматических полях!
Однако с тем же успехом их можно было уподобить персонажам написанной в давние времена трагедии. Если человеческий, да и сверхчеловеческий опыт и трагическое столкновение личностей можно выразить в пластической форме, почему бы не поверить в то, что эти корявые силуэты были согнуты ветром, создавшим духовное подобие какой-то старинной драмы.
Однако сосны и оливы не растут далеко от моря. Но ведь море лежало к востоку от Луда, и каждая миля удаляла путников от него.
Эти сосны и оливы процветали благодаря другому морю – невидимому отсюда морю страны Фейри, что лежит за Эльфовым переходом и горами.
На закате дня они добрались до деревни, Лебедяни-на-Пестрой – дюжины домишек, рассыпанных вокруг треугольного клочка необработанной общей земли, где росли оливы и чахлые плодовые деревья, и где находилась свалка. Вдалеке можно было видеть невысокие, заросшие соснами волны Спорных гор – превосходный и неизменный фон для быстро сменяющихся красок времени года. И в самом деле они придавали достоинство и значительность всему, что росло, располагалось и совершалось перед ними; и даже маленькие детишки, в синих рубашонках, игравшие среди мусора на деревенской площади, мимо которой проезжали путники, казались исполнявшими на фоне самой Судьбы некую великую роль, аналогичную той, которую выражали своими очертаниями сосны и оливы.
Миновав деревню, путники поехали по тележной колее, ответвлявшейся направо от столбовой дороги. Она уходила в долину, ее пологие склоны были покрыты виноградниками и пшеничными полями. Иногда тропа приводила их в рощи падубов, где из-под ободранных кусков коры проступали кроваво-красные пятна; повсюду росли невысокие, тонкие и крепкие кусты с ароматными цветами над которыми вились рои пчел.
С каждым мгновением горы как бы пододвигались все ближе, и сосны, которыми они были покрыты, начинали выделяться из зеленого ковра, образуя нечто вроде рельефа, похожего на толстый зеленый ковер водяного кресса на стоячих фиолетовых водах пруда. Наконец они добрались до фермы – отличного старого поместья, окруженного стайкой крытых красной черепицей амбаров; фасад здания с обеих сторон охраняли два великолепных геральдического вида платана с невероятно толстыми пестрыми стволами.
Гостей приветствовали дружным лаем собаки на шум поспешила наружу и сама вдова, которую сопровождала внучка, хорошенькая девушка лет семнадцати, по имени Хейзл.
Вдове Тарабар было не меньше шестидесяти лет, однако она оставалась на удивление красивой – высокой и статной, волосы переливались таким количеством оттенков красного и коричневого цветов, которым может похвастать разве что млеющая на солнце клумба желтофиоли.
Двое мужчин увели коней, а путников проводили в отведенные им комнаты.
Ранульфу отвели лучшую из них, как и подобало сыну Высокого сенешаля. Просторная и безупречно соразмерная, она была прекрасна, несмотря на обитую ситцем простую сельскую мебель и покрытый сухим тростником вместо ковра пол. В ней угадывались несомненные признаки прежнего великолепия, оставшиеся от тех времен, когда дом принадлежал не фермерам, а дворянам.
Потолок являлся превосходным образцом плоских эмалевых потолков, характерных для убранства интерьеров времен герцога Обри. Именно такой потолок был в спальне Календулы. И когда Ранульф расстраивал ее своим поведением, она, как поступали в подобных обстоятельствах все матушки из семейства Шантеклеров, разглядывала этот потолок, и краски и узоры его неразрывно сливались с ее нравственными мучениями.
Эндимиона Лера поместили в комнате рядом с Ранульфом, а Люку отвели уютную комнату на чердаке.
Долгая дорога, по словам Ранульфа, ничуть не утомила мальчика. Щеки его раскраснелись, глаза сияли, и когда вдова оставила их вдвоем с Люком, мальчик радостно запрыгал и воскликнул:
– Как мне нравится здесь, Люк!
В шесть часов вечера возле дома прозвенел колокол, по-видимому, созывавший работников на обед; и так как вдова предупредила их, что ужинают здесь на кухне, Ранульф и Люк, изрядно проголодавшись, поспешили вниз.
Огромная кухня тянулась вдоль всего дома; в прежние времена она служила пиршественной залой. Каменный потолок гармонировал с огромным, сложенным из камня камином, украшенным рельефными узорами из черепов, цветов и листьев, характерных для искусства Доримара. По обеим сторонам очага высились медные подставки для дров. Пол был вымощен мозаикой из коричневой, красной и голубовато-серой плитки.
Посреди помещения располагался длинный и узкий стол, уставленный оловянными тарелками и кружками, работники и служанки уже наполняли зал, сверкая свежими после мыла и мытья лицами, и теснились кучками у дальнего конца стола, ухмыляясь и робея в присутствии гостей. В соответствии с добрым йоменским обычаем они обедали вместе с господами.
Ужин был самым восхитительным – к огромному, пропахшему ароматным древесным дымком окороку подали маринованный первоцвет; еще было мясо, пирог с олениной и в честь почетных гостей – жирный жареный лебедь. В вино, изготовленное из собственного винограда, был добавлен мед и ароматная ежевика.
Вдова и Эндимион Лер вели между собой разговор. Он расспрашивал ее о том, много ли форелей выловили тем летом в Пестрянке и какого они были веса. Она сообщила ему, что недавно из реки вытащили лосося, потянувшего на целых десять фунтов.
Молчаливо жевавший Ранульф вдруг посмотрел на них и чуть улыбнулся той самой полуулыбкой, которая приводила в замешательство окружающих.
– Это не настоящий разговор, – проговорил он. – На самом деле вы разговариваете друг с другом совсем не так. А сейчас только изображаете беседу.
Вдова крайне удивилась, и на лице ее появилась досада. Однако Эндимион Лер от всей души рассмеялся и попросил Ранульфа объяснить, что, собственно, тот имел в виду. Ранульф не стал отвечать.
Однако Люк Хэмпен понял, о чем идет речь. В разговоре между вдовой и доктором не угадывалось истины; казалось, что их слова имеют двойной смысл, понятный лишь им обоим.
По прошествии нескольких минут в комнате появился высохший старик, который, блеснув на удивление яркими глазами, занял место среди работников. И тут Ранульф действительно перепугал всех: он перестал есть и некоторое время молча разглядывал вошедшего, а потом пронзительно вскрикнул.
Все взоры с удивлением обратились к нему. Однако мальчик словно окаменел, не отрывая глаз от старика.
– Что это значит, молодой человек? – резким гоном воскликнул Эндимион Лер.
– Что вас встревожило, маленький господин? – вскричала вдова.
Однако тот, не произнося ни слова, продолжал указывать на старика, поглядывавшего по сторонам и ухмылявшегося, радуясь всеобщему вниманию.
– Его испугал ткач Портунус, – хихикая, переговаривались между собой девицы.
И слова эти – Портунус, старый ткач Портунус – передавались из уст в уста по обеим сторонам стола.
– Да, ткач Портунус! – громко вскричала вдова, грозно поглядывая по сторонам. – И кто же здесь, хотела бы я знать, не любит ткача Портунуса?
Девицы опустили головы, мужчины с неодобрением пересмеивались.
– Ну? – потребовала ответа вдова.
Тишина.
– А кто, – продолжила она негодующим тоном, – самый обязательный и любезный старичок, которого можно отыскать в ближайшей округе на целые двадцать миль?
Умолкнув, она обвела стол грозным взглядом и вновь повторила свой вопрос.
И, словно повинуясь переданному взглядом приказу, вся компания дружно забормотала:
– Портунус…
– А кто приходит на помощь, если молоко для сыра не киснет, если масло не хочет сбиваться, а вино – бродить?
– Портунус, – хором отозвались все.
– А кто всегда готов прийти на помощь девицам, растрепать и расчесать пеньку или спрясть лен?
Кто, когда работа закончена, охотно сыграет им на скрипке?
– Портунус, – вновь пробормотали все.
Тут Хейзл вдруг оторвала взгляд от тарелки, и в глазах ее сверкнули вызов и гнев.
– А кто, – выкрикнула она, – думая, что никто не видит его, садится у огня, жарит живьем лягушат и ест их? Портунус.
Голос ее звучал все пронзительнее, становился все выше, но неожиданно оборвался. Люк заметил, как девушка вздрогнула под негодующим, холодным взглядом вдовы.
Заметил и еще кое-что.
В Доримаре, в йоменских и крестьянских домах, было принято вешать над каждой дверью пучок сушеного сладкого укропа, фенхеля; считалось, что фенхель оберегает от фейри. И когда Ранульф испустил крик, Люк столь же инстинктивно, как сделал бы в такой ситуации крестное знаменье средневековый христианин, посмотрел в сторону двери, чтобы ободриться при виде знакомого растения.
Однако фенхеля над дверью вдовы Тарабар не оказалось.
Мужчины ухмылялись, девицы хихикали, но никто не произносил ни слова. Ранульф между тем оправился от испуга и вновь приступил к еде, а вдова принялась его успокаивать:
– Помяните мои слова, маленький господин, вам придется научиться любить Портунуса так, как любим его все мы. Верьте Портунусу – он знает, где ловить форель, и где искать птичьи гнезда. Так, Портунус?
Портунус восторженно захихикал.
– Да и то, – продолжила вдова, – я знакома с ним уже двадцать лет. Он здешний ткач и переходит с фермы на ферму, а та комната, в которой стоит ткацкий станок, называется «гостиной Портунуса». На двадцать миль окрест ни один праздник или свадьба не обходятся без Портунуса – он прекрасно играет на скрипке.
Люк, от только что пережитого испуга сделавшийся необыкновенно наблюдательным, заметил, что Эндимион Лер погрузился в молчание и на лице его отразилась тревога.
Когда трапеза завершилась, служанки и работники немедленно исчезли, как и Портунус; однако трое гостей остались сидеть за столом, прислушиваясь к приятному пению прялок вдовы и Хейзл, лишь изредка переговариваясь, потому что после проведенного на воздухе долгого дня всех троих клонило ко сну.
В восемь часов в дверь негромко поскреблись.
– Это дети, – сказала Хейзл и, встав, открыла ее, после чего из сумерек на пороге появилось трое или четверо смущенных мальчишек.
– Добрый вечер, ребятишки, – радушно сказала вдова. – Явились за хлебом и сыром?
Смущенные присутствием незнакомых людей дети потупились.
– Эти деревенские дети, господин Шантеклер, по очереди стерегут наш скот по ночам, – обратилась вдова к Ранульфу. – Наше стадо пасется в нескольких милях отсюда, в долине, там, где хорошее пастбище, а пастух любит ночевать в собственном доме.
– И эти маленькие мальчики проведут снаружи всю ночь? – с невольным трепетом в голосе спросил Ранульф.
– Именно так! Их ждет веселое время. Они сооружают себе шалаши из ветвей и зажигают костры. О, им очень весело!
Дети расплылись в улыбке; и когда Хейзл выдала каждому хлеба и сыра, заспешили в сгущающиеся сумерки.
– Мне бы тоже хотелось как-нибудь пойти с ними, – проговорил Ранульф.
Вдова начала было возражать против самой идеи о том, что молодой господин может провести ночь под открытым небом вместе с коровами и деревенскими мальчишками, однако Эндимион Лер решительным тоном произнес:
– Чепуха! Я не хочу, чтобы с моим пациентом нянчились, как с младенцем. Да, Ранульф? Ты вполне можешь переночевать под открытым небом, если захочешь. Только придется подождать, пока ночи станут еще более теплыми. – Помедлив секунду, он добавил: – Скажем, до Иванова дня.
Они поговорили еще немного, то и дело зевая, и вдова предложила всем отправляться в постель, дав каждому сальную свечу, и только Ранульф, в виду его высокого положения, получил восковую, доставленную из Луда.
Эндимион Лер зажег свечу, поставил на вытянутую руку и принялся задумчиво рассматривать пламя, склонив голову набок.
– Трижды благословенное растеньице! – начал он таинственным тоном. – Цветок, выращенный из жира, с восковым стеблем и пламенными лепестками! Ты сильнее защищаешь от наговоров, ужасов и незримых угроз, чем фенхель, ясенец или рута. Приветствую тебя! Противоядие против смертоносных ночных теней! Процветая во тьме, добродетелью своей ты облегчаешь сердца и даруешь спокойный сон. Больные благословляют тебя, и женщины на сносях, и люди, смущенные умом, и все дети.
– Не корчи из себя шута, Лер! – грубо одернула его вдова совсем другим тоном, чем тот, деланно любезный, которым она вела с ним разговор.
Внимательный наблюдатель сразу понял бы, что на самом деле они знакомы куда более тесно, только скрывают это.
Впервые в жизни Люк Хэмпен не мог уснуть.
Всю прошлую неделю бабушка вколачивала в его голову, грозя дряхлым кулаком, следующую мысль: если с господином Ранульфом что-либо произойдет, вина падет на него, Люка; еще до отъезда из Луда этот честный парень, но отнюдь не герой, запаниковал, и все мелкие и весьма странные подробности прошедшего вечера не вселяли в него бодрость духа.
Наконец он почувствовал, что более не может терпеть. Встав, он зажег свечу, и осторожно пробрался по лестнице вниз, а потом в комнату Ранульфа.
Тот тоже не спал. Так и не погасив свечу, Ранульф, лежа на спине, изучал фантастический потолок.
– Что тебе нужно, Люк? – воскликнул он со злостью. – Почему никто и никогда не может оставить меня в одиночестве?
– Я просто хотел убедиться в том, что с тобой все в порядке, сэр, – стал оправдываться Люк.
– Конечно, в порядке. С какой стати может быть иначе? – Ранульф поглубже зарылся в постель.
– Я должен был знать это наверняка. – Люк помедлил, а потом умоляющим голосом попросил: – Прошу тебя, господин Ранульф, будь хорошим мальчиком и расскажи мне, что это произошло с тобой за ужином, когда в кухне появился этот выживший из ума старый ткач. Твой крик так перепугал меня.
– Ага, Люк! Знаю, но не скажу! – принялся дразнить его Ранульф.
Однако, в конце концов, он признался, что совсем еще маленьким часто видел Портунуса в своих снах.
– Причем сны были страшные, – сказал Ранульф.
И Люк с великим облегчением принял это объяснение. Сам-то он не видел снов и не придавал им особого значения. Мало ли что кому снится.
Заметив удовлетворение на его лице, Ранульф, состроив гримасу, сказал:
– Дело было не только в этом, Люк. Понимаешь, старый Портунус на самом деле мертв.
На сей раз Люк встревожился по-настоящему. Что, если его подопечный сходит с ума?
– Чего только ты не придумаешь, господин Ранульф! – воскликнул он по возможности шутливым тоном.
– Ничего, Люк, можешь не верить мне, если не хочешь, – сказал Ранульф. – А сейчас спокойной ночи, я хочу спать.
Задув свечу, он повернулся спиной к Люку. Тому ничего не оставалось, как вернуться в свою постель, и вскоре он уснул крепким сном.







