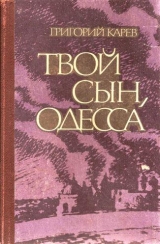
Текст книги "Твой сын, Одесса"
Автор книги: Григорий Карев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
25. Галкины визиты
В катакомбах умирал Фимка Бомм. Не умирал, а сгорал. Шел с товарищами на поиск не забитого еще румынами выхода из катакомб и упал. Шел концевым, и никто не заметил его падения. А крикнуть Фимка уже не имел сил. Когда остановились передохнуть, пересчитались: было – пятеро, осталось – четверо. Фимка потерялся. На поиск вернулись все (на пять человек был только один фонарь – кончались запасы керосина) – оставаться без света в малоизвестных штольнях нельзя. Возвращаться пришлось больше километра. Фимка лежал навзничь, в беспамятстве рвал на груди пуговицы ватника, полыхал жаром и бредил. Потом несли его на себе. Поочередно. Благо – легкий: голод и подземная сырость еще раньше высосали из него все, что можно было высосать.
Трое суток Фимка не приходил в сознание. Отрядная врачиха Асхат сказала: «Тиф!..» Люди испытали многое: голод, блокаду, газы, артобстрелы, опасные ночные вылазки, нестерпимый холод и сырость, от которых тело покрывалось фурункулами, причиняющими мучительную боль. Но тиф им казался страшнее всего. Мимо забоя, где на стареньких ватниках сгорал Фимка, проходили торопливо, почти бегом, стараясь не касаться руками стен штольни, не дышать заразным воздухом. Только Галина Марцишек все свободное время проводила возле больного: меняла промокшие потом простыни, вытирала полотенцем раскаленное и обессиленное недугом тело, смачивала водой почерневшие и потрескавшиеся губы, терпеливо выслушивала бредовый шепот и стоны. Ей было очень жаль парня. Будучи еще здоровым, он частенько приходил в ее забойчик, скромно присаживался на камень, служивший стулом, и начинал мечтать вслух: о Москве, об учебе, о будущих плаваниях – он решил обязательно стать после войны моряком и вместе со своим дружком Яшей Гордиенко исходить все моря и океаны. Рассказывал о красивой девушке Иришке, которая будет ждать его целый век, и о сестренке Лене, оставшейся там, наверху, среди чужих людей и фашистов. Или читал стихи, стараясь отвлечь Галину от горьких раздумий…
Однажды, когда Марцишек хотела напоить его отваром мерзлой свеклы, заправленной ячневыми отрубями, Фимка открыл большие, воспаленные жаром глаза. Восково-бледная кожа, будто наклеенная на острые скулы, чуть заметно дрогнула, возле губ собрались мелкие морщинки, весьма смутно напоминавшие прежнюю Фимкину улыбку.
– Это вы… Галина… Павловна?..
– Ефим! Живой, миленький! – сквозь внезапно нахлынувшие слезы тихо вскрикнула Марцишек.
В глазах больного медленно таяла дымка беспамятства, они наливались голубизной, как небо над морем в час рассвета.
Он взял ее руку в свою, горячую, и пожал худыми, как у скелета, пальцами. Это стоило Фимке таких усилий, что он закрыл глаза и долго молчал, будто прислушивался к шороху падающих с потолка песчинок.
– Галина Павловна, – начал он еле слышно, не открывая глаз и почти не шевеля губами. – Вы бываете в городе… Сходите на Красный… к Лене.
– Ее можно привлечь к нашему делу? – спросила Марцишек только для того, чтобы не молчать, чтобы сказать хоть что-нибудь.
Он отрицательно покачал головой:
– Нет… Очень слабенькая и… непрактичная…
И снова умолк.
Марцишек поправила подушку, погладила его слипшиеся белые волосы.
– Скажите: я жив, – собравшись с силами, снова прошептал Фимка. – Скажите: мне хорошо… Я скоро… очень скоро… помогу ей…
К утру Фимка умер.
Его похоронили в дальней глухой выработке. Рядом с Иваном Ивановичем и другими павшими катакомбистами.
А Галина Марцишек только через десять дней смогла выбраться в город.
Шел дождь. Снег размыло. На тысячи голосов завывал ветер. Даже прожектора не могли пробиться сквозь темень ночной степи. А она шла одна, пахотой, то увязая в цепком, как магнит, черноземе, то проваливаясь по пояс в лужи, забитые талым снегом… На рассвете добралась до окраины города, тщательно вымыла в луже ботинки, чтобы скрыть, что пришла издалека.
Промокла насквозь. Тело ломило от холода. Согреться бы, капельку отдохнуть. Разве зайти сразу на Красный, к Фимкиной сестре? Все равно, пока не откроются учреждения и магазины, с подпольщиками не встретишься. И на явку в городском саду еще рано. А на Красном можно хоть немножко отогреться, переодеть чулки… Если бы стакан кипятку с морковной заваркой – и совсем хорошо!
Но на Красном и дверь-то приоткрыли всего на ширину цепочки.
– Ленка? Дома не ночевала твоя Ленка, – сердито пробубнил старушечий голос из-за двери.
– Где же ее искать?
– Откудова мне знать. Теперь никто никому ничего не сказывает. Может, в «Южной ночи» знают. Она там днюет и ночует…
– Это в ресторане, что ли?
Старуха молча захлопнула дверь, щелкнула задвижкой.
Марцишек осмотрела себя, вздохнула: в таком виде в ресторан не пойдешь. Только беду на себя накличешь.
…Два битых часа промерзла Галина Марцишек в Городском саду, но на условленное место так никто и не явился… Конспиративная квартира на Пишоновской провалена. Об этом предупреждал сигнал: мазок кузбасслаком на сером фонарном столбе, что у самого подъезда… Прошла мимо Археологического музея. Месяц назад здесь работала разведчица Мария. Теперь окна и двери музея были наглухо заколочены необрезанными досками. У входа валялись обломки скульптур, разбитые и растоптанные черепки, сломанные ящики, мусор, остатки упаковочных материалов. Очевидно, все музейные ценности вывезены. Мария жила в том же доме, что и Марцишек, на Короленко. Идти туда нельзя: кто-нибудь из соседей может узнать в убогой нищенке жену судового механика, библиотекаршу Галину Павловну и донести в полицию. Послать бы за Марией. Но кого? Она шла по улице, незаметно оглядывала прохожих – одни казались друзьями, другие – врагами, а знакомых не было. Да и не всякому знакомому признаешься…
Решила еще раз сходить в бодегу на Тираспольской. Она там уже была утром, но нужного человека не застала.
В полутемном подвале, как и утром, пахло прокисшим пивом, жареной рыбой и грязной посудой. Сквозь табачный дым с трудом можно было разглядеть на полках запотевшие бутылки. За выскобленными столиками сидело несколько подвыпивших неопрятно одетых мужчин. На самом виду, у прохода, нагло выставив грязные ботинки и распахнув шинели, трое солдат тянули вино прямо из бутылок. За стойкой, опасливо поглядывая на солдат, метушился горбоносый, похожий на грека или румына, буфетчик в сером застиранном халате.
Сергея Петровича опять не было. Марцишек сперва хотела незаметно вернуться на улицу, но потом передумала: надо подождать, может, Сергей Петрович вышел на минутку по делу, а в третий раз заходить в бодегу и возвращаться, ничего не спросив, – опасно. Она заказала порцию жареной капусты и прошла в самый темный угол. Столик оказался залитым чем-то липким, усыпанным хлебными крошками и окурками – видно, его только что оставила какая-то теплая компания.
Подошел буфетчик и поставил перед Галиной тарелку с холодной, бог знает на чем изжаренной, капустой. – «В катакомбах и этого нет, – подумала Галина, – да тут и теплее, чем на улице. Обогреюсь пока». Она развязала уголок платка с деньгами и, когда буфетчик наклонился, чтобы взять их, тихо сказала:
– Я вчера задолжала Сергею Петровичу десять лей. Передайте, пожалуйста.
Буфетчик отпрянул, будто ожегся. Потом скосил глаза на солдат, на сидевших за соседним столиком выпивох и, убедившись, что на него не обращают внимания, сдернул с плеча полотенце и, делая вид, что стирает со стола, наклонился, прошептал чуть слышно:
– Убирайся немедленно. Сергея Петровича ночью взяли.
Потом закричал на всю бодегу:
– Где я тебе возьму сало?! Нет у меня сала! Я предупреждал – капуста жарена на комбижире. Сало!.. Ты еще краковскую колбасу потребуешь. Так ее тоже у меня нету!
Он схватил тарелку с капустой и, высоко подняв ее перед собой, разгневанный пошел к стойке.
– Нищенка, а тоже мне – сала захотела!
Галина запахнула полы старенького ватничка, неторопливо повязала вокруг шеи концы большого рваного платка и, по-старушечьи согнувшись, пошла к выходу:
– Не гневись, хозяин. У меня желудок комбижиру не принимает.
Ветер и дождь утихли еще утром, а с обеда морозец начал стеклить лужи на мостовой. Мокрый ватник на Галине совсем задубел. Ноги от холода сводило судорогами. Руки закоченели. Ныла спина и кружилась голова от голода и усталости. Куда же теперь? Неужели придется вернуться в катакомбы, не встретившись ни с кем из подпольщиков?.. Ах, черт, хоть бы не заболеть, не свалиться среди улицы. В висках стучит, что в кузнице…
Марцишек и не заметила, как оказалась на Греческой площади, у одноэтажного дома, в котором жила ее давнишняя знакомая по библиотечным курсам Ляля Кица. Зайти, что ли, к ней?..
Правда, Ляля – девка-ветер, любит, чтобы дым коромыслом! Говорят, в какой-то развеселой бодеге певичкой устроилась… Но в душе она – наш, советский человек, не побежит заявлять в полицию.
Ляля гадала на картах молоденькой голубоглазой блондинке, когда Марцишек постучалась к ней в комнату. Как держала в руках колоду, так и застыла, чуть сигарета из губ не вывалилась.
– Галка?! Откуда ты? Что за вид!
– Здравствуй, Ляля. Вот проведать тебя зашла. Слышала, ты преуспеваешь?
– Боже мой! Да с тебя течет!
Ляля бросила на стол карты, быстрым движением поправила рассыпавшиеся по плечам иссиня-черные волосы, запахнула халатик и, пыхнув сигаретой, подошла к Марцишек.
– Сними ботинки. А то ты мне весь пол замараешь.
– Я бы сняла, да чулки у меня не суше, все равно натопчу.
Ляля метнулась к шифоньеру, выдернула нижний ящик:
– На вот шлепанцы. Разуйся… Господи, да у тебя и с ватника течет.
Пока Марцишек снимала задубевшими руками платок, Ляля молча смотрела на нее, попыхивая сигаретой. Потом повернулась к блондинке, со страхом и удивлением наблюдавшей за Марцишек:
– Линда, сходи, милочка, на кухню, посмотри, не закипел ли наш чайник. Возьми в тумбочке чай, там, в жестяной коробке, завари, пожалуйста.
Блондинка молча поднялась из-за стола, взяла коробку и как-то боком, испуганно прошмыгнула мимо Марцишек в коридор.
– Вот что, голубушка, – глубоко затягиваясь сигаретой и еле сдерживая волнение, сказала Ляля, когда дверь захлопнулась и Марцишек наконец-то стянула размокшие ботинки. – Я дам тебе теплые чулки и сухое белье. Переоденься и… уходи. Уходи, куда хочешь. Я из-за тебя рисковать не собираюсь.
– Ну что ты, Ляля!
– Нет, нет, – умоляюще прижала Ляля ладони к груди. – Уходи, пожалуйста. Видела, какие приказы расклеены по городу? Мне за тебя – расстрел!
– Какой расстрел? Что ты городишь? – искренне удивилась Марцишек. – Не понимаю тебя…
– Не понимаешь?.. Прикидываешься… Дурочкой меня считаешь? Думаешь, я не догадываюсь, откуда ты явилась? Да от твоих же тряпок за версту катакомбами несет, сумасшедшая!
– Боишься? – насмешливо спросила Марцишек, вешая ватник на гвоздь в двери.
– Боюсь, – грустно созналась Ляля. – Ты меня знаешь, Галка, я не продам, в гестапо не побегу. Но рисковать… Галочка, милая, – Ляля задрожала вся, по щекам покатились слезы. – Не надо меня впутывать!.. Я не жила еще… Страшно!
– А когда наши вернутся, не страшно будет?
– Нет… Я никому зла не сделала…
Марцишек хотела возразить ей, но подумала: надо торопиться, пока блондинка не вернулась в комнату.
– А я пришла к тебе жить, Ляля. Насовсем жить.
– Ко мне?! Ты с ума сошла! В коммунальной квартире? Да нас с тобой завтра заберут.
– У меня нет другого выхода, Лялечка. Заберут, так завтра, а не сегодня.
– Не губи, Галочка! – взмолилась Ляля. – Бери, надевай, что хочешь: шубку, ботики теплые, все, все отдам. Пропади оно пропадом! Тебе тепло будет!.. Ну где-нибудь переночуешь… в разрушенном доме… Только уходи!
– Я больна, Ляля. Мне нельзя в разрушенном доме. Если не у тебя, то есть только один выход: на Короленко, 15 живет Мария Николаевна Стрежень. Она обещала подыскать мне квартиру, временную. Но туда я пойти не могу, ты знаешь почему. Так вот: пока мы с твоей блондинкой будем чай пить, ты сходишь к ней и передашь, что я жду ее в шесть вечера на углу Садовой и Петра Великого. Да не вздумай, пожалуйста, выкинуть какой-нибудь фортель – я предупредила товарищей, что иду к тебе, если со мной что случится, они тебя найдут. Вот и все. Сходишь?
Ляля не успела ответить: открылась дверь и вошла блондинка с кипящим чайником в руках.
Ляля подала посуду, вынула из тумбочки несколько кусочков сахара, крохотный кубик маргарина и булку белого хлеба. Настоящего ситника, с розовой крохкой корочкой, какого Марцишек не видела с первого дня войны.
– Ах, ах! – вдруг спохватилась Ляля. – Уже четыре, в половине пятого аптека закрывается, а у меня не получено заказанное лекарство!
– Я схожу, Ляля Карповна, – поднялась из-за стола блондинка.
– Нет, нет! Что ты, Линдочка! Тебе не дадут. Я сама, быстренько. А ты уж поухаживай тут за гостьей.
Галина Марцишек налила себе чаю, отрезала большой ломоть хлеба и, преодолевая желание сразу впиться в него зубами, начала намазывать маргарин. Девушка сидела не шелохнувшись, не спуская с Галины больших синих глаз.
– Тебя зовут Линдой? – спросила Галина, чтобы как-то начать разговор, нарушить гнетущее молчание.
– Меня? – будто очнувшись от оцепенения, ответила девушка. – Нет, это для них я – Линда…
– Для кого для них? – стараясь сохранить спокойствие и сдержать предательскую дрожь в руках, спросила Галина.
– Для них, для всех!.. У меня есть мое имя – Лена… Лена Бомм… у меня брат в катакомбах… Я слышала ваш разговор. Я не хотела подслушивать. Но чайник еще не кипел, и я вернулась было в комнату. А потом… потом боялась отойти от двери, чтобы кто-нибудь посторонний не подслушал…
26. Побег
– Мягче, мягче! – настаивал Ионеску. – Снимите с него кандалы. Дайте ему поверить, что он и в самом деле останется жив. Пусть передают ему все, что хотят: продукты, одежду, даже книги, конечно, не политические. Пусть пишут ему записки, только копии этих записок должны поступать к вам, майор Курерару… И надо подорвать к нему доверие остальных арестованных.
Распоряжения Ионеску и Курерару сбивали с толку охрану тюрьмы и надзирателей. Жандармы начали смотреть на Яшу с опаской – молодой, видать, да ранний. Даже Нинину авоську проверяли все реже и менее тщательно: не дай бог, пожалуется девчонка начальнику следственного отдела, ни зубов, ни ребер не досчитаешься!
И шли двумя потоками письма Яши из тюрьмы.
Открыто:
«Спасибо за передачу. Как здоровье бати? Не унывайте, у нас все хорошо. Привет тете Домне, Лене. Принесите молока, хлеба, черные брюки…»
Через потайную щель в ручке авоськи, в загибе камышовой корзинки или под двойным дном сумки:
«Как дела на фронте? Правда ли, что наши отбили Харьков? В бутылке с ряженкой можно спрятать пилочку для резки металла. Нина, разбери пол в мастерской под моим станком, там пистолет и патроны. Пистолет зашейте в дно сумки и передайте мне. Патроны – в ряженку. Самогон закрасьте молоком, для них годится. Это ничего, что будет запах, все равно пить его будут надзиратели и охранники. Они знают…»
– Ты бы хоть писульку мою когда-нибудь передал для Юльки, – попросил однажды Яшу Алексей.
– Нужна она тебе сейчас, Юлька-то, вертихвостка! – ответил за Яшу Чиков.
– Нужна – не нужна, а хоть одну из своих девчонок повидать сейчас, все легче… – вытер рукавом Алексей кровь на разбитых во время допроса губах. – Ты же, Саня, знаешь: в мирное время куролесил я – дай бог всякому, девчонки за мной аж пищали. Любой моргну – моя будет. А потом, в подполье, я во как зажал себя, кроме как о деле, думать ни о чем не хотел. Встретила как-то Юлька на Новом базаре, в толчее, при всем честном народе влепила мне поцелуй в самые губы. «Лешенька, – шепчет, – приходи, ждать буду». У меня – аж искры из глаз, а сдержался, не пошел… А сейчас… – Алексей так горько вздохнул, что ребята переглянулись. – Всего недотанцованного, недоцелованного жалко…
– Что же ты свою Юлечку в подполье не привлек? – не отвязывался Чиков.
– Юльку? Юльку к груди привлечь можно, Юльку в жены взять можно, а в подполье… На меня, Санечка, так в подполье я не взял бы и многих из тех, кого уже взяли.
– Вот выпутаемся, налюбишься еще со своей Юлькой. А сейчас – нельзя, – решительно отрезал Яша. – О записках только Нина да мать, да еще, кому надо, знать должны.
– Думаешь, выпутаемся?
– Надо выпутаться.
– А выпутаемся, так я… Ох, похрустят фашистские косточки! Мы им покажем желто-зеленую жизнь!
– А Юлька?
– Что Юлька? Юлька – девчонка что надо! Тебе это еще не понять. Без таких, как Юлька, жить скучно…
…Шли передачи Яше в тюрьму.
Бутылки с ряженкой (на дне патроны), бутылки с самогоном; в потайных щелях – листовки, расклеенные партизанами в городе, записанные городские слухи о сводках Совинформбюро, о настроениях населения, о том, что в Николаеве будто бы вспыхнуло восстание рабочих, перешедшее в уличные бои… В Усатове был большой бой партизан с карателями…
Живы катакомбисты! Сознание того, что не все арестованы, что в катакомбах сохранился отряд, придавало сил, будоражило мечту о побеге. Заряженный пятью патронами пистолет уже лежал в кармане Яшиного бушлата. Планы побега обсуждали шепотом, после полуночи, когда надзиратели выключали свет в камере. Планов было много. Их принимали – и тут же отвергали. О них спорили до головной боли… После долгих споров решили попроситься у тюремного начальства на работу, пилить дрова для бани. Обычно для этой работы назначали троих: двое пилили, один придерживал бревно. Старшему тюремщику – толстому, обрюзгшему румыну, дали бутылку самогону, переданного Ниной. Вторую бутылку распили жандармы – коридорные.
Решили в первый раз ограничиться разведкой: посмотреть двор, прикинуть, где, когда и как лучше будет разделаться с конвоирами, перебраться через забор. Пошли Яша, Шурик Хорошенко и Саша Чиков.
Двор оказался захламленной и грязной дырой метров в тридцать в длину и столько же в ширину. С трех сторон поднимались высокие глухие стены каменных зданий – ни щели между ними, ни окна, рукой зацепиться – и то не за что. С четвертой стороны двор отгораживался от соседнего двора высоким дощатым забором, вдоль которого была натянута колючая проволока. На самом дворе – беспорядочные штабеля дров, кучи тонких и толстых бревен, какие-то ящики, доски, разбитые дверные рамы, сломанные барабаны из-под кабеля.
Конвоировали ребят два пожилых румына. Один сразу же куда-то ушел, второй, рябой, седоусый толстяк в короткой шинели и высокой папахе, похожий на дядьку-молдаванина, торговавшего на «Привозе» домашним вином, взобрался на поломанную телегу, стоявшую недалеко от ворот, положил на колени автомат и дремал, пригретый мартовским солнцем, как ленивый кот на припечке.
Ребята без кандалов (конвойные сняли их на время работы) будто новые силы обрели – потрудились на славу: напилили столько колод, что вернувшийся к концу работы высокий и черный, как жук, конвоир довольно прищелкнул языком и, похлопав ладонью Шурика Хорошенко по широкой спине, что-то весело сказал по-румынски своему напарнику. Может, ему, работяге, крестьянину из Молдовы или лесорубу из Добруджи, по душе пришлись сильные работящие парни. Может, ему и самому хотелось в этот весенний день скинуть к дьяволу шинель, засучить рукава да попотеть над любимым делом.
У трудового человека всегда, а ранней весной особо, к работе руки чешутся, и не вина его, а беда его была в том, что в работящих руках – автомат, а не лопата виноградаря или топор лесоруба.
Когда вернулись в тюрьму, высокий конвоир что-то сказал старшему тюремщику, показывая на заключенных. Тот кивнул ему в ответ головой, а ребятам сказал по-русски:
– Хвалит вас. В следующий раз, если захотите проветриться, снова пошлю.
Ребята всю ночь шептались, обсуждая детали побега. Добряк Хорошенко предложил:
– Может, не надо губить конвойного? Обезоружим, свяжем, кляп в рот заткнем и все? А?..
– Не мудри, Шурик, – возразил Алексей. – Война есть война. Если в случае чего, он в тебя пулю всадит и не сморгнет. А нам время терять на возню с ним нельзя.
Но следующего раза ждать пришлось долго, целых две недели. А в камере произошли перемены. В канун побега Шурика Хорошенко перевели в другую камеру, а вместо него пригнали опять Бойко. Он очень осунулся, постарел, запаршивел, руки и ноги шелушились от экземы. Ночью, когда Яша и Алексей уснули, подозвал к себе Сашу Чикова, прошептал:
– Что это Яков один у нас без кандалов гуляет? И свидания, и передачи ему чуть не каждый день?.. Что-то не слыхал я, чтобы в сигуранце такие блага предоставлялись за здорово живешь…
Саша выслушал Бойко, долго сопел в темноте, кашлял и плевался, а потом сказал почти спокойно:
– Петр Иванович, с вашим Володей я учился когда-то в одном классе. Стало быть, вы и мне в отцы годитесь – ни выругать, ни дать вам по шее я не могу, хотя и жалею об этом. Но если Яша узнает о ваших подозрениях, он парень вспыльчивый, может и не сдержаться, так что лучше вы уж помалкивайте… Пожалуйста, помалкивайте, Петр Иванович.
А утром, перед вызовом на работу, ребята долго шептались. Бойко притворился спящим, но как ни напрягал слух, так и не услышал, о чем они спорили. Потом его тихонько окликнул Яша Гордиенко:
– Петр Иванович, проснитесь.
Бойко так испугался, что думал, опять икотка его нападет. Но осилил страх и даже помычал что-то, будто приходя в себя со сна.
– Мы тут бежать собрались, Петр Иванович, – начал Яша, присаживаясь на корточки рядом с лежащим Бойко. – Все подготовили, дело верное. Бежать можно только троим, тем, кто пойдет на работу…
Яша помолчал, посмотрел, как ширятся у Бойко глаза, как задрожали под отросшими усами губы – нервничает старик, тут и для крепкого духом испытаний больше, чем достаточно, а Бойко, это Яша знал, духом слаб, и где смелому по колена, там трусу по уши…
– Мы тут советовались, – продолжал Яша. – Если вы согласны идти на это дело – любой из нас останется в камере.
Бойко стянул с себя пальто, которым был укрыт, приподнялся на дрожащих руках, вцепился глазами в Яшины глаза:
– Врешь, Яков… Врешь, не могли вы так решить.
– Ну почему же не могли, Петр Иванович? Решили. Все-таки вы командиром у нас были, да и тюрьма, видно, вас напрочь съедает, вон все тело коростой пошло. Тюрьмы вы долго не выдержите…
Бойко не опустился, а упал на пол, стянутые кандалами руки отказались держать на весу его тело. Из-под густой седоватой щетины лихорадочно блестели глаза.
– Не могу я… Слаб я… бежать.
– Чепуха! – Яша нарочно говорил резко, напористо, будто словами можно было влить бодрость в изъеденное страхом Бойково сердце, заставить бороться еще не умершее тело. – Мы вам поможем. Только постарайтесь не дрожать и не думать о смерти. Когда я выстрелю в конвоира – быстро бегите к забору, там мы два бревна с зарубками приставим, подсадим вас, если надо. Слово комсомольца, не убежим раньше, чем вас через забор не перетащим.
Бойко покачал головой, не сводя с Яши огромных, до краев налитых ужасом глаз:
– Нет. Не могу…
Яша увидел, как по усам и бороде покатились крупные слезы.
Подошли Алексей и Саша:
– Можете надеяться на нас, Петр Иванович. Мы между собой жребий метнем, кому в камере остаться.
– Нет, – снова качнул головой Бойко. Казалось, остатки сил покинули его ослабевшее тело. – Я свое пожил… А вы – молодые… Вам на волю надо, вам жить надо…
– Ну, прощай тогда, Петр Иванович, – склонил голову Яша. – И если я был с тобой когда несправедлив, прости.
…Стоял солнечный мартовский день. Даже брусчатка на банном дворе исходила паром. А сверху, вместе с лучами солнца, лился занесенный из пригородов аромат прогретой земли, молодой травки, абрикосовых почек и то тонкое, еле уловимое благоухание, которое только в Причерноморье и только ранней весной носится кругом, насыщает воздух.
Выбирая бревно для распила, не сговариваясь, отложили в сторону два тонких сучковатых сосновых ствола – их легко будет быстро приставить к забору и по сучкам, как по ступенькам лестницы, взбежать наверх. Подтащили на козлы длинное неокоренное бревно, густо усыпанное пятнистыми божьими коровками, красными веснянками, какими-то жучками, комашками, блошками, которые проснулись, возились, метушились, ползали… Алексей и Чиков взяли пилу, Яша оседлал бревно, обхватил руками, чтобы оно не качалось на козлах. Искоса поглядывал на конвоиров. Это были те же самые, что и в прошлый раз, дядьки, одетые в черно-желтые помятые мундиры. Хотя бы скорей ушел этот высокий черный добряк. Уж очень не хочется в него стрелять. Но конвоиры закуривали, повесив автоматы на шеи, о чем-то переговаривались, незлобиво поглядывая на арестантов. Надо подождать, пока один из них уйдет, а другого разморит солнце, и тогда…
Калитка в воротах заскрипела и открылась, пропуская начальника тюремной охраны. За ним вскочило еще человек десять автоматчиков и, о чем-то крича, побежали мимо Яши в дальний угол двора. «Вот не повезло, – подумал Яша. – Угораздило же этого идиота – начальника охраны проводить занятие со своими подчиненными именно во дворе бани и именно сегодня. Ну, ничего, это на час-два, не больше».
Начальник что-то закричал конвойным, те вытянулись, забегали глазами, потом вдруг кинулись к арестованным, жестами показывая, чтобы они бросили пилу и собирались:
– Ласе! Дуте ынкы соры! Довольно, идите в тюрьму!
Четверо подошли к Яше. Один из них, здоровила с обрюзгшим лицом, бросился на Яшу. Гордиенко инстинктивно отпрянул в сторону, но сзади несколько человек схватили его за руки. Чем-то тяжелым ударили по голове.
В последнюю минуту Яша увидел, как Алеша, схватив двумя руками колун, отбивался от наседавших на него охранников, как трое румын повалили на землю Чикова и размашисто, с хриплым придыханием били Сашу ногами.
Очнулся Яша в камере, среди огромной лужи. Его поливали водой из шланга.
– Ласе! Хватит! – сказал кто-то. – Он уже пришел в себя.
Яша открыл глаз и увидел перед собой скалящего зубы Чорбу. Чуть в сторонке стояли Курерару, начальники охраны и тот оловянноглазый капитан, что арестовывал Яшу на Нежинской.
– Приступайте, капитан Аргир, – кинул оловянноглазому Курерару.
Тот подал какой-то знак, и четыре сильные руки встряхнули Яшу, поставили его на ноги.
– Федорович! – громко позвал Аргир, – скажите ему, пусть ведет себя благоразумно.
Только теперь Яша заметил Бойко-Федоровича. Он стоял сзади офицеров в длинном коричневом пальто, без шапки. Федорович подошел к Гордиенко:
– Брось, Яков, запираться, это ни к чему хорошему не приведет.
Он что-то говорил еще, но Яша почувствовал, как его подхватила какая-то сила, качнула из стороны в сторону, закружила, завертела так, что в глазах пошли красные круги и зазвенело в ушах. Сперва тот звон нарастал, бил по вискам, превращаясь в колокольный гул, потом стал все тише и глуше, и откуда-то издали, как через стену, доносился голос предателя Федоровича:
– Очевидна бессмысленность игры в тайну там, где никакой тайны уже нет. Наше дело проиграно, Яков. Надо думать о спасении самих себя, пока еще не поздно.
Яша снова открыл глаза. Камера все еще покачивалась из стороны в сторону. И вместе с камерой качался стоявший перед ним Федорович.
– Нам дают последнюю возможность, Яков. Последнюю, ты понимаешь? Потеряем ее, тогда – все. Жизнь дважды не дается, Яков. Она – не окурок: потухнет, второй раз не прикуришь.
Яше казалось, что Федорович только шевелит губами, а голос исходит откуда-то сверху, скрипучий, как виселичная перекладина.
– Все потерять можно, – ответил Яша, с трудом разжимая онемевшие челюсти. Голос его тоже казался ему чужим, исходящим не от него, а откуда-то со стороны. – Все потерять можно… и снова найти… Все, кроме чести. Ее не вернешь.
– Брось, Яков! – презрительно скривил губы Федорович. – Игра сыграна. Большевиков добивают на Кубани. Им не вернуться. А у тебя – мать, больной отец, сестренка… Кроме тебя, о них позаботиться некому. Подумай, Яшко…
– Я думал… Я думал, что ты только трус, Федорович. А ты… А ты… – Яша не сумел подобрать подходящего слова. – Уйди, гад! Уйди!
Яша рванулся к Федоровичу, но четыре сильные руки удержали его. Тогда Яша повис на этих руках и, подняв ноги, выкинул их вперед, пытаясь достать ботинками до лица Федоровича. Но тот отшатнулся, попятился, прячась за спины Аргира и Курерару. Яша собрал все силы и всю липкую слюну, которая в нем была, и плюнул в Федоровича:
– Я себе до смерти не прощу, что не пристрелил тогда тебя, как собаку.
Его избили в тот день так, что куски одежды вросли в тело. Но он не сказал больше ни слова.
На другой день Нина вынула из тайника в сумке записку:
«Мне дали очную ставку со Стариком. Он меня продал с ног до головы. Я отнекивался. Меня начали бить. Три раза принимались бить в течение четырех или пяти часов. За это время я три раза терял память и один раз притворился, что потерял сознание. Били резиной, опутанной тонкой проволокой, грабовой палкой метра с полтора. По жилам на руках били железным прутом. После побоев у меня остались раны на руках, ногах и повыше…
Я сознался лишь в том, что знал Старик, а именно в том, что был связным в отряде, пристрелил провокатора А. Садового. Конечно, в сигуранце знают, что я был командиром молодежной группы. Тех, кого знал Старик, Алешу и Шурика, арестовали, а другие из моей группы гуляют на воле. Никакие пытки не вырвали у меня их фамилий…»
А через два дня Яше сообщили, что Алеша и Саша Чиков расстреляны по приговору военно-полевого суда за попытку к бегству.








