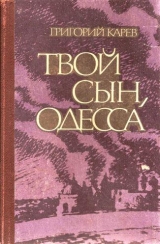
Текст книги "Твой сын, Одесса"
Автор книги: Григорий Карев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
18. Бадаев выходит в город
А Бадаеву очень нужно в город.
Связь с группами подпольщиков в городе и в порту налаживалась. Вот только долго не было вестей от наших партизан из катакомб Молдаванки. Приходили разные сведения об этой группе. Одни сообщали, что она разгромлена фашистами, другие якобы видели подпольщиков в городе: ходят, дескать, свободно, видать, ушли из подполья, не выдержали. Бадаев не верил этому. Руководителей партизан он хорошо знал – чекисты, люди верные и опытные… А тут и центр запрашивает, давно нет связи с ними, выясните, сообщите… А связные приносят вести одну безрадостней другой.
В первые дни февраля пришел старый горняк Кужель. Он всегда приходил неожиданно, неизвестно откуда, как дух подземелья. Пришел, подсел к Бадаеву, свернул цигарку душистого самосада, поправил рыжеватые, густо перевитые прокуренной сединой усы, вздохнул:
– Плохи дела, Павел Владимирович. Верные люди рассказали: замуровали фашисты партизан в тупиковых шахтах под Молдаванкой. Начисто замуровали.
Бадаев нервно затянулся сигаретой:
– Может, сведения ошибочны, Иван Афанасьевич?
– Нет. Верные, – покачал головой старик. – Старший штейгер рассказал. Мы с ним в катакомбы на сходки ходили в девятьсот пятом, здесь же партизанили в гражданскую, четверть века хлеб ломиком да пилой добывали. Я ему, как себе, верю.
– Может, он ошибся, может, не совсем замуровали?
Иван Афанасьевич недовольно поскреб прокуренными пальцами небритый подбородок:
– Ему все щели на Молдаванке ведомы. Говорит, сурчиной норы, паразиты, не оставили, все бетоном залили.
– А позашкурных, обходных ходов под Молдаванку нет?
– Был один через большекуяльницкие и кривобалковские катакомбы, да лет пять тому на одном участке земляной пласт осел, перекрыло, тупик образовался…
Как помочь товарищам, попавшим в беду? Как спасти людей? Сизым облачком вьется дым от Кужелевой самокрутки, от Бадаевской сигареты, вытекает тонкой струйкой за сквозняком в штольню…
– Ты дуже не журись, товарищ командир, – покрутил стрельчатые усы старый горняк. – Може, я и помогу беде. Есть еще один, совсем старый ход из города. Можно той дырой пробраться под Еврейское кладбище, обойти подземными дорогами Бугаевку… Дальний ход, километров двадцать идти надо под землей, и якщо не наткнемся на сдвиги земляных пластов, то найдем дорогу к замурованным товарищам. Правда, хода там задавленные, кое-где и на животе нужно проползать, местами завалы бута руками разбирать придется… А мне уже седьмой десяток. Дай кого из хлопцев покрепче мне в помощники… Авось, выведем… Не пропадать же людям, в самделе…
А поверят ли партизаны незнакомым людям? Не сочтут ли их за провокаторов, подосланных оккупантами? Ведь отряд в катакомбах, что рота в бою, – уйти без приказа не смеет. Оставить боевой пост может только мертвый – таков закон чекиста… Нет, никто, кроме Бадаева, не выведет их. Только ему, только ему, ему одному может поверить командир попавшего в беду отряда.
Ход, о котором говорил дед Кужель, начинается где-то в парке, у Ланжероновского пляжа. Прежде чем в него войти, надо выйти в город, разведать, не обнаружен ли он фашистами, хотя старый шахтер и уверяет, что дырой той с самой гражданской войны никто не пользовался и занесло ее прелым листом за двадцать с лишним лет так, что днем с огнем ее не найдешь.
Правда, оставлять отряд надолго Бадаев по инструкции не имеет права. Хотя он несколько раз выходил в город и даже оставался там суток по двое, но каждый раз на то было разрешение Москвы. А где его взять, то разрешение, когда уже третьи сутки нет связи, в наушниках, кроме треска электрических разрядов, ничего не услышишь… А там гибнут, задыхаются боевые товарищи. Бадаев невольно вспоминает, как в декабре и здесь задыхались газами в подземном склепе – еще бы полсуток и… В инструкции, конечно, многие случаи предусмотрены, и писали ее умные люди, но такой случай, как у катакомбистов, предусмотреть никто не мог – считай, со времен Спартака люди в катакомбах не воевали. Значит, надо соображать самому, соображать не мешкая.
Бадаев приказал позвать связную Тамару Межигурскую и приготовить фонари.
…Яша очень жалел, что не застал Владимира Александровича у Бойко.
– Да он всего минут десять, не больше, был, – прищурил один глаз Бойко, будто прицеливаясь в Яшу. – Нервничал чего-то и торопился. Да и явился, заметь, с утра, никогда в такую рань не приходил.
– Один был?
– Нет. С мим Тамара Меньшая и еще какой-то усатый старик. Водит всяких тут на нелегальную квартиру, никакой конспирации. А еще чекист!
– Куда ушел, не сказал?
– Нет. Переоделся, чтобы катакомбами не пахло, услал куда-то связную и ушел со стариком. Велел Тамаре быть здесь завтра к вечеру. Может, и он придет. Я велел Петру Продышко спирта и пива доставить.
– Вы бы еще додумались оркестр выставить для встречи.
…Девятого февраля 1942 года над Одессой валил густой снег, злой ветер подхватывал его, закручивал в белые жгуты, с воем и свистом хлестал теми жгутами прохожих по лицам, по глазам, норовил сбить с ног..
Хорошенко в тот день не работал – грипповал. Алексей закрыл мастерскую – кто придет в такую непогодь! – пошел к родным. Яша с Чиковым поднялись в свою комнату.
Вскоре пришла Тамара. Большой накидной платок, длинное пальто и кирзовые сапоги были так залеплены снегом, что Яша и Чиков еле отчистили их на лестничной площадке. Ребята усадили босую, продрогшую от холода Тамару на койку, закутали суконным одеялом.
– Грейся. Спирту немного выпьешь?
– Нельзя, – вздрагивая всем телом и согревая дыханием закоченевшие кулачки, ответила Тамара. – Скоро Павел Владимирович придет.
Маленькая, щупленькая, коротко стриженная, она и теперь напоминала Яше скорее смышленого крестьянского паренька, чем ту веселую и таинственную молодую женщину, которую он встречал иногда на праздничных вечеринках у ее родственницы.
– А вы меня помните, Тамара?
Межигурская засмеялась, не отнимая кулачки ото рта, будто грела их не дыханием, а смехом:
– Помню, Яшко.
– Нет, не тогда в катакомбах, а еще до войны. Помните, вы на октябрьские гуляли у наших соседей, мы с Толиком, сыном вашей родственницы, читали стихи о Дзержинском, а вы подошли потом и прикололи нам на галстуки гвоздики…
– А потом ты оборвал у соседки все хризантемы в палисаднике и навалил мне целую охапку… – все так же смеясь, вставила Межигурская.
– Значит, помните! – залился краской Яша. – А я думал…
– Помню, Яшко. Только ты был тогда просто бесшабашным сорванцом, а теперь – подпольщик, разведчик. Я слежу за твоими успехами и горжусь тем, что рекомендовала тебя и Алешку в отряд… Вот только танцевать тебя так и не научила. Ну, ничего, у нас с тобой еще все впереди. Правда?
Так вот откуда Бадаев все знал о нем! А Яше-то казалось, что все так просто – понравился Бадаеву Яшко-Капитан и все тут!.. И раньше Яша как-то тянулся к этой загадочной для него молодой женщине-чекистке, а сейчас почувствовал, что стала она для него такой близкой, такой родной, что, может, кроме матери… да еще, кроме Лены, Ли… никого и нет у него роднее… Ему захотелось рассказать ей о Ли, о своей любви, доверить ей то, что, пожалуй, никому и никогда не доверил бы… И рассказал бы, если б не Петр Иванович, который все время крутился в комнате Гордиенко, то, вдруг вспомнив о чем-то, бежал в свою комнату, где сиял белой скатертью, рюмками и графинами большой стол, чтобы через минуту снова зайти и спросить, не хочет ли Тамара выпить чего-нибудь или поесть.
Хотел Яша рассказать о Ли. А заговорил совсем о другом:
– Мне бы таким, как вы… И как Бадаев.
– Каким же, Яшко? – все еще смеясь, дула на пальчики Тамара.
– Чекистом. Смелым и… твердым, как кремень.
Тамара вдруг перестала улыбаться. Она взяла Яшину руку в свою холодную, тонкую и сильную ладонь:
– Нет, Яшко, нет. Чекист – не кремень. Чекист это… Это как горьковский Данко. Помнишь? Вынул из груди свое сердце и зажег его, как факел, для того, чтобы спасти других…
Неожиданно вошел Бадаев, возбужденный, раскрасневшийся от холода, довольный:
– Ах, хороша вьюжка! – потирая озябшие руки, смеялся он. – Родные края напоминает. В лес бы сейчас, в домик на курьих ножках: в маленьком камельке уютно теплятся угли, на столе шипит чайник, пахнет сухим листом и травами, а за окном – светопреставление! Ах, прелесть!.. Говорят, боги не засчитывают в счет жизни время, проведенное на охоте… Правда, Яша? Да откуда тебе знать, твоя стихия – море! И это не хуже, я думаю… А кстати, как твой подрывник, все еще хворает?
– Обойдемся без Зиня. Я говорил с его дедом, ко дню Красной Армии рванем офицерское собрание…
– Хорошо бы, Яшко, хорошо! Вон черноморцы в районе Судака в третий раз десант высадили. Надо и нам почаще напоминать господам завоевателям, что они не гости на нашей земле, а воры, что мы здесь хозяева.
– Будет сделано! Все будет точно!
– А завтра, Яшко, – Бадаев отвел Яшу к зашторенной черным молескином балконной двери, чтобы остальные не слышали их разговора, – сходи на квартиру к Екатерине Васиной. Адрес знаешь?
Яша молча кивнул головой.
– Там дед Кужель наших людей из Молдаванки на ночь пристроил. Помоги Васиной определить их на квартиры. И документами помочь надо.
– Есть! – по-флотски ответил Яша. – Несколько бланков паспортов еще от Фимки осталось. Как он там, Владимир Александрович?
Ответить Бадаев не успел – вошел Бойко, увидел Бадаева, засуетился, позвал жену:
– Жека, принимай дорогого гостя!
В нарядном платье, надушенная и напомаженная, гибкая, как дикая кошка, Жека всех оттеснила от Бадаева:
– Павел Александрович, голубчик, у меня сегодня день рождения, не обидьте, не побрезгуйте.
– Да мы уже, кажется, отмечали ваш день рождения, когда я в прошлый раз был в городе.
– То день ангела был. А сегодня… Вы у нас заночуете, правда же? – увивалась Жека.
– Э-э-э, нет. Не могу. До комендантского часа надо выйти из города.
– Да что там комендантский час! – подскочил Бойко. – Мы с Яковом вам такой аусвайс, такой пропуск дадим – днем и ночью можно ходить с ним по городу. Правда, Яков?
– Не уговаривай, Петр Иванович, не могу. Дело есть дело.
– Ну, хоть за столом посидите. Не обижайте Жеку.
– Я такую настоечку на чистом спирту приготовила, такие огурчики достала… и маслинки малосольные, закачаетесь!
– Спасибо, спасибо, – прижимал руку к груди Бадаев. – Вот если бы вы мне пару сухих портянок достали, довелось по воде брести, ноги совсем промочил.
– Сей момент, Павел Александрович, сей момент, – заметушился Бойко. – Жека! Тащи мою фланелевую рубашку!
– А ты – человек, Старик. С тобой не пропадешь.
Бадаев зашел на квартиру Бойко не только для того, чтобы переобуться. Совет отряда катакомбистов и раньше был недоволен работой Петра Ивановича, а история с Садовым окончательно убедила Бадаева в том, что дальше Бойко руководить городским подотрядом не может. Оставлять его в городе – тоже небезопасно. Совет решил закрыть конспиративную квартиру на Нежинской. Бойко придет в катакомбы вместе с Бадаевым и больше в город не вернется. Мастерскую следует ликвидировать, а ребятам – идти на заводы, возглавить сопротивление рабочих оккупантам. Фашисты заставляют одесситов работать на заводах и фабриках. Полиция взяла на учет всех трудоспособных, обязала явиться на биржу. Неработающих вылавливают во время облав и либо отправляют на каторгу в Германию, либо бросают в лагеря смерти… Ну что же! Одесситы пойдут на работу. Будут работать и уничтожать сделанное. Как портовики: грузят суда, но ни одно судно, груженное в Одессе, еще не дошло до порта назначения. Или как железнодорожники: сами составляют эшелоны, сами и взрывают их на перегонах… Новая обстановка требует и новых форм борьбы подпольщиков. Бадаев еще вчера хотел было сказать Бойко, чтобы тот собрал командиров групп, хотел проинструктировать их о работе в новых условиях, но в последнюю минуту будто шепнул ему кто – не надо, братья Гордиенки и Чиков сами свяжутся с ними и передадут указания совета отряда.
…Теперь, ожидая, пока Бойко принесет сухие портянки, Бадаев прикидывал в уме, искал удобный момент, чтобы приказать Старику отправиться с ним в катакомбы.
19. Золотое колечко
За ночь снегу того, снегу намело во дворе – чистого, пушистого. Синие сугробы! И, кажется, свет шел не с неба, а от густо заснеженной земли, мягкой, как огромная пуховая перина.
– Доченька, – сказала Матрена Демидовна. – Наготовь снежку. Натопим его и вечером баньку устроим – отца помоем, хлопцев покличем, у них, небось, чубы, что та проволока стали.
Нина схватила ведро, кликнула Бобика и с порога, как в белопенный прибой моря, – у-ух!
А Бобик! Бобик совсем ошалел от солнца, от радужных искр в снегу, от Нининого звонкого смеха – кувыркается, прыгает, визжит и лает, хватает зубами и лапами Нину за пальтишко, валит в снег.
– Ах, Бобик, Бобик, глупый пес, – смеется Нина. – Ты же ничего не понимаешь, дружок, ничего!.. Ну, не лай, милый, не лай. Не лижись! Хочешь, я тебе покажу золотое колечко, хочешь?
Нина поймала Бобика за ошейник, прижала его голову к себе, сунула к самым собачьим глазам палец с блестящим, как солнце, колечком.
– Ну, смотри же, смотри, это мне Леша вчера подарил!..
Вчера Нина рано закрыла ставни в своей комнате и легла спать. Но уснуть никак не могла – очень хотелось есть. За стеной крупными мужскими шагами ходила мать – она тоже хотела есть и думала, чем накормить отца. Что-то ворчала себе под нос, входила в комнату Нины и гремела кастрюлями. Они были пусты. Кому же лучше было знать об этом, как не маме. Но мать как будто не могла поверить этому и все заглядывала и заглядывала в них… Потом она тяжело вздохнула, достала из буфета кусочек хлеба (маленький, черный, черствый, Нина знала – это последний кусочек во всем доме), посыпала его солью, налила из графина стакан снеговой воды и понесла отцу.
Нина никак не могла уснуть.
Пришел Алеша. Сел на краешке Нининой кровати, погладил ее по отливающим медью волосам.
– Красивая ты у нас, Нинок, вся в отца. Говорят, если девочка в отца, счастливой будет… Ты будешь счастливой, Нина. Будешь…
– Леша, ты ничего не принес?
Алексей всегда приносил что-нибудь: кусочек хлеба, сухой затертый бублик, как-то даже несколько ломтиков ветчины, прихваченных Яшей в бодеге Латкина.
– Нет, сестричка. Ничего у меня нет. Ничего… Завтра Петр Иванович обещает партизанский паек выдать. Завтра принесу.
С тех пор, как Нина следом за братьями дошла до Усатовских катакомб, ребята не скрывали от нее, что они связаны с партизанами. Однажды даже послали ее в оперный театр на дневное представление, на галерку. Рядом с Ниной сел старичок в очках, очень похожий на старого аптекаря. Когда занавес поднялся и свет погас, Нина сунула в руку старику записку от Яши…
– Завтра принесу, – повторил Леша.
– А паек из катакомб дядя Павел принес? Или дедушка с усами? – не открывая глаз, спросила Нина.
– Какой Павел? Какой дедушка с усами? – встревожился Алексей.
Нина тихонько засмеялась:
– Вчера я видела дедушку Кужеля. И с ним, наверное, дядя Павел был – такой высокий, красивый… Плечи – во!
– Все ты придумала, Нина. Откуда тебе Кужеля знать!
– А вот и не придумала, а вот и знаю, – опять тихо засмеялась Нина. – И хатку его знаю: белая белая и рядом – колодец, как на картинке… Только колодец без журавля, а с барабаном. Такой деревянный барабан с ручкой, на него цепь накручивается – длиннющая-предлиннющая…
– Все это тебе приснилось, Нина. Нет никакого Кужеля и никакой белой-белой хатки…
– А вот есть, – упрямилась Нина. – А вот видела! Весной пионеров возили на экскурсию в Нерубайское, ты не знаешь. Дедушка Кужель и еще второй дедушка, дедушка Трофим… Трофим Прушинский. Они нам катакомбы показывали, где при деникинцах партизанили. А потом к дедушке Кужелю мы ходили воду пить… Я помню…
– Ну вот, – сказал Леша. – А теперь тебе дедушка Кужель приснился. Поняла?.. И никому этот сон рассказывать нельзя. Поняла? Так надо. Ты же обещала быть дисциплинированной, Нина. Обещала?
– Ага, – вздохнула девочка.
Леша был очень грустен и нежен.
– Вырастешь, Нинок, будешь счастливая… Вспомни, что все, что мы делали с Яшей, делали для тебя… для всех вас…
Он поцеловал ее в оспинку на лбу, как раньше делал отец, когда Нина ложилась спать.
– А сейчас ничего у меня нет, золотинка, ничего… Кроме вот…
Леша торопливо снял со своего пальца тоненькое золотое колечко, подаренное ему мастером ювелирной фабрики в день первой Лешиной получки. Чудной это был мастер: другие от учеников с первой получки требовали долю на пропой, а он за свои деньги делал своим ученикам подарки. Говорят, тот мастер в гетто снял свои золотые коронки и отдал охраннику, чтобы тот не видел, когда будут переправлять на волю больную еврейскую девочку. А сам умер от голода…
Нина проснулась утром, колечко сияло на ее худеньком пальчике…
Но глупый Бобик ничего не понимает в золотых кольцах. Он скулит, вырывается, гребет лапами снег, норовит лизнуть Нину в лицо, бесшабашно весело смотрит Нине в глаза.
– Ах, пес, пес! – смеется Нина, целует Бобика в черный нос и отпускает ошейник.
Ошалелый Бобик кубарем вьется в снегу, визжит и убегает.
А Нине весело! Розовыми пальчиками она нагребает в ведро искристый снег и поет звонко, на весь двор поет:
Сидит бешеный Адольф
Под смерекою.
Он не мелет, не кует,
Не мерекает.
Антонеску перед ним
Низко стелется.
Только Гитлер не мычит
И не телится!
А в конце двора появляется дворник Степан. Хмурый, горбатый дворник, заросший рыжей щетиной, повязанный грязным платком вокруг шеи, с длинными, до колен, неуклюжими руками. Маленькие недовольные глаза из-под лысых бровей. Колючки, а не глаза… Он был дворником при Советах, остался и при румынах. Во дворе все его опасаются, говорят – оккупантам продался. Он всегда пугает Нину:
– У хлопцев ваших шумно вечером было в комнате. Пусть прекратят, а то в участок доложу.
Или:
– Опять до ночи в мастерской сидели. Свет жгли. В щели свет видно, маскировку нарушают.
Если кто ночью во дворе спичкой чиркнет – сразу:
– Гаси огонь! Бомбу с воздуха захотел?!
А что та спичка? Ее и на земле-то за несколько метров уже не видно.
Нина не видит горбатого Степана, поет, смеется.
А он тихий, как тень, подходит к ней почти вплотную:
– А я бы на твоем месте, девка, песен не пел.
– Почему? – смеется Нина. Она сегодня даже и нелюдимого дворника не боится.
– Вчера вечером твоих братьев сигуранца взяла.
Нина ничего не понимает. Нина смотрит на дворника. Лицо ее постепенно бледнеет, глаза становятся большими-большими.
– Как взяла?
– Так. Арестовала.
– А-а-а-а!.. Ма-ма! Ма-мочка! – Крик, как удар клинка, рассек утреннюю тишину двора.
20. Данко зажигает факел
А вчера вечером вот что было:
– Ты – человек, Петр Иванович. С тобой не пропадешь, – повторил Бадаев, обматывая ногу разорванной надвое почти новой фланелевой рубахой. И тут же подумал: собственной рубахи, вишь, не пожалел, а выполнить приказ – не выполнил. Ну, ничего – там, в катакомбах, разберемся…
В дверь постучали требовательно и грубо.
Петр Иванович встрепенулся и побледнел. Только что вернувшемуся от родных Алексею Гордиенко показалось, что Бойко ждал этого стука.
– Кто там?
– Проверка документов, откройте.
Бойко посмотрел на Бадаева. Бадаев втолкнул ногу в валенок, притопнул для верности о пол, сунул за голенище пистолет, поднялся:
– Все в порядке. Открывай.
Документы у катакомбистов, были, действительно, в порядке. И у Бадаева, и у Межигурской. Их уже проверяли в городе патрули – подозрений не вызвали. Комендантский час еще не наступал, опасаться нечего.
Вошло четыре румынских офицера. Два автоматчика встали у двери.
– Кто хозяин квартиры? – спросил по-русски капитан с оловянными, как пуговицы на его мундире, глазами.
– Я, – ответил Бойко, втягивая голову в плечи. Его била дрожь. Трясущимися руками он достал из внутреннего кармана документы. Капитан взял их, подошел поближе к лампе, долго и тщательно рассматривал паспорта Бойко и его жены. Потребовал представить лицензию на право открытия мастерской. Потом вернул все бумаги и спросил, будто между прочим:
– У вас живет Яков Гордиенко?
Скрывать было бесполезно – только вчера дворник переписал всех проживающих в доме и списки отнес в полицию.
– Да… здесь.
Яша стоял у балконной двери. Шпингалеты, как всегда; были приподняты – толкни и дверь откроется. Рядом на спинке висел пиджак, во внутреннем кармане – браунинг. Тот самый, с которым он ходил к Садовому. Конечно же, капитан спрашивает его не случайно – кто-то донес, видно. Выхватить оружие, выстрелом потушить лампу, выскочить на балкон. Для этого потребуются всего секунды. А потом, воспользовавшись суматохой, по приставной лестнице, всегда стоящей наготове, на крышу и…
– Кто здесь Яков Гордиенко?
Это спрашивает оловянноглазый. Можно, конечно, выстрелить сперва в эти ненавистные оловянные кружочки, а потом в лампу. Но Бадаев?.. Если начну стрельбу, Бадаев пропал, ему бежать не удастся – до балкона далеко, а за дверью, в прихожей, полно военных… Погублю Владимира Александровича… Провалю конспиративную квартиру… Схватят Лешку, Сашу, Бойко, Межигурскую… Как это она сказала? …Вынул из груди свое сердце и зажег его, как факел, чтобы спасти других?.. А если это просто проверка документов – проверят и уйдут. Меня, конечно, арестуют, раз уже спрашивают. Но другие-то могут избежать ареста… Будут мучить, пытать!.. Но Данко… нет, не Данко – чекист вынимает сердце, чтобы спасти других!.. «Что за парень! Все на себя взял, никого не выдал!» – слышит Яша голос Фимки… «Я бы такого навек полюбила. Я бы такому всю жизнь отдала!» Это ее голос. Она смотрит в безграничность, будто нет ни стен, ни Фимки, ни Яши… «Я бы такому!.. Я бы такому!..» – гремит в ушах… Нет, нет, не мечтательно, как тогда, после чтения письма Зигмунда Дуниковского, громыхает, как набат, как проклятие. «Я бы такому, что предал командира! Я бы такому…»
– Яков Гордиенко здесь?
Голоса накатываются, перехлестывают друг друга, как волны в шторм, и гудят, прорываясь отдельными фразами – грозными, суровыми, невыносимо гремящими. «Алексей сможет… а ты…» – Отец отворачивается от него к стенке. Отец! Батя!..
Яша посмотрел на товарищей. Бадаев спокоен: конечно же, обычная проверка документов. Тамара Межигурская стоит рядом, внимательно смотрит на Яшу. Яше кажется, что губы ее шевелятся, беззвучно повторяя: «Как Данко!.. Как Данко!..» Нет, Яша не может ради своего спасения жертвовать Бадаевым… Тамарой… Алексеем… Нет, не может! Он вырвал руку из Тамариных пальцев и сказал твердо и громко:
– Я – Яков Гордиенко.
Яша сам не узнал своего голоса: грубого, мужского, сильного… И сразу стихли все голоса. И Фимкин, и Ли, и отца… Такая в доме тишина, что слышно, как за дверью кто-то нетерпеливо щелкает затвором винтовки… А документы в порядке… и комендантский час еще не наступил, опасаться Бадаеву нечего!
– Я – Гордиенко! – повторил Яша и шагнул от балкона.
Алексей и Межигурская невольно шагнули вперед, будто хотели закрыть собой Яшу от кинувшихся к нему навстречу фашистов.
Бойко охнул и закрыл глаза руками.
– Не пугайтесь, Петр Иванович, – Яша раздвинул руками Алексея и Межигурскую и еще раз шагнул вперед. – Вы-то здесь ни при чем. Откуда вам было знать о моих делах?..
– Имею приказ арестовать вас, – рявкнул капитан. – Друмеш!
Друмеш – долговязый, носатый и черный, как грач, локотенент, подскочил к Яше с наручниками. Он торопился, замок наручников никак не закрывался.
– Спокойно, локотенент, – усмехнулся Яша. – Слово пижона, не убегу.
– Вы кто таков? – повернулся капитан к Бадаеву.
Бадаев не спеша доставал документы из внутреннего кармана. Самое главное – спокойствие. Надо отвечать не громко, с достоинством. Хорошо, что не приказал вчера Бойко собрать командиров боевых групп…
– Это мой гость, господин офицер, – захлебываясь от страха, пролепетал Бойко. – У жены именины, день рождения.
Бадаев подал капитану паспорт.
– Носов, Сергей Иванович? – спросил офицер, заглянув в документ.
– Так точно, господин офицер, – подтвердил Бадаев.
Аргир полистал паспорт.
– Где родились?
– Из рязанских, господин офицер.
– Где работали?
– В артели гужевого транспорта, господин офицер.
Капитан что-то буркнул и вернул Бадаеву паспорт.
У Яши сухим блеском сверкнули глаза: у-у, жабы! Можете со мной теперь что угодно делать, главное – Бадаев спасен! Спасен Бадаев! Вы еще узнаете на своей шкуре, что это значит!.. Ли тоже обо мне узнает. Уж Фимка-то потом все ей расскажет, как было!.. И Тамара не пожалеет, что рекомендовала меня в отряд!..
– Кто такие остальные? – спросил у Бойко капитан.
Петр Иванович, кажется, тоже начал приходить в себя – гроза миновала! Показал на Алексея:
– Это брат Якова Гордиенко. Живет у меня.
– Ясно, – капитан даже не стал смотреть Лешкины документы. Сашины и Тамарины тоже.
– В той комнате – моя жена, – доложил Бойко.
– Хорошо, – сказал капитан. – Попрошу всех одеться. Надо пройти в полицию, оформить протокол об аресте Якова Гордиенко. Это ненадолго, господа. Потом можете отмечать свои именины.
Автоматчики вывели Яшу в коридор. Офицеры просто так, для порядка, ощупали карманы задержанных мужчин: все в порядке, оружия нет. Только локотенент, обшаривший карманы Яшиного пиджака, что-то крикнул по-румынски и протянул Аргиру сверкающий никелем пистолет.
– Чей пиджак? – спросил Аргир.
– Якова Гордиенко, господин офицер.
– Ну вот. Я так и знал. Вещественное доказательство.
«Как быть?» – напряженно думал, одеваясь, Бадаев. Он понял поведение Яши: настоящий парень, решил принять все на себя, чтобы не провалить конспиративную квартиру и его, Бадаева. Бадаев и сам готов был пожертвовать ради Яши своей жизнью… Но жизнь Бадаева принадлежит отряду, Родине, делу, которому он служит. Сейчас, когда налаживалась связь с подпольным обкомом партии, с партизанским отрядом Лазарева, с портом и железной дорогой, когда, наконец-то, удалось связаться с подпольем Ивана Кудри в Киеве и в его, Бадаева, руках сосредотачиваются нити одесского подполья, он не имеет права распоряжаться своей жизнью даже ради Яши… А если?.. Нет, не может быть! Ведь не прошло и полчаса, как он зашел в квартиру, откуда же сигуранца могла узнать, когда могла подготовить засаду?.. Вероятно, Яша действовал неосмотрительно с Садовым, кто-то заметил, донес… Или просто очередная облава? Теперь они устраивают их в любое время суток. Но не больно ли много офицеров для одного патруля?.. А черт, у страха глаза велики – они теперь думают, что жители всего города, всей Транснистрии – подпольщики… Ничего, улик против него нет. Подержат и выпустят, а там: держись, Яшко! В беде тебя не оставим!..









