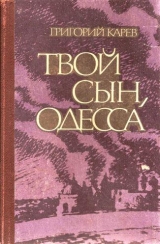
Текст книги "Твой сын, Одесса"
Автор книги: Григорий Карев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
27. Кандальный звон
То ли весна была тому причиной, то ли события и переживания, хлынувшие потоком, только начал Яков Кондратьевич поправляться.
Так бывает. На фронте, например, почти не болели гриппом и язвой желудка, хотя жили люди под дождем и под ветром, в снегу и слякоти, а питались тоже не в диетических столовых. Рассказывают, какой-то человек, потерявший дар речи в результате контузии еще в гражданскую войну, заговорил через двадцать с лишним лет, попав под бомбежку. Врачи объясняют это тем, что необычно опасная обстановка возбуждает центральную нервную систему, повышает защитную реакцию организма, а нервное потрясение может пробудить давно «уснувшие» нервные стволы.
Так или иначе, но Яков Кондратьевич начал сперва спускать ноги с кровати на пол, потом с помощью жены и дочки ходить по комнате, а в апреле, впервые за два с лишним года, бывший матрос с эскадренного броненосца «Синоп» вышел на улицу.
Стоял знойный апрельский день, какие бывают только в Одессе: с бездонным небом, с нежно-зеленой, еще не густой и не дающей тени листвой на деревьях, с такими зримо упругими лучами солнца, что, кажется, зацепишь их пальцем – и они зазвучат, как струны бандуры.
– Может, табуретку вынести, батя? Посидели бы на солнышке, – выглянула из окна Нина.
– Э-э-э, доченька, належался и насиделся твой батя, больше некуда. Постою, благо ноги держат. Это, я тебе скажу, такое удовольствие, что не каждому и понять.
Нежинская – не торговая и не мастеровая улица, она – жилая. На ней и была-то всего одна мастерская, в которой работали сыновья Якова Кондратьевича. Тихая улица. И зеленая – ровно в саду живешь. И в мирное время-то малолюдная, а теперь и подавно.
Стоит Яков Кондратьевич, опершись плечом о старую акацию, подставляет выбеленное болезнью лицо солнцу, вспоминает годы, прожитые на этой улице. У его ног Бобик свернулся калачиком: то запрячет мордочку между лап, то поднимет ее, посмотрит умными глазами на хозяина, вильнет хвостом и снова запрячет голову в лапы.
Тихо на Нежинской. Будто и войны никакой нет.
Но вот Бобик схватился на лапы, сторожко навострил уши и посмотрел вниз, туда, где Нежинскую пересекает Торговая. А там уже клубится пыль, оттуда уже накатывается шум, доносятся лязг, гомон, выкрики…
Мимо Якова Кондратьевича пробежала тройка мальчишек лет по десяти.
– Куда вы, огольцы?
– Там партизан гонят в центральную тюрьму!
А по Нежинской уже поднимается страшная процессия. По середине накаленной солнцем мостовой идет колонна закованных в кандалы и связанных друг с другом цепями людей. В зимних пальто и теплых шапках – как были арестованы в феврале. В синяках и кровоподтеках – как вышли с последнего допроса. Обессиленные голодом, обескровленные пытками, измученные тюрьмой, изнывающие от жары, обросшие, грязные. Палачи нарочно решили провести их от следственной до центральной тюрьмы по всему городу для устрашения населения. Но страшно не узникам – они идут с гордо поднятыми головами и пылающими глазами. Страшно не жителям города – они запрудили тротуары и движутся, движутся, движутся вровень с колонной, подбадривая узников, сливаясь с ними сердцами, зажигаясь их огнем. Страшно оккупантам – и тем, что, понуро надвинув каски и выставив автоматы, оцепили колонну, и тем, что наезжают лошадьми на людской поток, тесня его с мостовой на тротуары, и тем, что притаились в штабах и следственных камерах, и тем – в Бухаресте, в Берлине. Не было бы им страшно, не держали бы дивизию на охране катакомб, не наряжали бы роту пеших и взвод конных для конвоирования десятка закованных, связанных, безоружных, замученных.
Яков Кондратьевич жадно впивается глазами в идущих по каменной мостовой. В первом ряду – высокий, плечистый мужчина в тяжелом зимнем пальто с меховым воротником, в серой шапке-ушанке, в разбитых валенках. Простое лицо рабочего заросло рыжеватой бородой, но глаза горят молодо и бесстрашно, и закованные в кандалы руки несет он перед собой гордо, как свидетельство верности долгу. Яков Кондратьевич никогда не видел его раньше, но знает: это – Бадаев!.. Справа прикована железной цепью к Бадаеву женщина. Красивая, как Мотя в молодости. Такая же чернявая, такая же статная, такая же гордая. Он не знает ни ее имени, ни кем она была до войны, ни кем она была в отряде, но знает: рядом с Бадаевым – значит, самая достойная и смелая… Слева прикован железной цепью к Бадаеву, нога к ноге, невысокий крепыш; идет, по-флотски покачиваясь, что шлюпка на волне – в коричневой кубанке, в черном бушлате, в отвороте которого белые и синие полосы тельняшки. Это… Это – его сын!
– Яш-ко! – забыв обо всем на свете, зовет Яков Кондратьевич.
Крепыш вздрагивает, оглядывается, узнает отца и поднимает перед собой закованные в кандалы руки:
– Ба-тя!
Яков Кондратьевич хочет оторваться от старой акации, хочет шагнуть к сыну и не может сдвинуть с места разбитое параличом тело.
А Бобик, услышав Яшин голос, радостно взвизгивает и кубарем катится к колонне, к Яше. Он забегает вперед, взвивается свечкой и, встав на задние лапы, служит, прыгает рядом с Яшей, будто хочет достать зубами кандалы на Яшиных руках.
Колонна невольно замедляет движение. Раздаются окрики и ругань конвоиров. Но колонна движется все медленнее и медленнее, боясь обогнать визжащую и прыгающую к кандалам собаку…
Ехавший впереди колонны офицер круто осаживает коня, резко поворачивает его против колонны, что-то кричит конвойным и, выхватив из кобуры пистолет, дважды стреляет в Бобика. Выстрелы отдаются глухим рокотом в колонне и в сопровождающей ее толпе. Бобик еще раз подпрыгивает, падает навзничь на камни мостовой и бьется в смертных судорогах…
А из ворот вылетает Нина. В белом ситцевом платьишке, с развивающимися в беге золотистыми прядями волос она действительно похожа на большую ошалелую птицу, падающую навстречу коршуну, чтобы прикрыть гнездо с птенцами. Она бежит к Яше, но трое автоматчиков встают у нее на пути, грубо толкают ее прикладами, сбивают с ног…
Голова колонны уходит вперед.
Нина пытается подняться на ноги, но страшная боль в ушибленной прикладом груди валит ее снова на землю, рядом с окровавленным Бобиком. Желтые круги плывут перед глазами. Зеленый туман заслоняет от нее толпу и колонну. Млеют ноги, слабнут, как перебитые, руки… «Неужели не встану? Неужели не догоню Яшу?» – силясь сбросить с себя дурманную слабость, думает Нина.
Угрюмо молчащая толпа обтекает девочку слева.
Закованная в цепи колонна принимает чуть вправо.
Конные конвоиры звереют, горячат коней шенкелями, поднимают на дыбы. Пешие жмутся к колонне, горбятся под тяжестью касок, не осмеливаются оторвать от автоматов оцепеневшие руки, чтобы вытереть пот, заливающий глаза.
Только один, самый крайний, замыкающий, обалдевший от страха солдат в зеленой, надвинутой на глаза каске и в широких – голенища раструбом – сапогах шагает, как на параде, выставив перед животом автомат и высоко выбрасывая несгибающиеся ноги. Он марширует прямо на Нину. Еще шаг, второй, и пыльный сапог тяжело опустится на еще теплое тело Бобика, раздавит его на булыжнике мостовой.
«Нет, Яша этого не допустил бы! Он встал бы! – беззвучно шепчет Нина. – А я – слабая, никчемная девчонка…»
– Встань, встань! – приказывает она себе, до хруста сжимает кулачки и, собрав последние силы, медленно поднимается на ноги, делает трудный шаг навстречу чужеземцу. Вся она – и подавшиеся вперед угловатые плечики, и серое, без кровинки скуластое лицо, заострившийся подбородок – обретает твердость дикого камня. Только широко раскрытые, округлившиеся глаза горят живой неистребимой ненавистью… Солдат будто споткнулся, не дойдя шага до Нины. Пошатнулся. Сбился с ноги. Обмяк и, втянув голову в плечи, обошел ее стороной.
Все онемело на Нежинской. Только слышен удаляющийся цокот копыт… И глохнущий грохот цепей. И тающий звон кандалов.
Никто не заметил, как упал старый матрос у старой акации. Отказали не только ноги, отказало сердце.
28. Мы – на своей земле!
Суда, собственно, не было. Бадаевцев вывели в тюремный двор и зачитали обвинительное заключение.
А на другой день, в тот же тюремный двор вывели всех заключенных из всех камер. Их загнали в дальний угол, к самой стене, отгородили двойной шеренгой конвоя. В центре двора выстроили в ряд закованных в кандалы бадаевцев. За спиной у каждого – автоматчик. Возле самых ворот – судьи, жандармы, тюремная администрация.
Яша стал рядом с Бадаевым. Возле него – Шестакова, Хорошенко, Межигурская…
– Похоже, они нас боятся, – тронул Яша локтем локоть Бадаева. – Стали у самых ворот, чтобы, в случае чего, сподручней драпануть было.
– Правильно, Яша, – ответил Бадаев, – фашисты трусливы, как и все иные преступники.
Рыжеватые усы и борода, отросшие в тюрьме, делали лицо Владимира Александровича еще более мужественным и непреклонным. Яша знал, что на всех допросах палачи не добились от Бадаева нужных им признаний. Не узнали даже его настоящей фамилии, даже имени. Он гордился, что судьба свела его с этим человеком, с настоящим чекистом, дзержинцем, о которых он много читал и слышал от отца. Гордился тем, что стоит рядом с ним перед лицом врага, и совсем не тревожился, что сейчас прочитает судья.
Председатель военно-полевого суда, худощавый, небольшого росточка человечек, разодетый, как гусарский корнет из оперетты, взобрался на табуретку, чтобы его было видно всем заключенным, вздел очки, боднул воздух прилизанной, как у телки, головой, писклявым голосом прочитал приговор.
Переводчик еле успевал называть фамилии обреченных:
– Бадаева Павла Владимировича – к смертной казни;
– Волкова Семена – к смертной казни;
– Гордиенко Якова – к смертной казни;
– Мелана Петра – к смертной казни;
– Шестакову Тамару – к смертной казни;
– А мы другого и не ждали! – на весь двор крикнула Тамара. Стоявший сзади охранник ткнул ее в спину дулом автомата. Яша Гордиенко и Шурик Хорошенко одновременно обернулись и, шагнув к автоматчику, загородили собой Тамару.
А от ворот, с табуретки, продолжал верещать судья:
– Музыченко Николая…
– Музыченко Ивана…
– Шилина Григория…
– Шевченко Павла…
– Межигурскую Тамару…
– Шлятова Михаила…
И после каждой фамилии – смертная казнь… смертная казнь… смертная казнь…
Судья опустил руку с приговором, продолжая что-то говорить по-румынски.
– Все осужденные, – сказал переводчик, – имеют право подать ходатайство о помиловании на имя его величества короля Румынии Михая.
Судья слез с табуретки и вместе с переводчиком подошел к Бадаеву:
– Предлагаю заявить о вашем согласии подать прошение о помиловании.
Бадаев с презрением посмотрел на судью и сказал, отчеканивая каждое слово:
– Мы – на своей земле! И у врагов пощады не просим!
Это были последние слова, сказанные Бадаевым палачам.
– Пощады не прошу! – вслед за ним ответил Яша Гордиенко.
– Пощады не прошу! – вскинула голову Тамара Шестакова.
– Не прошу!
– Не прошу!
– Не прошу пощады! – покатилось от осужденного к осужденному.
– По закону вам дается двадцать четыре часа на обдумывание ответа, – сказал судья, свернул в трубку приговор и пошел к воротам.
– Яшко, – легонько толкнул плечом Гордиенко Бадаев. – Ты подашь прошение о помиловании.
– Я сказал, не прошу помилования! – ответил Яша.
– Ты подашь прошение о помиловании, Яшко, – настойчиво повторил Бадаев. – Ты среди нас один несовершеннолетний, может быть, тебе поэтому повезет. Надо, чтобы кто-то из нас остался в живых. Когда придут наши, ты должен будешь рассказать и о павших, и о предавших. Это мое последнее тебе задание. Понял?
– Но я не могу, дядя Володя…
Судьи ушли. Конвоиры загоняли в камеры узников. Автоматчики уже подталкивали прикладами к дверям тюрьмы осужденных на смерть. Спорить было некогда. Бадаев повернулся всем корпусом к Гордиенко:
– Я – командир. Я именем Родины приказываю тебе, Яков Гордиенко!
29. Письма
Только Ионеску и Курерару знали о том, что одновременно с прошением Якова Гордиенко о помиловании в Бухарест пошло конфиденциальное письмо начальнику центральной секретной службы Эуджену Кристеску.
«Прошу принять меры, – писал Ионеску, – чтобы король Михай и королева Елена не отказали немедленно в помиловании Якову Гордиенко. Надо, чтобы отказ пришел только по истечении законного срока. Гордиенко – единственный, на кого следствие еще рассчитывает повлиять. Расстрел Бадаева и его сообщников может способствовать этому».
В последнюю ночь июня Молодцова-Бадаева и Тамару Межигурскую воровски, тайком от заключенных вывели палачи из тюрьмы и расстреляли в степи. Яшу бросили в одиночную камеру на четвертом этаже центральной тюрьмы.
Снова разрешили свидания – два раза в неделю. Но Нина нашла способ чаще видеться с братом.
Через дорогу от тюрьмы стояло разбитое во время бомбежки и заброшенное многоэтажное здание. Взрывом обрушило почти все внутренние перегородки и часть междуэтажных перекрытий. Осталась только коробка дома да на самом верху угловая комната, выходящая разрушенной стеной на тюрьму. Нина забиралась в эту комнату по остаткам лестничной клетки и провисшей арматуре и, пользуясь семафорной азбукой, как это делают матросы в открытом море, передавала Яше приветы родных и городские новости. Каким чудом взбирался Яша к своему крошечному зарешеченному окну под самым потолком – Нина не знала, но иногда она видела в темном проеме тюремного окна смутные очертания его лица и кисти руки, сигналящей: спасибо, все хорошо.
В четверг 30 июля на свидании Яша попросил, чтобы Нина не задерживалась.
– Иди домой, Нина, сразу же, – устало сказал Яша. – Передай, что мне хорошо, что я очень спокоен… И еще, сестренка, береги себя, я верю в твое счастье… Иди, Нина, мне хорошо, я сегодня хочу спокойно поспать.
Как ни ласково говорил с ней Яша, как ни убеждал, что ему хорошо, слова его вызывали тревогу и слезы.
Нина пришла домой. Мамы не было, ушла, наверное, к тете Домне, матери Саши Чикова. Нине было очень тоскливо в пустой квартире и, чтобы не раскиснуть и не расплакаться, она достала из тайника Яшины письма, разложила их перед собой, перечитывала, словно училась по ним Яшиной стойкости, Яшиному мужеству и выдержке.
«Здравствуйте, дорогие!
Пришлите бумаги, карандаш и самобрейку. Бросьте вечное гадание на картах. Все это чепуха… Я вас просил, чтобы вы писали разборчиво, на ровной бумаге. Пишете на обрывках. Ничего понять нельзя. Неужели так трудно писать чисто? Напишите подробно, в чьих руках Харьков и что вы знаете про Николаев. Почему нет ответа от Васиных? Я верю, что буду жить и на воле, но не через суд.
Целую крепко-крепко
Яша».
«Здравствуйте, дорогие!
Не горюйте и не плачьте. Все равно наша возьмет… В четверг, если возьмете свидание, пусть придет Лида. Только обязательно. Книгу и газеты. Ответ от Лены? Как здоровье батьки? Как к вам во дворе относятся?
Привет. Целую крепко-крепко
7.6.42.
Яков».
После смертного приговора Яша снова готовился к побегу, теперь уже из центральной тюрьмы, в записках просил передать оружие, черную одежду, чтобы была незаметной ночью, самогон и водку для надзирателей и охраны.
«Нина, это письмо передай Лене (Красный)».
К этой записке была приложена вторая, побольше. Но Яша сложил ее вдвое и склеил хлебным мякишем, чтобы даже Нина не прочитала.
Нина до этого только однажды видела Лену Бомм – высокую, стройную, с глазами, как лесные озера, то синими, то зелеными. Знала, что она сестра Яшиного друга, Фимки. Больше ничего.
Нина сходила в Красный переулок, но Лены дома не застала.
– Линда на работе, – сказала толстая седая женщина, открывшая Нине дверь.
– Разве она работает?
– Да. В ресторане «Южная ночь».
Нина нашла ее в ресторане, возле буфета. Белые волосы коротко стрижены, мочки ушей нарумянены по румынской моде, шея вся голая, на тонкой цепочке серебряный крестик спускается, как паучок на паутинке. Стояла и что-то щебетала пожилому напомаженному пьяному офицеру. Увидела Нину – загорелась вся, но быстро взяла себя в руки, наигранно повела бровью, скривила тонкие губы:
– Тебе что, девочка?
А Нину зло взяло: Яша в тюрьме, брат ее тоже, небось, не мед ложкой хлебает, а она, вишь ты, фигли-мигли старику строит. Взяла и брякнула сразу:
– От Яши письмо тебе.
– Вот как! – еще раз повела накрашенной бровью и так плечиком дернула, что Нина чуть не заплакала от обиды.
Лена письмо взяла все-таки. Прочитала и рассмеялась Нине в лицо:
– Ха-ха! Ты, девочка, небось, тоже думаешь, что я твоему братцу пара? Да?.. Ну что же ты не смотришь на меня? Смотри, девочка, смотри. Правда же я – красивая?.. Ну зачем же мне нужен твой брат? Зачем?.. От него же потом, наверное, несет…
Нина вынесла все – унижение, обиду, стыд. Ей хотелось провалиться сквозь землю, только бы не слышать этих насмешек, этих издевок над ее братом. Она не убежала только потому, что знала: Яша ни за что не поверит, что Лена так могла говорить о нем, такими насмешками встретила его письмо. Но как она возненавидела эту напудренную, нарумяненную, раскрашенную куклу! А та взяла изорвала Яшино письмо на мелкие-мелкие кусочки, скатала их шариками и по одному побросала в мусорницу.
– Вот так и передай своему братцу, девочка. Так и передай… Ну, что же ты стоишь?.. Ах, ты ждешь письменного ответа? Ну что ж, изволь!
Она ловко выхватила из кармана пьяно покачивающегося на каблуках офицера карандаш.
– Но-но, мадемуазель… – захлопал глазами офицер.
Но Лена состроила ему такую милую рожицу и так кокетливо улыбнулась, что он тотчас растаял.
Лена торопливо начиркала записку, вырвала листок. Кончиками пальцев, словно боялась прикоснуться рукой к руке, протянула записку Нине:
– Возьми. Можешь передать.
Нина чуть не изорвала записку, прочитав ее дома:
«Привет из «Южной ночи»! Я счастлива. А ты? Самое глупое, что ты мог придумать, это – попасть в тюрьму. И еще – писать мне!»
И подписано каким-то странным словом – Ли! Вовсе и на имя не похоже! И еще, вместо восклицательного знака, – высокая черточка с перекрестьем вверху…
Нина долго не решалась передать это письмо Яше – ему и без того горя не обобраться. Но Яша на каждом свидании, в каждой записке спрашивал о Лене, и Нина решилась наконец.
Каково же было ее удивление, когда Яша, прочитав письмо тут же, на свидании, чего раньше никогда не делал, прижал письмо к щеке и странно-странно улыбнулся… Видно, многое рассказали Яше и короткая подпись – Ли, и та длинная вертикальная черточка с перекрестьем наверху – будто от маяка лучи в разные стороны! Значок, придуманный детьми-романтиками, все-таки сослужил свою службу.
– Не ходи больше к ней, Нина, – сказал Яша.
Но сказал таким голосом, будто вот-вот заплачет от счастья: «Нашла-таки Лена тропку к моим друзьям!»
«Не показывай батьке и маме:
Нина, это – для Лиды и тети Домны. Если вы боитесь заложить в торбу, то возьмите тесто и испеките хлеб весом в полтора-два килограмма и в него запеките то, что я просил. Смотрите, ту штуку заверните в масляную бумагу, вложите в тесто и испеките хлеб. Заложите туда и патроны.
14.07.42.
Яков».
Эх, Яша, Яша! Будто не знаешь, что за свиданиями со смертниками следят особенно строго, ничего передать невозможно без осмотра темницера, а передачи осматривают опытные тюремщики, и разница в весе обыкновенной буханки и буханки с запеченным револьвером была бы сразу обнаружена. Яша, Яша. Не наша вина в том, что до сих пор не смогли передать тебе оружие. Ничего, передадим еще!..
«Здравствуйте, дорогие! Пришлите газету. Какое положение в городе? Что вообще слышно? Мне осталось жить восемь или десять дней до утверждения приговора.
Я отлично знаю, что меня не помилуют. Им известно, кто я такой. Все из-за провокатора. Запомните его фамилию, запишите, а когда придут Советы, то отнесите куда надо. Этот провокатор – Бойко, Петр Иванович, он же – Федорович, Антон Брониславович… Он продал своих товарищей, продал нас и еще раз продал, когда мы думали бежать из сигуранцы… Но я думаю, что Старику тоже придет конец. Его должны убить, как собаку. Еще ни один провокатор не оставался жить, не умирал своей смертью. Так будет и с этим, мне и моим товарищам было бы легче умирать, если бы мы знали, что эту собаку прибили.
Не унывайте! Все равно наша возьмет. Еще рассчитаются со всеми гадами. Я думаю еще побороться с ними. Если только удастся. А если нет, умру, как патриот, как сын своего народа…»
Через два дня после того, как Нина принесла это письмо и прочитала матери, вечером во дворе появился Бойко-Федорович. Матрена Демидовна стирала в корыте Яшино белье. Как увидела его, так и застыла с намыленной рубашкой в руках.
– Это белье Яков в тюрьме не носит, – показал на корыто Федорович. – Он стелет его на пол, а когда белье загрязнится, передает обратно, чтобы без крови, без следов побоев. Тревожить вас не хочет. А на нем одежа вот какая.
Федорович бросил к ногам Матрены Демидовны иссеченные проволокой, в рыжих пятнах запекшейся крови Яшины брюки.
Матрена Демидовна не пошевелилась, смотрела неморгающими близорукими глазами, будто ничего не видела перед собой.
– А вот Лешке вашему уже хорошо, – спокойно продолжал Федорович. – Он во всем сознался, его перевели в Бухарест, он там работает, почти на воле. Только без права переписки.
Матрена Демидовна молчала. Бесшумно скапывала мыльная пена с зажатой в руках сорочки.
– Вы бы повлияли на сына, пусть сознается. И ему хорошо будет…
– Эй, Старик! – закричала на весь двор Нина, выбегая из квартиры. – Бойко-Федорович! А ну, уходи отсюда, гад! Уходи, а то людей кликну. Ты от ихних глаз сгоришь, предатель!
Федорович, трусливо оглядываясь, побежал со двора.
И сразу же вынырнул из темного угла дворник, горбатый Степан. Он все слышал. Он подошел и сказал, не поднимая глаз:
– Вы бы, если что, съехали отсюда, мадам Гордиенко. Тут вас знают, покою не дадут… А я бы нашел вам тихую квартиру. У сестры моей… Вам пока затеряться промеж людьми надо, мадам Гордиенко…
Непонятный, странный этот дворник Степан. Может, и в самом деле он пожалел тогда убитую горем Матрену Демидовну и осиротевшую Нину. А может, хотел им западню какую подстроить! Кто знает?.. Говорят же, что сын его Григорий под Севастополем воюет, а невестка как сквозь землю провалилась, когда фашисты в город вошли…
«Здравствуйте!
Я вас просил, чтобы вы передали черные брюки. Перешейте, чтобы они были мне впору. Белых присылать не надо. Как здоровье батьки? Какое положение в городе? Книгу. Почему нет газеты? Добейтесь свидания. Нашему этапу запрещают смотреть в окна. Что слышно на фронте?..
Привет всем. Целую крепко-крепко
22.07.42.
Яша».
А это письмо Нина принесла сегодня. Прочитала второпях – за слезами строчек не видела. Теперь перечитала его снова.
«Здравствуйте, дорогие!
Я заложил записки на дно сумки под подкладку.
Возьмите их и сейчас же исполните то, о чем я вас прошу. В записке объяснение. Когда будете передавать завтра вторую передачу, пришлите все, что я прошу. Как здоровье батьки? Привет всем родственникам.
Целую крепко,
Яша.
Если расстреляют, то требуйте вещи: пальто, одеяло, подушку и прочее барахло, не оставляйте этим гадам».
Значит, в сумке под подкладкой – еще записки! Нина высыпала все из сумки на пол, рванула подкладку. Под ней лежали несколько тетрадных листков, исписанных неровными карандашными строчками. Письмо было датировано двадцать седьмым июля. Значит, Яша написал это заранее, еще в понедельник, а может, писал сразу после воскресного свидания.
«Дорогие родители!!!
Пишу вам последнюю свою записку. Сегодня исполнилось ровно месяц со дня объявления приговора. Мой срок истекает, и я, может быть, не доживу до следующей передачи…
Жаль, что не успели развернуться. Наша группа еще многое могла бы сделать… Я рассчитывал на побег. Но здесь пару дней назад уголовники собирались бежать, их зашухерили. Они только нагадили. Сейчас нет возможности бежать, а времени осталось очень мало, может, последняя ночь.
Вы не унывайте. Жалею, что не успел обеспечить вас материально. Но Саша Хорошенко поклялся мне, что если будет на воле, он вас не оставит в беде. Можете быть уверены, он будет на свободе. Он осужден к вечной каторге, у него время есть, и он подберет нужный момент улизнуть из тюрьмы. Наше дело все равно победит. Советы этой зимой стряхнут с нашей земли фашистских захватчиков и их прихвостней. За кровь расстрелянных партизан они ответят. Мне только больно, что в ту минуту я не смогу помочь моим друзьям по духу.
Достаньте мои документы. Они закопаны в сарае. Под первой доской от точила. Там лежит фото моих друзей и подруг, мой комсомольский билет. Там есть фото Вовки Федоровича, отнесите его на Лютеранский переулок, 7, Нине Георгиевне. Это Вовкина мать. Мать моего лучшего друга. Не сердитесь на него, что его отец оказался таким подлецом. Он комсомолец и будет верен власти Советов. Мы выросли и воспитались в духе свободы. Вы ей отнесите, и пусть она даст переснять, а фото заберите себе… Может быть, вы его когда-нибудь встретите. В тайнике есть и мои письма. Есть там и коробочка, можете ее вскрыть. В ней – клятва. Мы клялись в вечной дружбе и солидарности друг другу. Но все очутились в разных концах. Я приговорен к расстрелу. Вова, Миша и Абраша эвакуировались. Эх, славные были ребята! Может быть, кого-нибудь встретите. Эти тоже не уступят тем, что сражались в гражданскую…
Я не боюсь смерти. Я умру, как подобает патриоту.
Прощайте, дорогие. Пусть батька выздоравливает, этого я хочу. Прошу только не забывать про нас и отомстить провокаторам. Передайте привет Лене.
Целую всех крепко-крепко. Не падайте духом. Крепитесь. Привет всем родным.
Победа будет за нами.
27.07.42 г.
Яша».








