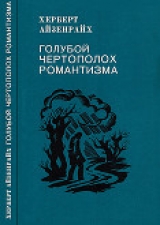
Текст книги "Голубой чертополох романтизма"
Автор книги: Герберт Айзенрайх
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
– Нет, евреем он не был, это уж точно.
5
Кто бы он ни был – еврей ли, аристократ или кто-либо еще, – я должен во что бы то ни стало до этого докопаться.
В середине декабря – еще до начала рождественских каникул – я поехал в Вельс к моим тетушкам и, пробыв у них всего один день, отправился в Линц. В телефонной книге я отыскал адрес частного сыскного агентства и пошел туда. В приемной сидели две девушки: одна из них полировала себе ногти, а другая портила их, стуча на машинке. Обо мне доложили шефу, и пришлось ждать, а так как я упустил момент, когда следовало снять пальто, то сидел теперь и парился в жарко натопленной комнате. Наконец над головой девицы, занятой маникюром, заверещал звонок, она вспорхнула со своего кресла и раскрыла передо мной обитую кожей дверь в кабинет хозяина. Хозяин оказался пожилым, но молодящимся человеком: сколько бы ему ни было лет – он выглядел на десять лет моложе. О его гладко зачесанных назад волосах нельзя было сказать, седые они или белокурые; широкое плоское лицо покрывал золотистый загар; взгляд у него был острый, как только что отточенный карандаш. Все это я разглядел не сразу, ибо майор в отставке Ганс Фибиг сидел в дальнем углу комнаты, порог которой я только что переступил, а комната эта была чуть уже моего кабинета и чуть короче гимнастического зала, так что когда я наконец добрался до его письменного стола, то весь обливался потом. Протянув мне руку, майор в отставке слегка оторвал зад от стула и указал на кресло, стоявшее напротив него.
– Что вам угодно? – по-военному коротко спросил он и пододвинул папку, лежавшую почти на краю стола, еще на полсантиметра ближе к краю. Я сел в кресло, вернее, только подумал, что сел, ибо в тот же миг начал погружаться в трясину плюша, а когда понял, что наконец-то действительно сел, нос мой оказался как раз на уровне письменного стола. Я чувствовал себя как ученик первого класса перед высокой кафедрой, за которой грозно восседает учитель, требуя ответа.
Я сказал:
– Меня привела к вам одна довольно запутанная история.
Но он сразу меня одернул:
– С пустяками ко мне не приходят.
Я пытался как-то внутренне выпрямиться, но, когда человек сидит так низко, что колени его почти упираются в подбородок, душа у него тоже скрючена: я что-то пролепетал насчет того, что дело, мол, давнишнее, рассказал все, что знал, и сообщил, что именно хотел бы выяснить; затем я спросил, сколько это примерно будет стоить.
– Составить заранее смету расходов может, вероятно, архитектор, но никак не я, – сказал майор. – Я же не знаю, какие потребуются розыски и сколько они займут времени.
Я заверил его, что, конечно, прекрасно это понимаю, мне просто хотелось бы иметь хоть приблизительное представление о возможной сумме – от и до, – потому что так уж выкладываться ради прадеда я не намерен, ведь я пока только студент.
– Когда вы получите наследство, то мой гонорар, полагаю, окажется для вас нечувствительным, – сказал майор.
Сперва я вообще не понял, к чему он клонит, а потом стал уверять его, что стремлюсь установить личность прадеда вовсе не из материальных соображений.
– У меня чисто платонический интерес к этому делу, – пояснил я, и мне показалось, что его остро отточенный взгляд несколько притупился. Он достал из ящика бланк, я выбрался из кресла и заполнил его, после чего он взял с меня пятьсот шиллингов аванса, велел продиктовать секретарше все имена и даты, торопливо и как будто неохотно протянул мне руку, не отрывая зада от стула, только слегка наклонив вперед верхнюю половину туловища. Я двинулся к дверям по бесконечно длинной ковровой дорожке, продиктовал секретарше имена и даты и покинул частное сыскное агентство «Фибиг» с предчувствием, что толку не будет. Однако сразу же после Нового года я получил оттуда письмо, где излагалось все – ну положительно все, что я уже знал сам; к письму был приложен счет на тысячу двести двадцать девять шиллингов и сорок пять грошей – с точным указанием, за какие сведения. Итак, я должен был ни за что ни про что выложить теперь еще семьсот двадцать девять шиллингов и сорок пять грошей. Я взял деньги и поехал в Линц с твердым намерением устроить майору дикий скандал и еще в дверях его кабинета чуть не лопался от злости. Но пока я шел к его письменному столу по бесконечно длинной ковровой дорожке, я почти физически ощущал, что моя злость понемногу отстает от меня – она разматывалась позади, словно кабель с укатившейся бобины, а когда я погрузился в кресло, то был уже кроток, как морская свинка. Мне пришлось сознаться себе, что я ведь сообщил майору одни факты, умолчав о своих собственных догадках и о предположениях моих родных, и что, возможно, он не напал на верный след только потому, что я его на этот след не навел. Я сказал довольно вяло:
– Вы действовали очень быстро, господин майор, но, в сущности, выяснили только то, что я уже сам знал и сообщил вам.
Он пододвинул лист бумаги, который лежал параллельно краю стола, на полсантиметра ближе к середине и сказал:
– Когда ко мне приходит человек и заявляет, что ему изменяет жена, мне надлежит выяснить, соответствует ли это истине. Я выясняю, факт подтверждается, но ведь он не вправе тогда сказать, будто я сообщил ему только то, что он уже знал сам.
В ту минуту я не сообразил, какой логический подвох скрывается в его словах, и сказал только:
– Да, да, это понятно. – И еще: – Но вы все-таки собирались выяснить, кто был мой прадед.
Он пододвинул лист бумаги еще ближе к середине стола.
– А если я сообщаю супругу, что его жена вовсе не изменяет ему, то он благодарен мне и даже не думает торговаться насчет гонорара. Надеюсь, вы меня поняли?
Я понял. Я выбрался из кресла, отсчитал деньги – бумажки и мелочь, положил их на стол, сунул в карман квитанцию, повернулся и зашагал к дверям по бесконечно длинной ковровой дорожке, потом миновал двух девиц в приемной, вышел на улицу и решил про себя, что ноги моей больше не будет в этом агентстве, как иногда даешь себе зарок: в этом ресторане ноги моей больше не будет!
Но утешение это было слабое, потому что я еще не совсем спятил и сознавал, что человек не посещает сыскное агентство каждый день, как, скажем, какой-нибудь ресторан. И вот, не только ради удовлетворения своего любопытства насчет прадедушки, но также из желания насолить майору – я ему покажу, как надо наводить справки! – я решил попытать счастья у его конкурентов, в агентстве частного сыска «Швейгль и сын». Но когда я туда пришел, контора была уже закрыта, и я поехал домой, в Вельс. Вечером я побеседовал с глазу на глаз с тетей Ренатой. Тетя Рената сказала:
– Рамметсэдеры, по-видимому, все знали, во всяком случае, дядя Эди считал, что они знают.
И она рассказала мне кое-какие подробности, о которых я то ли никогда еще не слыхал, то ли начисто забыл. Однажды – кажется, это было на Дунайском мосту – моего деда остановила какая-то незнакомая женщина и сказала: «Ваш отец был аристократом – вам это следует знать». И она тут же скрылась в толпе; по-видимому, сказала тетя Рената, у твоего деда вовсе не было охоты бежать за ней следом, чтобы добиться подробного объяснения; мысли его всегда были поглощены делами фирмы, математикой, а еще больше – детьми; это был лучший отец в мире, сказала тетя Рената. Я смахнул с рукава несколько пушинок, а тетя Рената продолжала:
– Сам он никогда не занимался розысками, ему было безразлично, кто его отец. – И в заключение заявила, поджав губы, потому что не очень-то жаловала аристократов: – Может быть, даже кто-нибудь из Штарембергов.
Штаремберги владели (и владеют по сей день) множеством поместий в окрестностях Линца.
На следующее утро, вооруженный лучше, чем когда бы то ни было, я отправился к «Швейглю и сыну». Агентство размещалось в двух комнатах, а соединявшая их дверь, по-видимому, никогда не закрывалась. В первой комнате за маленьким, прямо-таки игрушечным письменным столом, который едва выдерживал тяжесть наваленных на него бумаг, сидел пухленький и какой-то помятый старичок в поношенном темно-сером костюме горца, а за двумя другими столами сидели две неряшливо одетые девушки. В задней комнате я увидел широкоплечего мужчину средних лет с обветренным лицом; весь его облик, начиная с косматой шевелюры, наводил на мысль, что на ногах его (скрытых письменным столом) должны быть охотничьи сапоги. Одет он был в коричневый костюм горца, и, хотя этот костюм был, вероятно, лет на двадцать моложе того, который облекал пухленького старичка из первой комнаты, он был такой мятый и лоснящийся, что сразу выдавал в его владельце женатого человека. Рядом с ним за большим круглым столом суетилась старообразная женщина в халате мышиного цвета, вид у нее был еще менее привлекательный, чем у девушек из первой комнаты, тоже далеко не красавиц, но я сразу понял, что верховодит здесь она – и не только двумя девушками, но и обоими мужчинами. Во второй комнате мебели не было, только несколько полок и несгораемый шкаф, на дверце которого красовалась львиная голова; зато стены ее были сплошь утыканы оленьими рогами. Это показалось мне довольно бестактным для такого места, куда обращаются главным образом обманутые мужья, – впрочем, это уж не моя забота. Я поговорил с помятым старичком, он заставил меня изложить ему дело со всеми подробностями, хотя, казалось, все пропускал мимо ушей; когда я кончил, он направил меня во вторую комнату к мужчине в охотничьих сапогах. Если старик не проронил ни слова, то его младший коллега по крайней мере представился: «Швейгль Младший». Услышав эту фамилию, а также то, что мужчины обращались друг к другу на «ты», я заключил, что помятый старичок в первой комнате не кто иной, как Швейгль Старший; так что этому агентству следовало бы скорее называться «Швейгль и отец». Ну так вот, я рассказал свою историю еще раз, господин Швейгль Младший внимательно меня выслушал и сказал, обращаясь к мыши за круглым столом:
– Запишите все это!
Я пересел к ней и повторил свой рассказ снова, в третий раз, и, пока она стенографировала, оба Швейгля стояли тут же и слушали так внимательно, как будто им сообщали нечто совершенно новое. Старик беспрестанно кивал и обязательно перебивал меня, если мое теперешнее изложение хоть в самой малости расходилось с тем, что я рассказал ему в первый раз; младший только качал головой с таким видом, словно ему не по себе. Когда я упомянул адвоката Рурика или Юрика, старик засопел и сказал:
– Юбрик, доктор Юбрик, доктор Арно Юбрик, Штейнгассе, дом четырнадцать или двенадцать, чуть повыше кафе Ортнера, только на другой стороне, на той, где ипотечный банк. Да-да, старого доктора Юбрика давно уже нет в живых, а наследников не осталось – никого, конец.
За этим последовал долгий спор о том, к кому перешла контора доктора Юбрика после его смерти. Мышь слушала молча и, только когда оба Швейгля явно выдохлись и оставили эту тему, ласково-назидательным тоном сказала:
– К доктору Зеллевиху.
Старик опять засопел.
– Ну да, ну да, доктор Зеллевих – как же, знаю! Старый доктор Зеллевих. А молодой Зеллевих теперь юрисконсульт по налоговым делам, Штейнгассе, четырнадцать, – знаю, знаю!
Я закончил свой рассказ, упомянул обо всех предположениях, которые когда-либо строили я, моя мать или мои тетушки, и в заключение спросил у господина Швейгля Младшего, сколько примерно он возьмет с меня за труды.
Он сказал:
– Ну, да уж последнюю рубашку мы с вас не снимем.
А мышь добавила:
– Если вы дадите двести шиллингов аванса, этого будет достаточно, ведь при тех данных, которыми вы располагаете, мы все равно ничего не узнаем.
Отец и сын не выразили ни малейшего протеста против такого уничижения их профессионального достоинства. Я отсчитал сто пятьдесят шиллингов, потому что имел при себе всего сто девяносто (я не собирался впредь давать авансы), и вернулся в первую комнату. Одна из двух молоденьких секретарш напечатала на машинке квитанцию; возле другой, прямо на ручке ее кресла, сидел теперь сухопарый и бледный тип лет сорока, в темных очках, закрывавших ему пол-лица, и что-то шепотом диктовал ей – мне показалось, что это сыщик. Тем временем мышь снова позвала меня к себе и положила передо мной два экземпляра анкеты, некоторые пункты ее были заполнены, другие прочеркнуты.
Я вынул было авторучку, чтобы подписать анкету, но мышь потребовала, чтобы я сперва прочитал текст, и я пробежал его глазами, после чего подписал. Потом я опять вернулся в первую комнату и взял там квитанцию, а господин Швейгль Младший принялся изучать ее с таким видом, будто ему никогда в жизни не приходилось читать ничего подобного. В конце концов он тоже поставил свою подпись, мышь пришлепнула рядом печать, после чего вся эта комедия повторилась с анкетой, второй экземпляр каковой мне выдали на руки. Все торжественно со мной попрощались – словно расходились после похорон, только мышь не пожелала вылезти из своего угла и даже не взглянула в мою сторону. Я вышел на улицу, не зная, что обо всем этом думать. Вдруг сзади скрипнула дверь, и рядом со мной очутился тот самый сыщик. Голосом, столь же бесцветным, как его лицо, он сказал:
– Лучшее сыскное агентство из всех, какие я только знаю. Здесь, в Линце, я обошел уже все, в Вене был в двух, в Зальцбурге – в одном и даже добрался до Штейра – все это сплошь мошенники, обманщики, живодеры. – Он подыскивал слова похлестче, на щеках его выступила легкая краска, но, видимо, других ругательств у него не нашлось, и он спросил: – Вы здесь по какому делу?
Я был уже не так уверен, что он действительно сыщик, и потому сказал (мне вдруг вспомнилось одно замечание майора) как можно более независимым тоном:
– Дело о наследстве. Но довольно бесперспективное.
Он предостерегающе поднял руку, словно я чуть было не совершил кощунство.
– Не говорите так! У «Швейгля и сына» ваше дело в надежных руках. Я обошел с десяток агентств – в Линце, в Вене, в Зальцбурге и даже в Штейре, и все впустую – потерянное время и потерянные деньги. Надо мне было сразу же обратиться к «Швейглю и сыну», но другие фирмы громче заявляют о себе. «Швейгль и сын» в этом не нуждаются, у них и без того обивают пороги – о них идет молва, что это самое лучшее агентство.
Казалось, я должен был испытывать к нему чувство признательности – ведь от него я узнал, что мое дело в надежных руках, но его болтовня начала меня раздражать, и, чтобы от него отделаться, я неожиданно резко спросил:
– Почему вы, собственно, зимой носите солнечные очки?
Но оказалось, что именно об этом и не следовало спрашивать.
– Зимой как раз хуже всего, – сказал он, и тут мне пришлось выслушать целую лекцию по медицине, пересыпанную терминами из области офтальмологии, в сравнении с которыми экономическая заумь Гарри Голда показалась мне ясной, как мармелад.
– И все это, – сказал он, – последствия взрыва гранаты, случившегося однажды ночью; было это в последнюю военную зиму в Эфеле, как раз перед началом нашего наступления. – И тут он изложил мне весь план наступления в Арденнах, в котором я – в отличие от него – действительно принимал участие, а также свой взгляд на то, как следовало на самом деле организовать это наступление.
Тем временем мы зашли в ближайшее кафе, мне пришлось сыграть с ним в бильярд, и я, конечно, проиграл – у меня не было навыка. Я вынужден был полностью оплатить счет: за себя – чашка мокко, рюмка коньяку, и за него – двойной мокко, три рюмки коньяку и несколько сигарет плюс бильярд. У меня был обратный билет, и только поэтому я успел до темноты вернуться в Вельс. Через неделю, прежде чем снова уехать в Вену, я еще раз зашел в агентство «Швейгль и сын», и они заверили меня, что уже занимаются моим делом; только мышь молчала, посасывая нижнюю губу, что не помешало ей содрать с меня еще сто пятьдесят шиллингов.
В Вене я рассказал Гарри Голду, как продвигаются мои розыски, и некоторое время после этого учился с необычным для меня усердием и даже не без успеха, от коего уже вовсе отвык. Но шли дни, недели, наконец, месяцы; от «Швейгля и сына» все еще не было ни строчки; тогда я поехал в Линц и пошел в сыскное агентство. Когда эти люди увидели меня, лица у них приняли печальное выражение; они сердечно пожали мне руку, я полез было за бумажником, но господин Швейгль Младший заявил:
– Это было слишком давно и, что называется, быльем поросло. Вряд ли я могу вас обнадежить.
Я сказал:
– За деньгами дело не станет, – и открыл бумажник, куда предусмотрительно положил только несколько купюр по пятьдесят шиллингов. Однако господин Швейгль Младший жестом остановил меня:
– Я не собираюсь вас грабить, думаю, деньги вам самому нужны.
Через десять минут я вручил мыши третий аванс – теперь он составил триста шиллингов. Прошло еще полгода, а от них опять не было никаких известий; тогда я снова поехал в Линц и заявил:
– По всей видимости, это дело безнадежное.
Оба Швейгля посмотрели на меня, и в их глазах я прочел, что не ошибся: только мышь не согласилась со мной и сказала:
– Клиенты воображают, будто все можно выяснить за две недели.
На этот раз я оставил там пятьсот шиллингов, а зимой, на рождественские каникулы, поехал туда в последний раз и аннулировал дело. Господин Швейгль Младший выложил мне результаты своих розысков – и снова я услышал лишь то, что знал сам, – но платить мне больше ничего не пришлось; оба Швейгля сердечно потрясли мне руку, и я было устыдился, что проявил так мало терпения; только мышь по-прежнему не отрывалась от своих бумаг и даже не взглянула в мою сторону. Тут я подумал о тысяче ста шиллингах, которые оставил в этом агентстве, – почти столько же, сколько уплатил проворному майору; единственным достижением было то, что я узнал фамилию того адвоката, а также адрес его преемника. Я незамедлительно отправился к последнему.
Юрисконсульт по налоговым делам Зеллевих оказался холодным и скользким, как рыба. Вначале я не хотел надоедать ему подробным изложением моей истории, а остановился только на самых важных ее моментах и спросил, сохранился ли архив доктора Юбрика. Он заявил, что ничего определенного на этот счет сказать не может, да и вообще он не вправе распоряжаться бумагами покойного. На мой вопрос, кто в силах мне помочь и кто вообще имеет доступ к этим бумагам, я получил ответ: «Наследник». Но после этого он все же попросил рассказать ему подробности, в результате я получил разрешение прийти на следующий день.
– Только на это потребуется немало времени, – сказал господин Зеллевих, и я спросил его:
– А денег сколько?
Я оплатил ему издержки, составившие около трехсот шиллингов, но мы ровным счетом ничего не нашли. Я находился еще в Вельсе у моих тетушек, когда от «Швейгля и сына» пришло письмо, где они сообщали, что нашли потомка того самого столяра и полагают, что теперь намного приблизились к цели. Я ничего им не ответил, а только однажды проездом через Линц позвонил с вокзала в агентство и сообщил одной из секретарш, что у меня больше нет денег, да и вообще я потерял интерес к этому делу, и попросил ее передать мои слова господину Швейглю. Что касается денег, то это, к сожалению, было недалеко от истины (я даже задолжал алименты), но в остальном я солгал. Просто после всех затрат и разочарований я решил взять дело в свои руки.
6
Господин Вудицль – разумеется, это был уже сын того Вудицля, который когда-то женился на дочери Рамметсэдера, – обитал в сыром и ветхом домишке на Капуцинерштрассе, в верхней части улицы. После того как я несколько раз нажал кнопку звонка, мне открыла блондинка лет двадцати пяти: волосы ее словно еще сочились перекисью, а тело, казалось, состоит из одних только бедер, к которым приклеилась узкая юбка. На мой вопрос, можно ли видеть господина Вудицля, она ответила: «Нет». Я спросил, когда бы я мог его застать. «Не знаю», – услышал я в ответ. В ту же минуту резкий женский голос в глубине дома прокричал: «Мерседес, закрой дверь, сквозит!» Я поспешно протиснулся в узкую щель между бедрами и дверью и захлопнул ее за собой. Блондинка взглянула на меня, и в ее глазах я прочел желание влепить мне пощечину. С минуту помолчав, она сказала:
– Отец спит. Будьте добры его не беспокоить!
Он, однако, вовсе не спал, ибо неожиданно появился из двери слева. С ненавистью посмотрев на меня, как на человека, который уже не раз причинял ему серьезные неприятности, он жестом велел дочери скрыться в комнате напротив и прошествовал впереди меня в комнату, из которой только что вышел. Я последовал за ним, притворил дверь и спросил:
– Господин Вудицль – это вы будете?
(Последние слова я прибавил только потому, что у него была такая смешная фамилия; обращаясь к нему, я чувствовал себя как-то неловко.)
Он раздраженно кивнул и плюхнулся на маленький диванчик, который под тяжестью его приземистой фигуры заскрипел и запищал, как целый базар детских дудочек.
– Чего вы хотите? – спросил он.
Я пробормотал – как мог невнятнее – свою фамилию, встал за стулом с высокой спинкой и, опершись на нее скрещенными руками, сказал:
– О том, чтобы «хотеть», не может быть и речи; я пришел кое о чем просить вас.
Перебирая пальцами бахрому пледа, которым был покрыт диванчик, он сказал:
– Эта вкрадчивая манера – самая мерзкая изо всех. Чего вы хотите?
Но я твердо решил действовать как можно дипломатичнее, поэтому некоторое время молчал и только пристально смотрел на него – до тех пор, пока он не отвел глаза; тогда я огляделся: мебель здесь была разнокалиберная, и про каждую вещь можно было сказать, что она несколько дней провалялась на свалке под дождем. (Да и сам старик, пожалуй, выглядел не намного лучше.) Окна были завешены пестрой тканью, какой иногда накрывают алюминиевые столики пляжных кафе или городских закусочных; куски материи были прибиты прямо к стене гвоздями с крупными шляпками, так что их нельзя было отодвинуть, как обычные гардины. На сиденье стула, о спинку которого я опирался, лежала газета, раскрытая на разделе экономики. Я взял ее, стал просматривать биржевые курсы и вспомнил Гарри Голда, но тут старик сказал:
– Положите газету и скажите, что вам нужно!
Я прочел еще несколько строк и, не выпуская газеты из рук, ответил:
– Нечто такое, что будет выгодно нам обоим. Если только вы не станете чинить мне препятствия.
Тут я опять сделал паузу (ибо дипломатию я представлял себе именно так), и, когда я снова углубился в биржевые курсы, он проговорил, медленно и устало:
– Вы мелкий, гнусный, паршивый вымогатель! – А потом очень горячо прибавил: – Но вы их и пальцем не тронете, моих бедных девочек, я пока еще жив и сумею их защитить.
Я надеялся, что теперь он разговорится, а потому продолжал молча листать газету и даже закурил; пепел с сигареты я стряхивал прямо на пол, окурок погасил в отдушине железной печурки, да там его и оставил, но старик нисколько не нервничал, только продолжал перебирать бахрому. И тогда у меня сдали нервы, и я рассказал ему про своего прадедушку и про семейство Рамметсэдера – разумеется, я говорил достаточно туманно, хотя и не преминул намекнуть, что, возможно, имеется и кое-какое наследство. Пальцы его вдруг перестали играть бахромой, и он произнес с видимым облегчением, словно вдруг очнулся от кошмарного сна:
– Но ведь это вы могли сказать сразу! – Он было хотел продолжать, но как будто одумался и добавил, вставая с места: – Я переговорю с моим адвокатом, а вас прошу пожаловать ко мне завтра в то же время.
Назавтра белокурая Мерседес встретила меня заранее заготовленной улыбкой, с улыбкой протянула мне руку – слишком уж вялую, будто без костей, и с улыбкой сказала:
– Отец вас ждет.
Я протиснулся между бедрами и дверью в комнату налево. Старик поднялся мне навстречу со своего диванчика; не поздоровавшись, взял шляпу, которая лежала на отслужившей свое швейной машинке, и сказал:
– Пойдемте! – А увидев мое удивленное лицо, добавил: – К моему адвокату. Он нас ждет.
Далеко идти не пришлось: контора адвоката помещалась на Вальтерштрассе, поблизости от собора, в верхнем этаже дома без лифта, где на лестничной клетке вас обдавало вонью, как из помойной ямы. На ярко начищенной медной табличке значилось: «Д-р Маркус Цаар, адвокат и защитник по уголовным делам». Когда господин Вудицль позвонил, нам открыл изящный человечек в элегантном сером костюме; он поздоровался с Вудицлем, потом со мной и жестом своей тонкой, унизанной кольцами руки пригласил нас пройти к нему в кабинет. Мы сидели в кожаных креслах за круглым столиком; адвокат предложил сигареты (господин Вудицль отказался), у меня под носом щелкнула золотая зажигалка, но никто не прерывал молчания – они явно выжидали, пока я заговорю. А я тоже молчал, хотя уже не из дипломатических соображений, а от неловкости – мне вдруг бросилось в глаза, как невыразимо уродлив господин Вудицль. Конечно, он был достаточно жалок и дома, рядом со своей эффектной дочерью; но каков он на самом деле, я разглядел только теперь, когда он очутился рядом с изящным доктором Цааром. В молодости – сейчас ему было, наверно, лет шестьдесят – он, может быть, и не казался таким уродливым, но теперь выглядел совершенно нелепо, словно его разобрали на части, а потом собрали как попало. Каждая часть в отдельности – лоб или шея, плечи или живот – была вроде бы в норме, но ни одна не подходила к другой, точь-в-точь как мебель у него в комнате, так что весь он в целом был просто урод. Я подумал про себя: до чего же развинченная у него фигура. В то же время я почувствовал глубокое, прямо-таки проникновенное доверие к изящному доктору Цаару и выложил ему все, что знал, а также все, что предполагал или подозревал; и на каждый из его многочисленных вопросов дал ему по возможности исчерпывающий ответ. Этот хрупкий человечек внушал мне давно уже утраченное мною чувство уверенности, хотя совершенно ничего не обещал и не подал никакой надежды. Подперев голову сплетенными в пальцах руками, он внимательно слушал меня и время от времени задавал вопросы, а час спустя я уходил от него с господином Вудицлем в глубоком убеждении, что уж теперь-то наконец мое дело на мази. Внизу, на улице, господин Вудицль – теперь он уже не казался мне таким уродливым – сказал, чтобы я пришел к нему завтра в то же время, и на этом мы с ним расстались. Я еще немного побродил по улицам, глазея на витрины, и вот в витрине одной портновской мастерской на Шпиттельвизе я вдруг увидел в зеркале себя, увидел самого себя рядом с манекеном в элегантном сером костюме; тут меня замутило: я невольно представил себе Вудицля там, в кабинете, рядом с изящным доктором Цааром. После этого я до глубокой ночи пил; потом проспал далеко за полдень, пока не подоспело время опять идти к Вудицлю. Мерседес, открывая мне, улыбалась так, словно только и знала, что улыбаться; она провела меня через комнату направо от входной двери – нечто вроде кухни-столовой – в маленький кабинет, служивший также спальней; лишь здесь она ответила мне на вопрос, дома ли ее отец:
– Его нет дома. Никого нет. Какое счастье для нас с вами!
Сперва я ее не понял; но она уже стаскивала с себя узкое платье – как рабочий засучивает рукава. С этого дня я поселился на Капуцинерштрассе – гостиница и без того была бы мне уже не по карману. Деньги, полученные от лондонских родственников, я истратил до последнего гроша; принадлежавшую мне часть дома в Вельсе я продал тете Иде, погасив одновременно свои долги, так что ренты я лишился, доход (если можно так сказать) я извлекал теперь единственно из своей венской квартиры, которую сдал на выгодных условиях двум швейцарским студентам. (Диван в кабинете я на всякий случай оставил за собой.) А на шестьсот шиллингов в месяц в 1951 году уже мало что можно было себе позволить. Пятьсот шиллингов я ежемесячно отдавал на хозяйство, а ста шиллингов карманных денег мне попросту не хватало, и приходилось все время отщипывать от той суммы, что лежала в банке после продажи дома в Вельсе. С ужасающей быстротой мое бывшее домовладение превращалось в ром и сигареты, а также в платья и белье для Мерседес. Мы занимали с ней меньшую из двух комнат мансарды, в другой ютились ее четыре сестры. Все девицы были со мной на «ты»; только старики по-прежнему говори мне «вы», и каждый в этой семейке старался во время нескончаемых ссор перетянуть меня на свою сторону. Например, старуха вопила:
– Что он носится с этими девками! Мерседес, Анабелла! – Потом чуть спокойнее: – Это еще на что-то похоже, эту хоть можно звать Анни. А Лисею – Лиззи. – И опять возвышала голос до крика: – Но Амадея! Долорес! Все имена сплошь из модных журналов – так называют модели платьев, там он их и выискал, этот старый идиот! В наших краях девушек всегда звали Рези или Мицци, я от этого не отступлюсь, пусть они крестятся заново. А вы что на это скажете – вы же учились в университете?
Я вообще старался говорить как можно меньше – даже в тех случаях, когда одна из сестриц занималась, так сказать, анатомической критикой остальных – это они делали с большим пылом. Долорес сказала мне однажды:
– Я просто не понимаю, как это может тебе нравиться: такие широкие бедра и такие короткие ноги, а уж что говорить о… – Но тут ладонь Мерседес со звоном опустилась ей на щеку. В тот же день Анабелла заявила мне, подливая масла в огонь:
– Ты нежишься в кровати, а мы должны валяться на полу, на тюфяках. Черт знает что такое.
Я взял немного денег из банка и купил кровать. Мерседес ругала меня, почему я не купил сразу двухспальную, но Лисея, когда мы как-то остались с ней наедине, сказала:
– Мне бы и эта кровать подошла, только бы обновить ее вместе с тобой! – И добавила, поглаживая себя по стройным бедрам: – Уж мы бы уместились!
Через несколько дней нам с ней представилась возможность измерить вдвоем ширину кровати, но после этого я спал опять только с Мерседес.
Однако недели через три Лисея отвела меня в сторону, схватила за руку и, опустив глаза на носки своих туфель, произнесла сдавленным голосом:
– Что ты со мной сделал!
Я спросил:
– А что?
– Можешь и сам догадаться!
Сам я, конечно, догадался, ибо она упорно смотрела на носки своих туфель. На какую-то секунду я, словно через лупу, увидел увядшую кожу ее лба под черной челкой; оторопело глядя на нее, я сказал:
– Но я же был начеку!
Тут она пришла в ярость, крикнула мне в лицо:
– То-то и видно, как ты был начеку! – И выбежала вон.
Я побежал за ней следом и спросил, не хочет ли она выйти за меня замуж; спросил едва слышно – от страха у меня заныло под ложечкой. Она прижалась лбом к стене и сказала:
– Может быть, я застудила… или еще что-нибудь… всякое бывает… Подождем еще месяц. – И, едва не плача, добавила: – Оставь меня.








