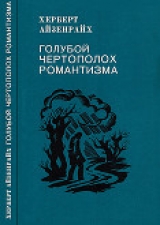
Текст книги "Голубой чертополох романтизма"
Автор книги: Герберт Айзенрайх
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Вот так и получилось, что тот самый преданный врач подошел к койке пациента и сказал:
– Признаться, я не очень верил в эту возможность, но, судя по вашему виду, господин Патцак, и по всем клиническим данным, вы вполне трудоспособны.
(Это соответствовало истине, только он слишком растолстел.) Сколько же было радости, когда он снова – так и хочется сказать: вступил в свои права, – когда он вернулся к исполнению своих обязанностей! Не всех разумеется: он еще нуждался в щадящем режиме, глотал попеременно карниген и либриум, сиживал рядом с шефом в сауне, вечерами совершал моцион вокруг квартала. Поначалу ему пришлось доделывать то, что накопилось в пяти или шести конторах за время его пребывания в санатории, а между делом мотаться в Лугано, Мюнхен, Кицбюэль и Братиславу. И когда он потом наведывался к чете Хлоупка, то был очень усталым и ложился на кушетку вздремнуть. Однажды ему приснилось, что под нее закатилась сигарета, он в испуге вскочил, но, оглядевшись, убедился, что ничто ему не угрожает: шеф мирно сидел в своем кресле и тщательно обрезал кончик сигары, а от столика черного дерева доносилось тихое пощелкивание карт, которые, прежде чем их положить, чуть придерживали большим и указательным пальцами. Идиллия. Тоже своего рода простая жизнь. Можно спокойно спать дальше.
Не всегда шеф сидел здесь; иногда, придя домой, он вскоре уезжал на какой-нибудь прием. Тогда у кушетки словно просыпалась память, и ее пружины тихо-тихо гудели, как пчелы или как струны арфы в стихотворении Хёлти. Регина не знала этого стихотворения, и он прочел его ей наизусть (ведь он изучал и германистику). И какое-то время все было, как прежде. Но потом он стал приходить, только когда и у шефа вечер оказывался свободным. Если же шеф бывал занят, был занят и он: за письменным столом, или в сауне, или в Обществе иностранного туризма – в Вене ли, в Лугано (и так далее). Всякий раз, когда бывали дела, они занимались делом вместе, шеф и его секретарь; только вот с ней у них так не получалось. А потом вообще перестало получаться – и у супруга, и у любовника. Они играли наверху с железной дорогой, она же вечер за вечером сидела за своим столиком и с неугасимым оптимизмом прекрасного пола раскладывала пасьянсы: дама червей на короля пик, трефовый валет на червонную даму…
Жизнь после смерти
Первым к ней нагрянул критик Шпельман и сказал: «Прошло без малого десять лет, и мы подумали, что неплохо бы устроить у Штокхофа и Майера мемориальную выставку». Потом зашел Лео Липицкий, который теперь работал на телевидении. «Знаешь, – сказал он, – мы решили подготовить сборник „Голоса друзей“, включим туда прижизненные рецензии и новые статьи – все охотно примут участие, – а иллюстрируем книгу его графическими работами. Издательство „Семафор“ согласно напечатать, я уже договорился». Вскоре она повстречала на улице актера Хуго Майкснера, и тот сказал: «По-моему, надо организовать на кладбище траурный митинг, остальные тоже так считают. Кстати, я уже посоветовал Завацкому развесить в фойе театра эскизы декораций». Побывал у нее и издатель Кристан. «К десятой годовщине смерти, – сказал он, – мы хотим выпустить отдельной папкой подборку из двенадцати – пятнадцати графических листов или полностью цикл об Иове, если, конечно, удастся отыскать все рисунки. Хайнерсдорф напишет предисловие, он ведь знал покойного лучше нас всех». Шпельман, Липицкий, Майкснер, Кристан и Хайнерсдорф – старые друзья мужа – заявились к ней всем скопом, чтобы обсудить детали и распределить обязанности, после этого они забегали уже поодиночке: порыться в папках, поискать тогдашние рецензии, сделать выписки из писем, взглянуть на картины; ей бы надо варить обеды, готовить уроки с четырнадцатилетним Харальдом, и гостиную она собиралась подмести, и в конторе была очень загружена: помощник адвоката открыл собственное дело, и доктор Шинагль теперь почти все время давал ей работу на дом. А тут еще хочешь не хочешь ройся в папках, ищи старые рецензии, делай выписки из писем, смотри картины; и вот, думая о немытой посуде на кухне, о рваных Петеровых брюках, она говорила: «Да, если хочешь, пусть будет эта картина… или, пожалуй, лучше вон та…», ведь ей самой это было безразлично, совершенно безразлично. И ее просто удивляло, что кому-то вздумалось разводить теперь суматоху вокруг событий десяти-, двенадцати-, пятнадцатилетней давности. Она бы с радостью вышла тогда замуж второй раз, хотя бы из-за детей. Да охотников не нашлось, наверное, опять-таки из-за детей. Он оставил ее вдовой с двумя ребятишками, но без гроша пенсии и даже без сбережений; картины кое-как продавались только сразу после его смерти, а позже спрос на них и вовсе упал; потому она и вернулась в контору доктора Шинагля, где работала прежде. Именно там они и познакомились, после аварии, в которую он угодил на своем мотороллере. С той поры у него остался шрам на левом виске и привычка ощупывать этот глубокий рубец указательным пальцем, белым и длинным; порой даже казалось, будто он копается у себя в мозгах. Правда, это была не самая скверная из его привычек; гораздо сильнее донимало ее то, что, пообедав, он непременно расстегивал пояс на брюках и выпускал рубаху вместе с животом. Еще она не переносила, когда он средь бела дня вдруг заваливался на диван и начинал массировать пластмассовой щеточкой свой обнаженный торс. Но противнее всего был запах, шедший у него изо рта, если вечером он съедал что-нибудь жирное и пил шнапс, – ее передергивало от этого запаха, который душным облаком висел над постелью; она требовала, чтобы он чистил на ночь зубы, и каждый раз это вызывало долгие, нудные препирательства. Они вообще довольно часто ссорились, ну например из-за того, что он не хотел никакого абажура в гостиной, которая тогда служила ему мастерской. Сами ссоры еще бы куда ни шло, но ведь он вдобавок умолкал в разгар перепалки, вставал, подходил к мольберту и тоненькой кисточкой терпеливо, часами накладывал один мазок за другим, дверь при этом была открыта настежь – она снова и снова захлопывала ее, он снова и снова тихонько отворял, а в один прекрасный день просто-напросто снял злополучную дверь с петель и прислонил к стене. Вот о чем вспоминала вдова и еще вспоминала великое множество утр, когда он валялся в постели, а она кормила детей, шла в магазин, готовила еду; и великое множество дней, когда он угрюмо сидел за кухонным столом и запоем читал газеты – штук по десять сразу, не пропуская ни строчки, с передовой статьи до объявлений, она же мыла тем временем посуду, драила пол, умудрялась между делом погулять с ребенком; и великое множество вечеров, когда он и его приятели торчали в мастерской и выпендривались друг перед другом, пока она меняла пеленки и баюкала младенца; и великое множество ночей, когда он – если провел день у мольберта – в одиночестве бродил по городу, а она лежала без сна и при каждом скрипе детской кроватки думала, что вот наконец-то повернулся ключ в замке. Она думала и о многом другом – тягостном, назойливом, неприятном. И день ото дня в ней нарастало чуть ли не брюзгливое удивление, что кому-то вздумалось поднимать теперь суматоху вокруг событий десяти-, двенадцати-, пятнадцатилетней давности; все было, да быльем поросло, ну и пусть – разве там есть о чем вспоминать: хлопоты с детьми, хлопоты в конторе, и только-то. Но старые друзья приходили, и потому она рылась в папках, искала тогдашние рецензии, делала выписки из писем, рассматривала картины и думала обо всем об этом, но больше не вспоминала, как Хайнерсдорф – уже в те годы почти знаменитость в литературном мире – на открытии первой выставки говорил о странном и совершенно непостижимом для других людей мужестве, которое побуждает человека осуществлять небывалые дотоле замыслы, о мужестве оставаться вовек одиноким, а у нее на глазах выступили слезы, и она беззвучно прошептала: «Нет, ты не одинок, ни сейчас, ни в будущем!» Не вспоминала и о том, как недели две, не меньше, под каким-нибудь предлогом спозаранку выбегала на улицу и торопливо просматривала в киоске все газеты и как горько была разочарована и даже рассержена тем, что лишь «Вельт-эхо» и «Тагесшпигель» поместили рецензии на выставку. Не вспоминала она больше и великое множество вечеров, когда делилась с ним впечатлениями от законченной картины, а он разъяснял ей свою концепцию; не вспоминала об изнурительной борьбе с драконом сомнения, – борьбе, о которой и сама-то знала не много, а другие и подавно ничего, ибо на людях он корчил из себя этакого беспечного наглеца; не вспоминала о блистательном полете его мысли, окрылить которую было дано ей одной, и никому больше, – словом, не вспоминала о мучительной битве за творческое самосовершенствование, то швырявшей его в бездну холодного отчаяния, то наполнявшей его чванливой спесью, пока они не брались молча за руки и смятенность душ не растворялась в единении тел. Не думала она больше и о том, что ей, и только ей, всегда принадлежало право увидеть первой готовую картину и что она была единственным человеком, который видел его полотна в работе. Она забыла, как радовалась, когда ему присудили стипендию на поездку в Италию, забыла и саму Италию. И как он учил ее там видеть краски, которых на континенте, вдали от моря, попросту не существует; и как она наблюдала за его работой на пленэре и глаза ее становились при этом зорче и видели дальше, и как из ее обреченного на безмолвие ликования рождались нежность и ласка, ее неистово влекло к нему и едва хватало сил дождаться, когда они снова вернутся к себе в комнату и можно будет сбросить платье; потом он ласкал ее перепачканными в краске руками, а ей чудилось, будто он продолжает рисовать. Не вспоминала она и о том, как в последний день выставки-продажи господин Штокхоф взял ее под руку и доверительно сказал: «Сударыня, это самая удачная выставка, какую я когда-либо устраивал: не продано всего шесть картин из сорока», и как она отчаянно прикусила губу, чтобы не сказать: «Я, господин Штокхоф, я была в этом заранее уверена!» Она не вспоминала, как они отбирали картины – он ставил ее мнение выше своего. Не вспоминала, с каким необычным для себя вниманием ловила каждое слово ораторов, когда ему вручали Государственную премию, – ведь она всегда служила тому делу, которое удостоили награды, и чувствовала, что наградой этой увенчали их общий труд, хотя и не очень-то любила, когда он, говоря о своей работе, объявлял: «Ну, вот мы с тобой и закончили», или: «Думаю, мы можем быть довольны», или: «Теперь мы с тобой пишем куда лучше» – и прочее в том же духе. Все это было предано забвению, равно как и прием во французском посольстве, когда она услыхала за спиной чей-то игривый вопрос: «Кто эта забавная малютка?», а другой голос отозвался: «Пойди да спроси у нее», и наконец еще кто-то тихонько пробормотал фамилию; уже через секунду ее стеной окружили мужчины: один вызвался принести бокал шампанского, второй услужливо щелкнул зажигалкой, третий рассказывал, до чего ему нравятся картины ее мужа, четвертый представил ей кого-то, а этот кто-то, поцеловав ей руку, лишь с превеликим трудом сумел выпрямиться, пятый, поднимая бокал к прищуренным масленым глазкам, возгласил, что теперь-то он понял, откуда берется красота, заключенная в полотнах ее мужа, – и причиной всей этой суеты было его имя, одно только имя, которое носила и она, благодаря ему. Правда, об этом она уже не думала. Или нет, все-таки думала, вспоминала, роясь в папках, отыскивая старые рецензии, делая выписки из писем, глядя на картины, – вспоминала, но так, как вспоминают о восторженных порывах, которых уже через пять минут стыдятся, или как о ребячествах, отвлекающих от настоящей жизни. Сейчас он значил для нее куда меньше, чем какой-нибудь мелкий муниципальный служащий с правом на получение пенсии, и чуть ли не насмешку она усматривала в том, что кому-то вздумалось поднимать теперь суматоху вокруг событий десяти-, двенадцати-, пятнадцатилетней давности, которых лучше б и вовсе не было. «Голоса друзей» вышли из печати, отдельной папкой издан цикл рисунков об Иове, в фойе Народного театра развешаны его эскизы декораций, у Штокхофа и Майера состоялась мемориальная выставка, и газеты поместили большие статьи, совсем как при его жизни, и на кладбище собралось у его могилы человек сто. А она уже не понимала этого. Она бы с радостью вышла тогда второй раз замуж, да охотников не нашлось – вот о чем кричало все вокруг у могилы, тысячью ртов. О мертвом ей говорили так, словно это мертвое было живым; но для нее оно умерло – десять лет назад и во веки веков, а оказалось – только лишь до следующего утра в конторе доктора Шинагля: в дверь постучали, и кто-то вошел, однако же не он, а совсем другой человек. И тут она разрыдалась. Да так громко, что доктор Шинагль – адвокат и потому явно не альтруист – отослал ее домой. Правда, уже через час она вернулась и сказала: «У женщин случаются дни, когда они сами не знают, что с ними такое. Мне очень жаль, господин доктор. Больше это не повторится».
И действительно, больше это не повторилось.
Похвальное слово ремеслу
Жил однажды в Вене бедный подмастерье слесаря, и был он влюблен в дочь своего хозяина, и она его тоже крепко любила. Стареющий мастер, у которого не было собственных сыновей, с удовольствием взирал на это чувство, соединявшее молодых людей, но соглашался благословить их не раньше, чем подмастерье выдержит экзамен на мастера. И вот в ближайший срок подмастерье, уповая на успех, отправился на экзамен, но так дрожал и потел от натуги и от двойного риска, коему себя подвергал, что, конечно, с треском провалился. После этого мастер объявил ему свое решение: хотя он и намерен оставить его у себя в качестве подмастерья, поскольку в работе парень усерден и прилежен, но дочь свою он отдаст в жены другому.
И вот закручинился наш подмастерье сверх всякой меры и не мог ни о чем больше думать, кроме как о своем несчастье. В трактире отныне он сиживал в уголке, без компании, за карточным столом вдруг ни с того ни с сего затевал спор, на танцы и глаз не казал. Ни яркое солнышко на дунайских волнах, ни белый снег за окошком не могли развеселить его душу, ни гулянье по Пратеру, ни ярмарочные качели-карусели не способны были отвлечь его от тяжкой думы. Лучшие яства не шли ему впрок, и он сильно спал с тела; зато все чаще среди бела дня стал тайно прикладываться к бутылке. Он не осмеливался больше попадаться на глаза возлюбленной и плакаться ей на свою судьбу, он загонял беду внутрь, и она медленно пожирала его, покуда не стал он чужд всякой радости и веселья. И постепенно пришла к нему и укоренилась мысль – разом покончить со всеми своими страданиями, что так его одолели, а заодно и с собственной жизнью. В долгие бессонные ночи, когда он неустанно выплакивал слезы в подушку, а в глазах у него стояла его любимая, идущая к алтарю с другим, он стал припоминать слышанные им рассказы о людях, покончивших счеты с жизнью, и о том, какими способами они смогли достичь своей цели. Яда у него под рукой не оказалось; яд, стало быть, исключался с самого начала. Пришедшее было второпях решение выброситься из окна он столь же поспешно отверг: ему не под силу было представить себя лежащим посреди мостовой с расколотым черепом. Пронзить себе сердце, перерезать горло или вскрыть вену – на это у него опять-таки не хватало окончательной храбрости. Смерть в воде казалась ему чересчур долгой, кроме того, он был отличный пловец и боялся, что просто не сумеет заставить себя пойти ко дну. Смерть в петле тоже была связана с продолжительными муками, а о том, чтобы сжечь себя, он не мог без содрогания и подумать. Приятная кончина – так по крайней мере он не раз слыхал от людей – замерзнуть в снегу, но на дворе стоял апрель, а ждать до зимы ему было невмочь. Охотнее всего он помер бы с голоду, но, вероятно, когда его состояние обнаружат, его поволокут в больницу и будут кормить против воли. Самое надежное и одновременно наименее болезненное средство покончить со всем – это прицельный выстрел в грудь; без сомнения, этот способ он предпочитал еще и по той причине, что, будучи совсем молодым парнем, целый год прослужил в солдатах. В конце концов, думал он, бросаются в воду только беременные служанки, вешаются только пойманные убийцы, а выпивают яд только трусливые женщины; солдат, твердо решил он, должен умереть от пули. Однако вот загвоздка: у него не было огнестрельного оружия. Не было и денег, чтобы его купить.
Но тут на помощь пришел случай: среди разного металлического хлама, который некий торговец по дешевке сплавил хозяину и который он, подмастерье, должен был разобрать, нашелся старый пистолет, точнее сказать, всего только пистолетный ствол с наиболее существенными частями затвора. Однако недостающие детали легко было отыскать. А один из его старых приятелей, что нес теперь службу в арсенале, распив с ним вместе несколько добрых чарок вина, раздобыл ему подходящий патрон. И вот поздним вечером в своей чердачной каморке он приставил холодное дуло к обнаженной груди, послал небесам короткую молитву, а возлюбленной – долгий-предолгий вздох и прижал, как его когда-то учили, указательный палец к спусковому крючку; увы, после этих манипуляций дуло, поставленное между ребрами, несколько сдвинулось в сторону. Ему сразу же стало ясно: поскольку он употребляет оружие против самого себя, лучше ему нажимать на курок не указательным, а большим пальцем, однако для его толстого и грубого большого пальца спусковой крючок оказался тесен. Он еще раз попытался привести курок в действие указательным пальцем; чуть не вывихнул плечо и сумел-таки покрепче обхватить неудобное орудие. Он уже хотел было окончательно надавить на спуск, как вдруг ему показалось, что теперь ствол нацелен слишком низко, значительно ниже сердца; он стремительно опустил руку с пистолетом, а другой рукой стал нащупывать, где у него бьется сердце. Это биение он ощутил, но вновь поднятый пистолет все равно, чудилось ему, метил не туда. Кроме того, он заметил, что рука его мокра от пота и дрожит как в лихорадке. И тогда он понял: это страх! Страх не перед смертью, а перед позором: не умереть после выстрела, отделаться пустяковой раной; не сумев убить себя, жить дальше неудачливым самоубийцей. Он еще раз поднял оружие, но дуло уже вовсе не поддавалось контролю и танцевало на его груди вверх и вниз, так что он бессильно уронил руку, опустился на кровать, быстро сунул пистолет под тюфяк и мгновенно заснул, но тотчас вновь пробудился; его вдруг осенило: необходимо жестко зафиксировать ствол, чтобы тот не мог никуда сдвинуться и пуля попала точно в цель, даже если рука вдруг дрогнет и откажет. Затем он снова глубоко заснул и спал без просыпу до самого утра.
На другой день после работы он остался один в мастерской. Из кучи железа он выбрал металлическую полосу шириною в три пальца, один конец ее загнул вокруг левого плеча, а в другом – пробуравил прямо против своего сердца дыру, куда входил пистолетный ствол. На второй вечер он подобрал распорки и добился, чтобы ствол плотно и твердо сидел в отверстии. Но вся конструкция еще ерзала на груди, и ее следовало закрепить металлической лентой, проходящей вокруг всего тела. Чтобы это устройство вообще можно было на себя надеть, пришлось еще сделать под мышками два шарнира, а на спине приладить специальный запор; то и другое он смастерил в течение последующих вечеров. После примерки, однако, подмастерье, который был необыкновенно педантичным работником, остался недоволен асимметричным видом изделия и потому решил дополнить его второй полосой, которую загнул теперь вокруг правого плеча, благодаря чему конструкция сидела на нем совершенно неподвижно и прочно. Правда, пистолетный ствол при этом немного сдвинулся и уже не метил прямо в сердце, но после нескольких дополнительных подгонок и этот недостаток был устранен.
Во время частых примерок подмастерье радовался своему изделию, но плечи и грудная клетка у него сильно болели от сдавливания, и ему постоянно приходилось подкладывать полотенце под холодное, с острыми краями железо. Полотенце сдвигалось, складки его в свою очередь врезались ему в тело и натирали кожу; пришлось снабдить внутреннюю поверхность мягкой подкладкой, для каковой цели он приобрел остаток толстого красного бархата, раскроил его соответствующим образом и аккуратно подклеил изнутри, да еще прошил для надежности тончайшей проволочной нитью. После этого надевать и защелкивать на себе устройство стало поистине удовольствием; бархат ласково щекотал кожу, и гордый творец никак не мог вдоволь этим натешиться. Однако теперь его больно задевало несоответствие между изысканно отделанной внутренней стороной и грубым наружным видом изделия. Все дальнейшие вечера он посвятил шлифовке и украшению металлической поверхности и ежедневно с удовольствием отмечал достигнутые в этом направлении успехи.
Однажды под вечер, когда он, как обычно, сидел один-одинешенек в мастерской и занимался ювелирной отделкой первоначально грубой поверхности своего устройства, мастер пригласил к себе в дом видных представителей цеха и собирался продемонстрировать им новый инструмент, который он выписал недавно из Англии. Выпив по бокалу вина, они всей гурьбой вошли в мастерскую как раз в тот момент, когда подмастерье для новой примерки надел и застегнул на себе свой аппарат. Когда же он внезапно заметил мастера и гостей, он чуть было не упал на пол со стыда и охотнее всего умер бы сейчас на месте; для этого, впрочем, ему надо было всего лишь нажать на спусковой крючок, но эта мысль почему-то не пришла ему в голову: ведь за работой он давно и думать забыл, для какой, собственно, цели он изготовил свое устройство. Он давно уже не сидел в трактире без компании, в уголке; от звуков музыки ноги его, как прежде, готовы были пуститься в пляс, и заглядывать в бутылку его больше не тянуло; он все чаще подумывал о том, что пора ему умолить возлюбленную о новой встрече и опять добиться ее доверия и любви. Но теперь, столь внезапно застигнутый врасплох, он счел себя погибшим безвозвратно. Однако, когда ужас мастера сменился любопытством, а любопытство скоро перешло в восхищение, подмастерье был так же счастлив, как и во время работы над своим устройством, хотя прежде он никогда не отдавал себе в этом отчета; и он рассказал, сам себя отныне не понимая, для какой цели он решил построить свой аппарат и как постепенно пришел к конечному результату. Но не из его слов, а более всего по виду самого изделия, которое было тщательно осмотрено и высоко всеми оценено, мастер убедился, сколь велика любовь несчастного юноши и одновременно как незаурядны его способности к их ремеслу, в котором он даже еще не признан мастером. Среди членов цеха присутствовали и его былые экзаменаторы, и они сказали: «Поистине, он изготовил удивительную работу на звание мастера, и мы ее как такую и засчитаем». Подмастерье, однако, настоял, чтобы, сверх того, подвергнуться еще и форменному экзамену, и возвратился к своему мастеру с наилучшими оценками. Тот выдал за него дочь, и, после того как старый мастер удалился на покой, зять продолжил его дело с таким успехом, что сумел превратить мастерскую в небольшую фабрику, и она изготовляет разные полезные вещи до наших дней.








