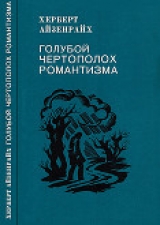
Текст книги "Голубой чертополох романтизма"
Автор книги: Герберт Айзенрайх
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Чистая правда
Когда он подъехал к «Лесному кафе», ее машина уже была здесь. С некоторым смущением он взглянул на часы: нет, он точен. Поставив свою машину подальше от ее, он еще раз удостоверился, запер ли дверцы, и вошел в кафе. День был рабочий, девять утра – в кафе ни души. В большом зале, так называемом «салоне», куда вход прямо с улицы, расставлены круглые непрочные столики из пластмассы с жестью, на одном сложены стопкой дюжины две свежих скатертей, все окна открыты настежь, по полу, выстланному светло-серой и синей плиткой, кольцами вьется черный шнур пылесоса. За полуоткрытой дверью виден меньший зал, обшитая панелями «каморка», где пока даже не раздвинули гардины в окнах и грубые деревянные столы были погружены в прокуренный сумрак минувшей ночи. Тем не менее он заглянул туда, но там было пусто. Тогда он вышел на террасу – и чуть не присвистнул от нахлынувшей радости.
Она сидела спиной к зданию, у самого парапета над лесным ручейком, который с тихим журчанием пробирался по усыпанной бурой хвоей земле. Ручеек был неглубокий, но в тени елей и пихт вода казалась густой, тяжелой и дна видно не было.
Он склонился к ней, но, к его недоумению, она тотчас же отстранилась, протянув ему лишь руку, хотя он полагал, что их никто не видит.
Приложившись к ее руке, он с грохотом подтащил по гравийному полу свободный стул, уселся и заговорил о неожиданной радости, которую она доставила ему тем, что нашла для него время; он не успел договорить, так как подошла официантка, чтобы принять заказ. Когда они снова остались вдвоем и он хотел было закончить прерванную фразу, она, уставясь неподвижным взглядом на лес, сухо сказала:
– Красиво же ты вчера поступил, очень красиво!
Она проговорила это, не разжимая рта, только губы стали почти белыми, но он четко расслышал каждый слог, и теперь сказанная ею фраза встала между ними незримо, но осязаемо, как стеклянная перегородка. От ручейка и деревьев повеяло влажной прохладой, которая, казалось, на миг покрыла ледяной корочкой парапет и крышку столика; донесшиеся из окна кухни несколько тактов польки прозвучали как-то странно, словно гром посреди зимы. Он сделал над собой усилие, пытаясь вспомнить, что же вчера произошло.
Часов в пять он пошел к Вилли Чапеку, владельцу гастрономической лавки, который в задней комнатушке, тесной и сумрачной, не только сам любил поесть и выпить, но и пускал за плату потрапезничать некоторых своих постоянных покупателей. Тут собирались преимущественно люди интеллигентные: коммерсанты, а также актеры и литераторы, почти исключительно мужчины от сорока до пятидесяти лет. Пили датское пиво, бургундское, иногда шампанское, ели паштеты, ручьевую форель и икру, но порой перебивались соленым печеньем, а то и бутербродами с ветчиной, которые приносили из ближайшей закусочной. Один раскошеливался на бутылку вина, другой на банку форели, третий на шампанское, а четвертый вообще ничего не платил – не мелочились, Вилли тоже, он не раз добровольно выставлял бутылку.
Разговоры велись о какой-нибудь книжной новинке, о том, как трудно вступить в «Географическое общество», инженер-мелиоратор рассказывал об осушении верхового болота, а юрист, пользовавшийся славой волшебника, демонстрировал один из своих фокусов и с извиняющейся улыбкой целовал ручку даме, которая вытащила карту или сняла колоду. Заходили сюда также для деловых переговоров; госпожа Экслер, владелица салона музыкальных записей «Экслер-рекордс», заседала там, к примеру, чуть ли не ежедневно. Вчера она тоже пришла, с двумя телевизионщиками, которых он видел впервые; напротив них сидели молодой человек и девушка, всецело занятые собой: они смотрели то на рюмки, то друг на друга. Потом явился фокусник, выпил пива, съел бутерброд с ветчиной, который принес в портфеле, и стал читать газету, кем-то оставленную на столе. Затем пришел доктор Фрич, ее муж. С ней поздоровавшись, он небрежно приложился к ее руке, и оба завели беседу на светские темы, в которых уже имели кое-какой опыт. Он точно вспомнил: она спросила, был ли он этим летом в Зальцбурге, посудачили о тамошних отелях и ресторанах, решив, что ездить в Зальцбург больше нет смысла, с тех пор как закрылся «Ешь-ешь-ешь», где рыба была такой свежей, словно ее только что выудили из реки, а бутылка «бароло» стоила шесть шиллингов, лучшее в мире «бароло» – всего шесть шиллингов… ну и тому подобное. Он точно помнил, что тут ничего такого быть не могло.
Потом пришел оперный певец Зильберман – вечером ему предстояла премьера – и выпил несколько рюмок водки. Фокусник, зачитав из газеты заметку о каком-то сексуальном преступлении, не оставил камня на камне от противоречивых заключений судебно-медицинских экспертов, а Зильберман рассказывал госпоже Экслер о своей поездке в Россию.
Остальные, кроме него самого и фокусника, углубившегося в газету, сидели в дальнем конце продолговатого стола, справа и слева от госпожи Экслер, возле которой крутился – два шага вперед, два шага назад – оперный певец.
А доктор Фрич, прислонившись к косяку двери в подвал, грыз орешки из консервной банки; неожиданно, без всякого видимого повода он сказал, обращаясь не то к самому себе, не то к нему:
– И отчего так получается, что даже при самой большой близости ты все-таки одинок? Извечная разъединенность платонических половин? Или же это в самой природе вещей? А может, все дело в нашем собственном несовершенстве?
Его не так-то легко смутить, но на мгновение ему показалось, что вся кровь застыла у него в жилах. Муж знает? Догадывается? Решил проверить его этим вопросом? Подстроил ловушку? Пытаясь преодолеть смущение, он глотнул пива и закурил сигарету, но чувство замешательства только усилилось, оттого что затронутая доктором проблема была ему совершенно чужда.
Положа руку на сердце, он должен был бы сказать: «Я очень счастлив и отнюдь не одинок». Он заставил себя взглянуть ее мужу в лицо; казалось, орехи интересовали доктора больше, чем любой его ответ. Испуг почти прошел, однако внезапно закралось подозрение, что доктор привел жену для того, чтобы в ее присутствии задать этот вопрос-ловушку. Доказательства тому не было ни малейшего, но мысль, что он раскусил хитрость доктора, помогла ему взбодриться.
Подражая скучающему тону доктора, он сказал:
– Пожалуй, все мы таковы, пожалуй, это действительно в природе вещей. – И, как бы в подтверждение, что он способен умно рассуждать, добавил: – То, что мы называем любовью, всего лишь попытка с негодными средствами.
Он был очень горд этой фразой и убежден, что не выдал себя.
Доктор, продолжая грызть орешки, спросил:
– Стало быть, вы тоже полагаете, что полной слитности между мужчиной и женщиной, совершенного согласия между ними, не существует?
И он ответил:
– Да, я тоже так полагаю.
Тем временем оба телевизионщика ушли, Зильберман закончил свой рассказ, все снова сгрудились вокруг уставленного рюмками и бутылками стола, а Вилли открыл для какого-то гостя банку крабов.
Допив пиво, он ушел, а наутро в восемь часов она ему позвонила и назначила свидание в «Лесном кафе». И вот они сидят здесь, между ними стеклянная перегородка, и опять ему показалось, что кровь застыла у него в жилах, но с той разницей, что в этот, второй раз он не знал, как спастись, ибо понял, что все-таки чем-то себя выдал накануне. Мысли сновали в его мозгу, как пчелы в улье, но сколько он ни напрягал память, так и не мог вспомнить, что сделал не так, где и когда. Он непрерывно размешивал ложечкой сахар в чашке кофе, которую принесла официантка, и в голову почему-то лезло одно: он моложе ее на целых двенадцать лет. Наконец он решил, что пора хоть что-то сказать, и пробормотал, глядя в чашку:
– Пришлось изворачиваться… Я совершенно не ожидал этого… Не мог предвидеть, что он подозревает…
Ложечку он отложил, но к кофе не прикоснулся и, вертя чашку в похолодевших руках, размышлял, что еще можно сделать сейчас. Подняв глаза, он увидел, что она сидит совершенно оцепеневшая и вся дрожит, будто не в силах справиться с охватившим ее напряжением. Он мягко положит ладонь на ее обнаженную руку.
Она отдернула руку так резко, что у него из чашки выплеснулся кофе. И наконец заговорила, совсем тихо, словно в глубочайшем изнеможении, ее голос донесся откуда-то издалека:
– Так трусливо предать! Предать все прекрасное, что было! Тьфу, черт!
Он хотел оправдаться, объяснить ей, что сказал только самое необходимое, чтобы не выдать себя:
– Ведь я даже не знал, догадывается он о чем-нибудь или нет. Я подумал: а вдруг это ловушка, и постарался обойти ее. Извини, если что не так, прости меня! – И добавил: – Конечно, я виноват.
Она не перебивала его, а скорее всего, просто не слушала. И когда опять заговорила, голос ее был по-прежнему очень тихим, проникнутым глубокой грустью, однако твердым, словно сталь в вате:
– Попытка с негодными средствами. Вот как?! А для меня это было другое. Вот так!
И только сейчас он понял. Но она уже поднялась и, не попрощавшись, направилась к выходу. Под ее ногами хрустел гравий, и этот хруст отозвался у него в глубине сердца, да и потом отзывался при каждой мысли о ней, при воспоминаниях, которые скребли его словно ногтями, бередя неутолимую тоску по ней. Он ясно понял, что в том кратком разговоре с ее ни о чем не подозревающим мужем его ложь нечаянно оказалась правдой.
Ганс и Грета
В кафе было сухо и тепло, мягкими волнами накатывалась приглушенная музыка. Было светло, однако свет не резал глаза. Сковали туда-сюда официанты, деловито, но без спешки и суеты. Только начинало смеркаться, а уютные лампы в нишах вдоль стен и на четырехугольных колоннах уже горели, и в тот момент, когда они вошли, вспыхнули и большие хрустальные люстры, свисавшие с потолка на длинных красных шнурах. Кругом зеркала, диваны в нишах мерцают темно-красной обивкой. Сидеть на этих полукруглых скамеечках-диванах одно удовольствие – мягко и удобно.
Они выбрали нишу неподалеку от огромного окна и теперь смотрели на улицу. Светофора на перекрестке отсюда не видно, видно только, как машины сперва останавливаются, потом, постояв некоторое время, дружно трогаются с места, а чуть позднее появляются машины на встречной полосе, набирая ход по сигналу все того же светофора; а еще время от времени медленно проплывают высокие желтые вагоны трамвая, и раскрываются двери, и люди протискиваются на площадку; а еще видно пешеходов, что темной густой массой скапливаются на краю тротуара, а потом, как по команде, идут дальше. Улица, машины, люди – все было мокрым от снега, который падал крупными хлопьями, то ровно, то кружась, и тут же начинал таять, и по огромному оконному стеклу ползли мокрые разводы, в которых улица расплывалась и все на ней – люди, предметы, огни – теряло очертания. Им было хорошо здесь, казалось, в этом уютном кафе они навсегда укрыты от жизненных тягот и передряг. И она сказала:
– Все-таки жизнь совсем другая, когда есть деньги.
Подошел официант и разложил на сиденье рядом с ними меню – несколько тетрадок в солидных коричневых папках. Она сказала спутнику:
– Мне хочется что-нибудь такое, что пьют через соломинку.
Спутник ее посмотрел на официанта, и тот назвал на выбор несколько напитков. Все эти названия она слышала впервые и потому снова спросила своего кавалера:
– А содовую с малиновым сиропом через соломинку пьют?
– Конечно, – ответил он и глянул на официанта.
– Одна содовая с малиной, – повторил тот и повернулся к ее кавалеру. Кавалер заказал пиво.
– Или, знаете, нет, – крикнула вдруг она вслед официанту. Тот вернулся к столику. – Пожалуй, я выпью лучше лимонаду.
– Один лимонад, – бесцветно повторил официант и двинулся к стойке.
– Эти официанты иной раз так смотрят, жуть берет, – сказала она.
– Просто ты не в настроении, вот и все, – возразил он.
– Да, – согласилась она. – Может, и так.
– Думаю, нам не придется об этом жалеть.
– Нет, что ты, конечно, нет. – И немного погодя она добавила: – Ты до того ловко все сделал – я горжусь тобой прямо не знаю как.
– Да ну, все было не так уж страшно.
– А я все-таки здорово волновалась.
– И напрасно. Тебе вообще нельзя волноваться. А тем более из-за этих. Они такие богачи, даже не заметят.
– А вдруг кто-нибудь уже обнаружил?
– Они до Нового года не вернутся, – сказал он. – А до тех пор никого в доме не будет. Пока они не вернутся, никто ничего не обнаружит.
Официант поставил на столик два небольших подноса с напитками. Когда он отошел, она сказала:
– Да, нам правда незачем волноваться.
– Ясное дело, незачем. Особенно тебе, в твоем положении.
Она потянула через соломинку лимонад, глядя, как опускается уровень жидкости в бокале.
– Знаешь, – проговорила она, – я совершенно не представляю, как ты это сделал. Неужели совсем не боялся? И даже сердце не билось?
– Нет, ну разве что самую малость.
– Правда нет?
– Правда. Только скучно было целый день там торчать. Я туда ночью пошел, весь день работал, а следующей ночью вернулся. С таким сейфом знаешь сколько работы? Но тут мне специальность здорово помогла. К нам в фирму тоже как-то раз сейф привезли: ключ потеряли, ну и, понятно, к нам. Вот тогда я и разобрался, что к чему.
– Видишь, как хорошо, что ты не столяр или там парикмахер какой-нибудь. Знаешь, если б ты был парикмахером, ты бы мне вообще, наверно, не нравился. То есть, может, и нравился бы, но не так.
Он отхлебнул пива.
– Одно было противно: что целый день в перчатках.
– Это из-за этих, из-за отпечатков?
– Ага.
– И сердце правда не билось?
– Правда нет.
– У тебя оно что, вообще никогда не стучит?
– Редко.
– А когда стучит?
– Я ж говорю, редко. Но вот когда мы у того доктора были – тогда стучало. В трамвае еще не очень, но когда по лестнице шли, уже тарахтело вовсю. Ну а когда я в приемной остался, совсем худо было. Кругом никого, тихо, как в морге. Я ведь думал, что он сразу все сделает. – Он допил пиво и сказал: – Хорошо, что у нас не оказалось тогда этой тыщи шиллингов.
Она снова потянула лимонад через соломинку и, не отрывая глаз от бокала и не выпуская соломинку изо рта, сказала:
– Но теперь у нас есть деньги.
Он тоже отвел глаза.
– Ты бы поела, а? Пирожного хочешь?
– Не знаю. Может, мне нельзя пирожное.
– Тогда, может, чего-нибудь кисленького?
– Да нет вроде.
– А сосиску с горчицей?
– Знаешь, я бы съела кусочек торта.
Он подозвал официанта и заказал порцию торта.
– Если можно, лимонного, – добавила она.
Тревожно всматриваясь в ее лицо, он думал: «И чего это она кислого не хочет? В ее положении всех на кислое тянет». Немного погодя он сказал:
– Теперь об этом и думать нечего. Вопроса нет.
Она подняла на него глаза и робко улыбнулась:
– Странно. А ведь сперва мы совсем не хотели.
В кафе появился старичок, он продавал газеты.
На шляпе и на плечах у него налип снег, который здесь, в тепле, быстро таял. Когда он подошел к их столику, мужчина купил у него газету. Сдачу брать не стал. Старичок поблагодарил и шмыгнул к следующему столику. Негромко, но укоризненно она заметила:
– Здесь же и так полно газет.
– В трамвае будет что почитать, – объяснил он.
Она сказала:
– Знаешь, эти деньги – их надо экономить.
– А мы и будем экономить. Но скупердяйничать не станем.
– Нет, скупердяйничать мы не станем, но экономить надо.
– Ладно, – согласился он, – как-нибудь разберемся.
Когда официант принес торт, он заказал коньяк.
– Маленькую рюмку или большую? – спросил официант.
Подумав немного, он сказал:
– Маленькую, – и, поглядев на спутницу, увидел, что той приятно. – А если за мной придут, скажешь, что ничего не знала. Обещай мне.
Она испуганно вскинула глаза.
– Но мы же договорились: нам незачем волноваться.
– Конечно, незачем, – успокоил он. – Это я так, на всякий случай.
– Нет уж, – твердо сказала она. – Волноваться действительно незачем. И я правда не думаю, что мы об этом пожалеем.
– Не пожалеем, – согласился он. – Ведь теперь нам обоим здорово этого хочется.
Она собралась еще что-то сказать, он видел это по губам, но тут официант принес коньяк, и она промолчала. Только когда официант удалился, она договорила. И сказала вот что:
– Знаешь, я держу торт во рту, а он так и тает, медленно-медленно.
Он засмеялся:
– И я тоже коньяк не сразу глотаю, он так всего вкуснее.
– Ой, вот здорово, – засмеялась она в ответ. – Разные вещи, а удовольствие одинаковое.
Она доела торт, запивая его время от времени лимонадом. Когда бокал опустел, послышалось тихое бульканье.
– Все-таки это замечательно – пить через соломинку, – вздохнула она.
Он подозвал официанта и расплатился, оставив на подносе немного мелочи.
– Знаешь, – сказал он, вставая, – когда есть деньги, сразу чувствуешь себя человеком. В этом все дело.
В гардеробе они оделись и вышли на улицу. Снегопад тем временем поутих.
Друзья моей жены
Вчера у нас опять был журфикс. Всякий прием гостей среди дня жена называет «журфиксом», хотя это неправильно. «Жур», не спорю, действительно означает по-французски «день», но «фикс», не забудем, означает «твердый», «зафиксированный». Иными словами, имеется в виду какой-то определенный день, в который устраиваются приемы, допустим, каждый четверг или еще лучше – первый вторник каждого месяца. (Вечерние приемы жена называет «суаре», и тут возразить нечего, да и упоминаю я об этом только объективности ради.) Вчера – это была суббота – она, значит, снова устроила журфикс, и у нас собрались, помимо одной дамы из клуба любителей книги и госпожи Торби, все друзья моей жены: господин Торби, само собой, а также все, кто сейчас у нее в фаворе: Макс Кнолль, Вилли Костранек, Макс Гаттербауэр, Франц Юккель, ну и, разумеется, гвоздь ее программы писатель Петер Зигль. Я так до сих пор и не знаю, что этот господин Зигль написал, да и жена, сколько я ни добивался, ничего толком на этот счет сообщить не может. Знаю только, что он целыми днями просиживает в кафе, дожидаясь кого-нибудь, кто сыграет с ним в шахматы (а заодно, если повезет, оплатит за него глазунью из двух яиц или сосиски). Вчера он явился к нам в черной рубашке, как в свое время фашисты, и, когда об этом зашел разговор, изрек следующее:
– Надо быть полным идиотом, чтобы ходить в светлой рубашке. Сколько такую рубашку можно носить? От силы пять дней! – Сам я, прошу заметить, меняю сорочки каждый день, считая это своим долгом хотя бы перед клиентами, не говоря уж о себе. – А черную рубашку можно носить практически сколько угодно. Так что я теперь обхожусь двумя рубашками – одна на мне, другая в прачечной.
При этом он все время без стеснения чесался: то под мышками, то колено потрет, то в затылке поскребет, а то и живот начнет оглаживать. Я еще подумал: «Если бы я – а сам я, забыл сказать, торговый представитель, – если бы я вздумал вытворять такое перед клиентами, вот был бы скандал!» А однажды, тоже в нашем доме, он вдруг снял ботинок, стянул носок и давай ковырять перочинным ножом свой большой палец. Ковыряет и бормочет:
– Что-то застряло.
Я хотел сказать: «Да грязь, наверно», – но промолчал. А вечером говорю Гит – так зовут мою жену; точнее сказать, ее зовут Бригитта, но она считает, что Гит – более современно и «стильно», – так вот, я говорю Гит, намекая на этот случай, что, мол, не слишком это красиво, стягивать перед дамой ботинок, а потом еще и носок и орудовать со своим пальцем. А она посмотрела на меня этак снисходительно и говорит:
– Много ты понимаешь, он же художник.
Словом, когда к нам приходит господин Зигль, я готов ко всему и ничему не удивляюсь. Но вчера он более или менее держался в рамках приличий.
Зато вновь отличился господин Кнолль. Господин Кнолль вдовец примерно лет пятидесяти пяти и почему-то считает, что разница в возрасте дает ему право обходиться с моей женой «по-отечески», то есть попросту фамильярно. До недавних пор он работал управляющим в поместье, но из-за какой-то болезни раньше срока вышел на пенсию. Жена называет его «Ноликом», и то, что он ей это позволяет, достаточно красноречиво характеризует этого субъекта, тем более что прозвище вполне соответствует его внешности. Кнолль помешан на биологии, особенно на проблемах племенного осеменения или как там это называется, когда бык покрывает корову. Об этом он готов рассказывать часами, с предельной обстоятельностью и в буквальном смысле с пеной у рта, хотя – у меня такое впечатление – рассказы его никому не интересны. Дело в том, что в нашем кругу никто специально сельским хозяйством не занимается, а жене все, что связано с сельским хозяйством, просто противно, она этого на дух не переносит (за исключением самого Нолика, конечно, но он уже на пенсии).
У моей жены, наоборот, скорее возвышенный склад ума. Культура для нее – это все. Тут я не могу с ней тягаться. В театр, правда, люблю сходить иной раз. Я бы даже сказал, что это большое удовольствие, особенно для человека моей профессии – посидеть вечерок молча после того, как целый день уговаривал клиентов, и послушать, как другие кого-то уговаривают, и оценить, убедительно это у них получается или не очень. Но вот до книг, честно скажу, руки не доходят, хотя у нас дома самые благоприятные условия для приобщения к литературе: жена состоит в правлении клуба любителей книги и, как член правления, конечно, имеет возможность доставать книги по сниженной цене, а некоторые и вообще даром. Я думаю, она потому и читает так много; она, знаете ли, очень бережлива и, наверно, считает расточительством достать книгу и не прочесть. А вот в театр, напротив, ходит редко; говорит, пока, мол, переоденешься, да съездишь, да обратно вернешься – уйма времени уходит и, главное, зря, потому что все и так напечатано, можно прочесть дома, лежа в постели, это куда разумней. Да, бережлива она, как никто другой, но вовсе не скаредна. И вообще у нее много хороших качеств, так что я благодарен судьбе, что именно ее встретил, известно ведь, как иной раз можно промахнуться с женой. Нет, мне и впрямь грех жаловаться, то есть я хочу сказать: грех жаловаться на жену или, точнее говоря, непосредственно на жену. Я только на друзей ее жалуюсь.
И тут прошу понять меня правильно. В наши дни слова «друг» или тем более «подруга» употребляют порой весьма двусмысленно. Говоря о друзьях моей жены, я не имею в виду ничего эротического, а тем паче сексуального, нет, речь идет действительно о дружбе, в чем нетрудно убедиться хотя бы на том основании, что жена с ними со всеми на «вы», кроме, правда, Вилли Костранека, но тут я сам предложил им выпить на брудершафт. Дело в том, что Вилли Костранек мой школьный друг и в известном смысле коллега, у нас с ним одна профессия. Ах да, я еще не сказал, или нет, уже говорил, – я по профессии торговый представитель, но работаю здесь, в городе, тогда как мой школьный друг Вилли три недели в месяц проводит в автомобиле, продает маргарин и все такое. Правда, дело у него верное, стопроцентное, ему никого не надо убеждать и уговаривать, поставил галочку – и все. Зато мне не приходится по три недели в месяц мотаться на автомобиле. А что такое деревенские гостиницы, каждый знает. Там что ни день, то либо в тарок играют, либо, еще того чище, свадьба с духовым оркестром, о том, чтобы заснуть раньше двух, не может быть и речи, зимой там по вечерам духота несусветная, а утром, когда надо вставать и мыться, собачий холод, и еда отвратительная, один жир, они там, в деревне, и пекут, и жарят на свином сале, да и вообще не желаю я скитаться, как цыган, по три недели в месяц бог знает где. Я так думаю, брак Вилли только потому и распался, что его по три недели в месяц дома не было.
У нас в фирме, слава богу, все иначе. Я представляю в нашем городе солидную английскую фирму, на двери моей квартиры под табличкой с моей фамилией серебряная табличка с названием фирмы, словно именно здесь, в моей трехкомнатной квартире, сама фирма и помещается. Не то чтобы под моей фамилией значилось, допустим: «Торговый представитель фирмы…» и так далее, нет, просто: моя фамилия, а под ней название фирмы. И езжу я только по городу; раньше в основном по частным портным, но теперь потихоньку стал проникать и на фабрики, а это уже солидные сделки.
Впрочем, мы отклонились от темы. Я вообще замечаю, что с повествовательным искусством у меня не больно хорошо, и это при том, что главное мое занятие – целыми днями расхваливать свой товар. Я ведь только что хотел сказать? Что лично я больше расположен к театру, но жена обожает книги. «Книга – вместилище культуры» – так гласит лозунг на витрине их клуба. Однажды, когда я за ней заехал – она в правлении работает с десяти до семи, утром я ее отвожу, вечером привожу, машина у нас есть, так что это не проблема – так вот, однажды я за ней приехал, прочел этот лозунг, подумал, что это она сочинила, и советую:
– Слушай, по-моему, надо написать «святилище культуры».
Она посмотрела на меня чуть не с жалостью и говорит:
– Отличный лозунг. Его Петер Зигль придумал, а уж он знает, что к чему, он даже рекламу для разных фирм сочинял.
Но, пардон, я опять отвлекся. Я ведь хотел о господине Кнолле рассказать. Господин Кнолль вчера опять был в ударе. Уж не помню, как повернулся разговор, только он, как всегда, с предельной обстоятельностью и в буквальном смысле с пеной у рта (то есть брызжа слюной) неожиданно изрек следующее:
– На месте женщины я бы, идя мыться, был крайне осторожен. Кто знает, может, до нее в этой ванне мылся мужчина и, вполне возможно, не потрудился после себя как следует вымыть. И тогда – хотя, сколько я знаю, такого случая еще не было, но его вполне можно представить – на стенках и на дне ванной могут остаться сперматозоиды, которые могут оплодотворить женщину во время купанья.
Все это было крайне неаппетитно, и я цитирую его слова только затем, чтобы показать, какого поля он ягода, этот господин Кнолль.
Другой друг моей жены – господин Гаттербауэр, молодой архитектор, который время от времени публикует статьи в газетах. Из этих статей он составил книгу под названием «Хорошая квартира – залог счастья». Книгу издали на средства все того же клуба, и по этому случаю в клубе было небольшое торжество, там-то жена с ним и познакомилась. Возможно, господин Гаттербауэр большой талант, я не берусь об этом судить. Но послушаешь, как он говорит – диву даешься и невольно спрашиваешь себя: как же это ему удалось написать упомянутую книгу? Кстати, он хотел, чтобы у книги было совсем другое название – что-то о функции и структуре, и много еще всяких таких слов, – так вот, он до сих пор в ярости из-за того, что клуб изменил название книги. Возможно, раньше он умел изъясняться доходчивей и только после истории с названием от ярости несколько повредился в рассудке, не знаю. Во всяком случае, сейчас он говорит примерно так:
– Тенденция к убежищу. По крайней мере функционально. К примеру, брак. Или даже космос. Все время в системе координат несомого и несущего. Как весь наш разговор. Архитектура совсем наоборот. Изоляция бессмысленна.
Вот так – а иной раз и похлеще – он разговаривает, я просто не в состоянии всего запомнить. И притом через каждые два-три слова громко шмыгает носом. (Попробовал бы я хоть разок этаким манером объясниться с клиентами!) Для него все архитектура, о чем бы ни шел разговор – об автомобилях, о спорте, – он только дернет носом и скажет:
– Лучшее доказательство. Имманентная конгруэнция во всем. Чистейшая архитектура.
Словом, большего зануды свет не видал. Иной раз, разговаривая с ним, я от всей души желаю (про себя, конечно): «Господи, пусть уж лучше время от времени снимает ботинок и носок и перочинным ножом ковыряется в большом пальце!» Но где там: этот только говорит. И только об архитектуре. Да еще выбирает самые заумные слова, в отличие от господина Зигля, который никогда не рассуждает о литературе, а беспрерывно рассказывает о каких-то закулисных махинациях в окололитературном мире, употребляя выражения, которые я не решусь здесь воспроизвести (хотя, поверьте, я вовсе не ханжа). Господину Зиглю всегда доподлинно известно, кто кому хочет подложить свинью и кто кого проталкивает, кто против кого интригует и кто кому и куда именно готов залезть. Стоит пойти в театрах новой пьесе, стоит кому-то похвалить чью-либо книгу или, не дай бог, какому-нибудь автору получить премию, господин Зигль тут же кричит о коррупции, а иной раз даже о терроре. Послушаешь господина Зигля – и бога благодаришь, что стал не литератором, а торговым представителем, хотя это тоже нелегкий хлеб; для меня, во всяком случае. Вилли Костранеку, тому легче с его маргарином. И тем не менее он беспрерывно вздыхает и жалуется – если, конечно, не рассказывает о своих геройствах на войне.
Вилли ростом не вышел. Я тоже, можно сказать, невысокий, но это не так бросается в глаза, потому что жена гораздо ниже меня. Мы с Вилли были самые маленькие в классе, но Вилли к тому же и некрасивый: у него слишком большая голова, хрупкое туловище и почти нет шеи. Он в классе был вторым учеником, честолюбив был до безумия; он и в армии до фенриха дошел, и, вполне возможно, все это правда, что он говорит о своих военных отличиях. А говорит он об этом с тех пор, как от него ушла жена. Наставила ему рога с сынком трактирщика, примерно год назад. Незадолго до этого я его встретил, к себе затащил, выпили ликеру, приятный был вечер, и вдруг, только жена его бросила, он приходит и давай рассказывать о своих геройствах. И так гладко рассказывает, словно отличник на уроке. И я сразу вижу его, каким он был двадцать лет назад. И когда он так гладко говорит, становится особенно заметно, какой он урод. Я уже почти не верю, что этот человек был моим другом.
Но как бы там ни было, теперь он – друг моей жены. И господин Торби тоже друг моей жены, он, как и господин Кнолль, держится скорее по-отечески. И господин Юккель тоже друг моей жены, самый молодой на сегодняшний день. Господин Юккель студент, изучает философию, но, видимо, стыдится своих сугубо теоретических занятий и потому то и дело рвется доказать свои практические навыки. Благодаря этому рвению за последние полгода напрочь разрушены или повреждены: в ванной комнате кафель, водообмыв ветрового стекла в автомобиле, пылесос, навесной замок в подвале, икона, которую я в свое время привез из России, а не далее как вчера – штопор. Из друзей жены этот обходится мне дороже всех, даже дороже господина Торби, который жрет и хлещет, иначе не скажешь, как прорва. При этом сам он тощ, как сушеная селедка, так и кажется, что кости гремят, но это всего лишь вставная челюсть, которой он начинает поигрывать, когда его тарелка пуста. Он, похоже, вообще пользуется ртом только для еды и питья, а также, как я уже сказал, для поигрывания челюстью, но не для разговора. С идиотской улыбкой он слушает всякого собеседника, а когда тот замолчит, господин Торби кивает со счастливым, просветленным лицом. (Удовольствие от этого получает прежде всего господин Гаттербауэр, полагая, что хотя бы один человек его, несомненно, понял.) Когда я однажды в разговоре с женой осмелился поставить под сомнение вменяемость господина Торби, жена знаете что мне ответила?








