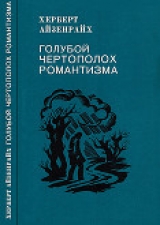
Текст книги "Голубой чертополох романтизма"
Автор книги: Герберт Айзенрайх
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Апрель в мае, или непостоянство юности
Когда хлынул дождь, стремительный и хлесткий, как удары бича, они были самое большее шагах в пятистах от выхода из парка и успели спрятаться в оранжерее. В этот вечер они были свободны и поехали гулять, хотя не только прогноз, который он слышал, торопливо хлебая суп, а она – небрежно ковыряя клецки, но и сама погода – стоило лишь взглянуть в окно – должны были предостеречь их: свинцово-сизый день, небо над головой затянуто стеклянистой белесой дымкой, у близкого горизонта клубится готовая вот-вот рухнуть облачная стена – все вокруг дышало одной-единственной, почти неприкрытой уже, с каждой минутой нарастающей угрозой; кажется, еще миг – и она разорвет свои путы и выплеснется чудовищной реальностью; и все-таки сразу после обеда они поехали гулять, как и уговорились в прошлое воскресенье, когда – в который уже раз – встретились (кстати, отнюдь не случайно, не то что в первый и, как ни странно, во второй раз), стало быть, уговорились они об этом в кафе, жуя пирожные. («Только попробуйте не прийти!» – «А почему бы это я не пришла?!» – «Ну, тогда ладно…») Встретились они на остановке, он заплатил за нее в трамвае и купил входные билеты в зверинец, где толпы – и не только приезжих – даже в будни сплошным потоком текли от одной клетки к другой. Люди теснились около обезьян, змей, всевозможных хищных кошек; ближе к склону, где у вольеров было свободнее, посетители замедляли шаг и в конце концов просто брели без цели, прогуливаясь как в собственном саду.
– Интересно, почему все так любят ходить в зверинец? – спросил он скорее себя, чем свою спутницу; но та живо отозвалась:
– Потому что звери ужасно милые! Вы только посмотрите! Ну посмотрите же!
Стиснутые со всех сторон другими людьми, они были возле просторной клетки со львами; там в глубине, на возвышении, перед насквозь ржавой запертой дверцей, ведущей в ночные и зимние помещения, в куцем клочке тени, которую отбрасывала задняя стена, лежали четыре львенка, размером они были куда меньше взрослых овчарок, но уже явно опасны, опасны своей необузданной дикостью; тут же, рядом, лежали два старых льва, и гладкая упитанная львица как раз в эту минуту встала. «Потому что звери ужасно милые», – подумал он и, глядя на львов, вспомнил о змее, в чьем стеклянном домике с двойными стенками суетливо шныряла белая мышка, ничего не подозревающая, но уже опутанная мерзкой неизбежностью: сытое спокойствие рептилии подарило ей отсрочку, но так или иначе она всего лишь корм, корм для змеи; змея же уютно разлеглась – одной половиной на каменном полу террариума, другой – в металлическом бассейне, врезанном в пол (змеиное тело вытеснило воду, и та стояла теперь почти вровень с краями) – и до поры до времени замерла без движения, словно и факт раздачи корма, и непосредственный, хотя и пассивный объект этой раздачи покуда прошли мимо ее сознания, – она больше походила на творение мертвой природы, чем на живое существо. Львица подошла ко льву, который дремал на солнце, и грациозно опустилась рядом, нарочно задев его мордой и разбудив; а он, стряхивая сон, одним летучим движением обманчиво невесомого тела пружинисто поднялся, наклонил голову к львице, которая меж тем окончательно улеглась, и лизнул ее в нос.
– Смотрите же!
Он смотрел и по-прежнему был во власти той неодолимой, словно идущей из-под земли силы, что остановила его у змеиного домика и велела ему, чья душа, как сердечник сломанной куклы-неваляшки, не удержалась в опустошенной груди и соскользнула куда-то вниз, – велела ему ждать; и он бы ждал, да вот спутница вмешалась: она тряхнула головой, отгоняя гадливое чувство, точно хотела сбросить запутавшееся в кудрях насекомое, и потащила его дальше, к клетке со львами, – ждал бы неизбежного и даже вполне четко представимого: как змея поднимется на хвосте, раз-другой резко изогнет верхнюю часть тела и нанесет смертельный укус, как белая мышка оцепенеет на миг в смертельном ужасе… Или все-таки ждал бы другого: краткой, разбивающейся о стеклянную стену, но попытки к бегству, последней и какой же бессмысленной отсрочки давно уже начавшегося конца; иными словами, ждал бы минуты, когда – если его не стошнит – сознание сочтет за благо предложить идею некоей возможности, точнее, той минуты, когда осуществление некоей возможности (а именно возможности каким-либо, пусть необъяснимым, совершенно чудесным образом все-таки избежать неизбежного), по всеобщему мнению, окончательно и бесповоротно пойдет прахом. Лев теперь увивался около львицы, причем движения его лап порознь как бы и не существовали, а воспринимались только лишь в совокупности, в своем итоге, как походка; он наклонял гривастую голову и нежно ласкал тело, которое, вне всякого сомнения, недавно – и день и час еще не забыты – произвело в этом тюремном мирке на свет, омраченный тенью решетки, тот самый выводок, что расположился сейчас в глубине, у стены. От соседнего обезьянника доносился галдеж восхищенной публики вперемежку с воплями предметов ее восхищения – здесь же все застыли в молчании, боясь вздохнуть, а та, кому предназначалась ласка, потягивалась, и блаженство незатухающей волной струилось по ее телу.
– Смотри! – услыхал он прямо над ухом самозабвенный шепот; звук собственного голоса привел ее в чувство, она быстро закрыла рот, прикусив в спешке кончик языка, и теперь дергала его за рукав, стараясь увести. В неослабевающей давке и толчее он не замечал ее усилий и думал о том, что сам по себе запах должен был бы поведать белой мышке правду о ее положении; и его удивляло возбужденно-простодушное любопытство, с каким она – ну точь-в-точь отбившийся от группы турист! – то петляя по стеклянному домику, то замирая в неподвижности, исследовала свою новую обитель, куда ее выпустили в час кормежки, – исследовала, вымеряла, прощупывала, запечатлевая в своем сознании; «но ведь она знает, – думал он, – а если даже не знает, то чует». Лев между тем опять повернул голову и начал подбираться с нежностями к тайная тайных лона своей подруги и – так они позже слышали от людей, обсуждавших по дороге этот случай, – тем самым «нанес ей обиду», ну а львица резко обернулась, метнула на него яростный взгляд и рыкнула, коротко, но, судя по реакции «обидчика», вполне однозначно: старый лев тотчас оставил ее в покое, размеренным шагом удалился на свое место и опустился на пол, нет, даже не опустился, а шлепнулся – шлепок был виден, но, как ни странно, не слышен – и сразу же, вытянув заднюю лапу, зажмурил глаза. Львица приняла прежнюю спокойную позу, детеныши искоса лениво жмурились на солнце – теплые блики наполняли клетку, словно прозрачное желе, которое густой тягучей массой обволакивало все живое, усыпляя жажду деятельности. Люди начали расходиться, вернее, потянулись в разные стороны, куда глаза глядят, лишь бы поскорей выбраться отсюда. И они тоже пошли к выходу. Она молчала. А он думал, что белая мышка, конечно же, все прекрасно знала и, осваивая новый для себя мир, шныряла взад-вперед с таким неимоверным бесстрашием только затем, чтобы змея привыкла к ее присутствию и забыла, почему она здесь, – иначе говоря, лукавила и норовила занять морально более удобное, а может быть, даже морально неуязвимое положение. «Да, так и есть: благодаря абсолютной противоестественности поведения она поднимается над безнадежностью обстоятельств, ощущая и изображая их как норму». Вот о чем он размышлял (хотя в других словах и в других, туманных образах). Не подозревая, однако, что всему этому есть объяснение: просто-напросто душа вступается за слабого, начинает болеть за его интересы, как за свои собственные, а стало быть, самые важные.
Итак, они шагали прочь от львиной клетки. Мимоходом кое-что посмотрели. И даже увлеклись – там были линяющие выдры; дромадеры, как бы покрытые шерстяными попонами, в которых вполне могла бы водиться моль; попугаи, уцепившиеся за верхние прутья решетки и время от времени оглашавшие воздух резкими гортанными криками, которые прямо отскакивали от птичьих клювов, словно мячики от стенки, – увлеклись и не заметили, что за облачным валом на горизонте, точно вскипая, сгустились другие тучи; вначале белые, они мало-помалу налились зловещим мраком и наконец, сокрушив своей мощью облачный вал, с шумом погнали его перед собою, низко над землей, во мгле и грохоте, будто небесный свод дробился на куски. Обломки туч бились друг о друга и дождем сыпались наземь. Снаружи все ревело и громыхало, а в оранжерею, которая гостеприимно распахнула перед ними двери, когда первые тяжелые, насыщенные пылью потоки ливня промчались по аллеям, проникали лишь негромкий треск и легкий барабанный перестук. Стекло со всех сторон, стекло над головой: там – природа дикая и необузданная, здесь – укрощенная и послушная; но даже тут, в укрытии, они не могли отделаться от ощущения, что происходящее вовне им еще предстоит пережить, только будет это куда страшнее. Оранжерейный мирок был прочно отгорожен от безумства стихий; то, что снаружи вспыхивало слепящим огнем, здесь, внутри, безмятежно дремало в образе орхидей, расцветших кое-где среди тускло-зеленой однотонности. И чем дольше они тут находились, тем труднее было дышать; легкие забиты испарениями, а извне давит воздух, упругий и плотный, как листья диковинных растений, которые доверху наполняли оранжерею и, запертые среди себе подобных, не догадывались, что попали в чужие края. Этот воздух – как бесконечно тягучая резина в заросшей глотке: его можно откусывать, но не глотать, только откусывать и пережевывать, снова и снова. Открывая и закрывая рот, они словно впивались зубами в мясистые, влажные листья. Жизнь, о которую того гляди сломаешь зубы, притом даже орехи грызть не понадобится! Вот почему они не обратили внимания, что ливень поутих, и только позже – небо еще было затянуто тучами, но местами уже голубели просветы – заметили, что остались вдвоем, потому что люди, нашедшие, подобно им, приют в оранжерее, давно разбрелись. Осторожно ступая по грязи, они тоже вышли на улицу. Полной грудью пили совсем не плотный, даже какой-то текучий воздух, в который вдруг окунулись; вкусом он напоминал тепловатую, застоявшуюся воду. А немного погодя они уже были в соседней роще. С веток еще капало. Звонкие мутные ручьи, как бы сбрызнутые бурой пеной, бежали под уклон, водяные струйки изредка пересекали асфальт, кое-где покрытый грязью. Они свернули на одну из боковых тропинок, змеившихся меж деревьев, и под ногами тотчас заскрипел песок; глянув вниз, они обнаружили, что песок сплошь изрыт следами дождинок – малюсенькими кратерами, а поверх них блестят затейливые дорожки улиток; набухшие сыростью, отяжелевшие ветки свешивались низко, почти до земли.
Со всех сторон доносился глухой шум, лепет и чмоканье сотен и сотен ртов, булькающие вздохи, шелест и свистящие шорохи, клокотанье, стоны, скрипы – роща оживала после непогоды. Оба ждали от окружающего мира какой-нибудь подсказки, какого-нибудь знака, но тщетно, хотя повсюду ключом кипела жизнь. Ему только казалось, будто шум рождается у него внутри, где комом застряло предчувствие, что теперь это неминуемо произойдет (но что «это»? Что же? Что?), и, стараясь заглушить этот внутренний шум – так в компании с грохотом передвигают стул, чтобы заглушить внезапное бурчанье в животе, – он проговорил, разом спихивая в сторону гигантскую гору отвращения:
– Вон там… вон там я живу! – И неопределенно взмахнул рукой, показывая где.
– Что ж, вы хорошо устроились, – сказала она.
Оба ускорили шаги, словно их подгонял собственный учащенный пульс. На низком небе, которое по-прежнему выглядело так, будто на него выплеснули ведро грязной воды, в просвете облаков блеснуло солнце, и лесная тропинка вмиг покрылась решетчатым узором из света и тени.
– Что ж, вы и правда хорошо устроились, – повторила она.
А его занимала одна-единственная мысль: где взять ключ, отворяющий вход в неминучее, – и поэтому он только сейчас сообразил, что за слова были произнесены – эти слова могли стать ключом; и он судорожно уцепился за них, как неопытный взломщик за отмычку.
– Ага, правда, хорошо, – в свою очередь повторил он, ощупью выверяя пригодность отмычки, и вот уже повернул ее в замке: – Как было бы здорово, если бы вы сейчас пошли со мной!
– Но я ведь и так иду, разве нет? – громко рассмеялась она. Отмычка не сработала. – Уже почти целый час я шлепаю с вами по этой сырости!
– Да нет же… я не о том! – «Господи, – думал он, – она делает вид, будто все это в порядке вещей!» И принялся взахлеб рассказывать про свою комнату: —…живу там совсем один, утром и вечером готовлю себе еду, и вообще могу делать что вздумается, а посмотришь ночью из окна на город – прямо, знаете ли, сказка!
А она думала: «Господи боже мой, почему он ничего не говорит, ну почему он ничего не говорит?!» – и лишь временами смеялась, смеялась коротко и гортанно, под конец уже как бы механически, а он, в стремлении облегчить для нее все и вся, продолжал без умолку тараторить. «Отворить перед ней все двери туда, – думал он, – и оставить открытыми все пути отступления», а еще он думал, что нельзя же просто взять и увести ее в мокрые придорожные заросли. Теперь только услыхал он ее смех, который прозвучал в его ушах, точно короткий, надрывный крик, и подумал: «До чего же ей, наверно, страшно, раз она ведет себя так. До чего же ей страшно!» И он сказал:
– Видно, пора идти. Я провожу вас до дому, так будет лучше.
«Никто ведь не мешает ей возразить», – подумалось ему. Она подняла голову и посмотрела куда-то вверх, мимо него. Мучительная боль разрывала ей грудь, обнажая беззащитное сердце, а когда боль отпустила – совсем ненадолго, за это время едва успеешь сделать шаг, едва успеешь глотнуть воздуху, воздуху (как ей казалось) на всю жизнь, – она подумала: «Ну и пусть тащит меня хоть в мокрые заросли – мне все равно!» А вслух сказала – с таким чувством, будто сама раздирала себе ногтями сердце, – вслух она сказала:
– Да, пожалуй, действительно пора. – И беззвучно прошептала: «Ну вот сейчас он мне возразит, он должен возразить!» А он подумал только, что она, как видно, дрожит от страха, и повернул обратно. И решительно зашагал к городской окраине. Из-за деревьев с обеих сторон все ближе надвигалась темнота, вырастала справа и слева неприступной стеной. Вот впереди блеснул первый огонек. И когда она на секунду остановила взгляд на этом еще далеком вестнике домашнего уюта и безопасности, в ней вдруг ярко вспыхнули до той норы смутные, как бы упрятанные на дне ее существа, не оживавшие даже в бреду воспоминания: гниющий женский труп среди пшеничного поля – голова отрезана чуть ли не напрочь; тело задушенной в подъезде, привалившееся полусидя к дверному косяку; и утопленница с пробитым черепом, которую река вынесла на берег, и множество звуков… хруст суставов, когда пальцы мозолистой мужской руки стискивают горло, и свистящее дыхание, когда нож по самую рукоятку вонзается в грудь, и крики, сдавленные, обрывающиеся глухим стуком, крики здесь и там, повсюду, кругом, и снова и снова черные от засохшей крови, скомканные обрывки белья под деревьями, в придорожной канаве, на сеновале, и множество воспоминаний о крови, крови, бьющей из яремной вены, воспоминаний, которыми, как ей почему-то казалось, она обязана газетам, но эти воспоминания были неизмеримо древнее газет, они струились из ее собственной крови и пронизывали все ее существо, так что ей страстно хотелось убежать прочь, прочь отсюда, в город, где ночь напролет горят дуговые фонари и толпами ходят полицейские, прочь отсюда, скорее! Между тем они уже добрались до жилого района и шагали теперь среди вилл да редких многоквартирных домов, глядя, как их тени то исчезают, то вырастают вновь под газовыми фонарями, которые тут еще кое-где сохранились; залаяли собаки, машина затормозила у бензоколонки, сады вскоре отступили от дороги, и дома длинным фронтом сомкнулись по обе стороны улицы. В трамвае опять платил он; вот наконец и ее дом, они еще немного постояли у подъезда, поговорили о том, как интересно прошел день, «жаль только, погода», «да, действительно, жаль», «но львы, львы…», «там, возле змей…» и «мы должны опять встретиться» и так далее в том же духе, запинаясь и медля в нерешительности, уподобляясь погоде этого дня, которая как была, так и осталась неустойчивой, даже после грозы. Она прислонилась к косяку, а он спокойно стоял перед нею; она зевнула, но заметила это, только уже открыв рот, и поднесла к лицу руку с растопыренными тонкими пальцами; этот жест привлек его внимание, и, когда сквозь решетку пальцев он заглянул ей в рот, в разверстую пасть сонного хищника, ему стало не по себе, а в следующую секунду он возликовал, что сумел благополучно избежать этой пасти, и на радостях быстренько распрощался и поспешил домой. «Легковерный простак, – ругал он себя, – разве можно быть таким доверчивым!» Но, право же, у него не было причин судить так сурово. Конечно, душа вступается за слабого, болеет за его интересы, как за свои собственные, а стало быть, самые важные, но трагедия души в том-то и состоит, что она обязана вовремя спрыгнуть с опускающейся чаши весов, ибо – ради себя самой, ради своего бытия – она не может осуществить то, что лишь благодаря ей и началось. Однако он еще не знал этого, хотя все время об этом думал.
Очутившись в своей комнате, она быстрыми, яростными движениями сорвала с себя одежду, легла в постель и уснула, блаженно предвкушая, что станет завтра рассказывать. «Представляете, чтó со мной могло случиться!» А рассказала наутро не больше того, что на ее месте могла бы рассказать любая другая, да, наверно, и правда когда-нибудь рассказывала.
У самой цели
Итак, это был последний вечер, вечер, за которым неизбежно последует ночь, а затем наконец наступит день, день его триумфа! Да, его время пришло, сомнений нет. Вот уже несколько дней доктор Стасни без всяких видимых оснований отсутствовал на работе, не появлялся он и в многочисленных бюро и филиалах фирмы, так что совсем не случайно специальное уведомление дирекции, полученное сегодня в конце дня, предписывало ему, «ув. г-ну Гансу Ляйзигеру, старшему инспектору А/О Объединенных сахарорафинадных фабрик», явиться на следующий день к половине девятого в малый конференц-зал: там ему сообщат нечто весьма важное.
Так-то, подумал Ляйзигер, не куда-нибудь, а именно в малый конференц-зал! Стены, обшитые панелями из натурального дерева, темный паркет вместо синтетического ковра, дубовый стол с восемью резными креслами вокруг, пузатая кафельная печь в углу, окна с кружевными занавесями ручной работы, на стене напротив две пары оленьих рогов, а между ними пейзаж с большой ишгльхофской фабрикой на переднем плане, облако сигарного дыма, почти неприметное в таком огромном пространстве и странным образом смешивающееся с остатками каких-то непонятных запахов, пробуждающих воспоминание о свежей земле на сапогах для верховой езды и о взмокшем от пота лошадином крупе. Однажды его уже приглашали сюда: когда он был назначен инспектором ишгльхофской фабрики, чуть позже он переступил заветный порог во второй раз, принимая пост старшего инспектора, тогда-то его и перевели в центральное правление фирмы. И вот его вновь приглашают в малый конференц-зал – и на этот раз он точно знает зачем! Уж скоро десять лет, как он пришел в фирму, и за все это время он ни разу не выпустил из виду свою дальнюю цель, у него даже глаза были всегда прищурены, словно он и в самом деле прицеливался; цель же эта была – стать прокуристом, управляющим, а если говорить со всей определенностью, которую теперь, накануне своего триумфа, он наконец-то мог себе позволить, – он мечтал занять место доктора Стасни. И вот этот час настал, лишь нынешний вечер да еще ночь отделяли его от строго предписанного завтрашнего срока, от срока, когда всем предстояло увидеть его триумф, не просто триумф над этим убогим, болезненно-хрупким, с фарфоровой бледностью лица доктором Стасни, но гораздо больше – триумф над всеми предшествующими невзгодами вообще, от сорок второго до только что прожитого пятьдесят второго года жизни, ведь с тех самых пор, как Ляйзигер поступил в фирму, он работал исключительно ради этого триумфального дня, и не только свои обязательные восемь часов ежедневно плюс сверхурочные в период уборки сахарной свеклы, о нет! Три раза по восемь часов каждые сутки лишь ради этого – так жил он все эти десять лет, ради этого он не только работал, ради этого он спал, ел, брился, отваживался на интрижки с женщинами (правда, всегда мимолетные), читал, наносил визиты и сам принимал гостей, курил, сморкался, глотал лекарства, дышал… словом, он жил только ради этого дня, ради одной этой цели, с холодной объективностью контролируя все свои действия, вплоть до рефлекторных, все свои сны; он так сжился с этим страстным ожиданием, что мало-помалу даже забыл о столь вожделенных прежде материальных преимуществах, таких, как, скажем, повышение жалованья, удвоенное почтение со стороны окружающих, новая власть над людьми (точь-в-точь как тот староста, один из поставщиков свеклы в Нойштадле: когда из-за крупной забастовки железнодорожников поезда стали ходить с перебоями и вагоны не загружались в необходимые сроки, он принялся добиваться незамедлительного буртования всей подвезенной крестьянами свеклы, что принесло бы ему, местному хозяину, небольшой дополнительный барыш, однако, чтобы обвести Ляйзигера и обделать это дельце – что ему в конечном итоге все равно не удалось, – крестьянин этот выложил на одни только телефонные переговоры с дирекцией фирмы сумму вдвое больше той, которую рассчитывал прикарманить, а потом вагоны все-таки пошли, они бесперебойно загружались днем и ночью, но этого Ляйзигер давно уже не помнил, как, впрочем, и того, насколько бесил его тогда этот староста, доводя буквально до белого каления). Он думал только о блестящей победе собственной дипломатии. С тех пор как он работал в фирме, все его дела и помыслы были направлены на одно – подточить, расшатать, подложить мину замедленного действия под доброе имя, положение и авторитет доктора Стасни, «предшественника», как он называл его в своих лихорадочно-пьянящих мечтах: и с каким тонким искусством он это проделывал, как обстоятельно и педантично копал он этому Стасни яму, бесшумно орудуя своим заступом, с каким внешним безразличием и скрытой внутренней дрожью, словно осужденный на пожизненное заключение узник, роющий голыми руками прямо под боком у своего чуткого стража подземный ход, сулящий свободу! Какие только запутанные, окольные пути, какие каналы человеческих симпатий и антипатий он не использовал, чтобы через сотрудников фирмы поставить дирекцию в известность о каждом упущении, о каждом проявлении небрежности, о каждом пусть даже микроскопическом отклонении от правил, о каждом действительном или только кажущемся прегрешении доктора Стасни; в этом деле он завел себе множество посредников, начиная с простого посыльного и кончая старшим бухгалтером, и все они были втянуты в распространение этих сплетен и слухов настолько искусно, настолько незаметно, что ни один из них и помыслить себя не мог его тайным орудием. С другой стороны, на разного рода заседаниях он непременно держал речь в защиту, в поддержку доктора Стасни, не отрицая, конечно, целого ряда допущенных оплошностей и даже нарушений, но в то же время стараясь несколько приуменьшить нанесенный фирме ущерб, находя в самом характере прокуриста, как, впрочем, и в тогдашнем объективном состоянии рынка, целый ряд оправдывающих обстоятельств; при этом, однако, он сознательно приводил столь уязвимые и легковесные аргументы, что они отнюдь не исключали последующих возражений и недоумений руководства фирмы.
И вот его время пришло, он у цели! Дрожащими пальцами отдирая сигарету, прилипшую к губе, он направился вглубь сумеречной комнаты от окна, стоя перед которым долго наблюдал ветреный, полыхавший яркими красками закат. Теперь, подумал он, и квартиру придется более просторную подыскивать; до сих пор он снимал комнату, жил как бы временно, вот уже много лет, но по-прежнему с таким настроем, будто тотчас же съедет, если вдруг что окажется не так. И наконец его время пришло! Только этот вечер да еще ночь отделяли его – после десяти столь целеустремленно прожитых лет – от момента триумфа! И вдруг он явственно ощутил тишь и пустоту этого вечера, вечера, в который он был так стремительно низвергнут с вершин своего напряжения и собранности, тишь и пустоту, которые уже начали коварно подбираться к завтрашнему дню с его великим событием, словно и в самом деле намеревались отнять у него этот триумф, не оставив взамен ничего, кроме тяжести всех этих лет, прожитых им единственно в расчете на день завтрашний; он вдруг явственно ощутил – и сразу же короткий отрезок времени до завтрашнего утра показался ему уходящим в бесконечность, – как тяжело легли ему на плечи все эти годы, как сжали они ему грудь и, словно годичные кольца страха, плотно опоясали сердце, он вдруг почувствовал, как какая-то сила сдавливает, сплющивает, перемалывает все живое у него внутри, как она неумолимо вытесняет это живое прочь, пока внешне еще здоровое тело сохраняет вертикальное положение, но уже с неведомым ранее ощущением пустоты внутри: словно на том месте, где только что стоял он сам, осталась лишь его пустая оболочка, она подчинялась, правда, еще какое-то мгновение старой привычке, но уже через миг начала стремительно съеживаться, обернувшись вскоре жалкой охапкой старья, которую можно было сравнить разве что с одеждой утопленника, оставшейся лежать на берегу, в то время как хозяин ее уплыл далеко-далеко в открытое море – настолько далеко, что возвращение уже невозможно. Так экономка и нашла его на следующее утро – маленькая кучка чего-то, похожая на забытую на берегу одежду утопленника. Произошло это примерно в то же время, когда собравшиеся в малом конференц-зале господа – отставной министр, почетный доктор каких-то там наук, маленький, высохший, постоянно дымящий сигарой человек, член союза землевладельцев, а ныне генеральный директор фирмы; ее коммерческий директор с осанкой футболиста и лицом, напоминающим стенные часы, решительный противник курения; технический директор с его широким задом, сформировавшимся за долгие годы сидения в кресле, тоже отдающий предпочтение сигарам, – прождали ровно десять минут, после чего коммерческий директор произнес:
– Похоже, он почувствовал, что пахнет жареным!
Технический директор передвинул сигару в другой угол рта – он терпеть не мог коммерческого директора, тот вечно вынюхивал что-то у него на фабрике – и при этом подумал, что Ляйзигер был полным кретином, если полагал, будто он единственный в мире, кто рассчитывал добиться повышения таким вот способом; ему следовало бы знать, что метод этот стар, как мир, и ничто никогда не вызывает столько подозрения, как назойливая демонстрация собственной объективности и чувства коллективизма. Но, поскольку подходящее слово ему в голову не пришло, мысли его неожиданно переключились на другое, словно они, как и его станки, могли изменять скорость и направление вращения.
– А что, на этого Стасни, – министр в отставке подал голос из-за облака сигарного дыма, – на этого Стасни действительно можно положиться?
Оба директора согласно кивнули.
– Упрям до невозможности, – произнес коммерческий директор, – и всегда у него наготове какая-нибудь дурацкая теория, изобретенная последней бессонной ночью. Но если ему – дружески, разумеется, – приставить нож к горлу, он будет работать за двоих!
Отставной министр кивнул головой в своем облаке, пробормотал что-то насчет повышения жалованья Стасни, а технический директор подумал, что из-за отсутствия этого Ляйзигера все само собой устроилось наилучшим образом. После этого они перешли к обсуждению других вопросов, вынесенных на повестку дня.








