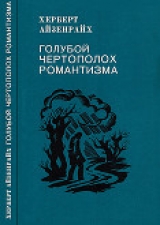
Текст книги "Голубой чертополох романтизма"
Автор книги: Герберт Айзенрайх
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Как раз к этому времени я всерьез собрался напомнить старику о своем деле – ведь до сих пор оно не продвинулось ни на шаг. Но при сложившихся обстоятельствах я бы не решился предъявить ему какие-либо требования. Все в этом доме были исполнены к нему прямо-таки безграничного почтения (особенно в его присутствии); он даже имел право не затворять за собой двери, не опасаясь немедленного окрика супруги: «Сквозит!» Такое же почтение питал к нему и я. Быть может, ему это нравилось; так или иначе, но именно в ту пору он как-то раз без всякого внешнего повода, когда мы были с ним наедине, завел со мной разговор.
– Всю свою жизнь я гнул спину, чтобы им было хорошо. Все бремя я взвалил на себя, ради них даже сел на скамью подсудимых; я отказываю себе во всем – не пью и не курю – только ради них. Однако, – тут его до сих пор плаксивый тон зазвучал угрожающе, – однако быть отцом значит сознавать свои обязанности. Обязанности!
Я вздрогнул, словно от удара по лицу, а он продолжал:
– Я всегда выручал своих девочек – что бы они ни натворили. Им, бедняжкам, нелегко. Из них мог бы выйти толк – но при такой мамаше? Она каждый раз все портит, каждый раз! «Закройте дверь, сквозит!» Да-с. Меня-то жалеть уж нечего, я все беру на себя, лишь бы девочкам было полегче. – Тут он поднялся, встал среди своей обшарпанной мебели, воздел руки к потолку и, неподвижно глядя вверх, торжественно возгласил: – Но они рождены для лучшей доли! И я продержусь до тех пор, пока девочки чего-то добьются!
И он снова рухнул на скрипучий диванчик, глаза его сомкнулись, и он захрапел, пуская изо рта слюну пузырьками.
Когда прошел месяц, назначенный Лисеей, и сомневаться больше было нельзя, мы еще раз поговорили, и я твердым голосом заявил (под ложечкой у меня еще пуще заныло от страха):
– Я женюсь на тебе.
Но у нее было совсем другое предложение, и вот через несколько дней мы с ней отправились туда с утра пораньше, потому что утром Мерседес сидела в конторе – она была занята полдня. Лисея сказала:
– Просто счастье, что я попала к этому человеку, меня к нему устроила одна приятельница. Но только он делает это не в клинике, а на квартире – не у себя дома, а у медсестры, которая ему ассистирует. Тут необходима предельная осторожность, – сказала она и, пристально глядя мне в глаза, добавила: – Умоляю тебя, держи язык за зубами. Дома – ни звука, не то старик меня убьет. Сестрам тоже не говори, они обязательно протреплются.
Пришлось дать ей честное слово, и мне вдруг показалось, что я все еще маленький мальчик.
Квартира, куда мы пришли, занимала второй этаж загородной виллы в районе Фрейберга. Ни на калитке, ни на двери дома не было таблички с фамилией, обитатели дома не представились нам, только я с перепугу назвал свою фамилию, но здесь это никого не интересовало. Богатая обстановка поразила меня уже в передней, увешанной картинами; в следующей за ней большой комнате стояли тяжелые шкафы, массивный буфет, а вокруг курительного столика – кресла для господ весом пудов эдак восемь. Со всем этим никак не вязалась раскладная кровать, накрытая ослепительно белой простыней, а поверх простыни еще желтоватой клеенкой или пластиком; возле этого импровизированного операционного стола на ковре стоял белый таз, еще там была открытая сумка – вроде тех, какие носят сельские врачи: с бинтами, ватой, шприцами, ампулами и гинекологическим инструментом. Пока я сидел и ждал в передней, я чувствовал какое-то щекотание под коленками, словно что-то легкое и совершенно бесплотное ползет вверх по ногам – надо сказать, премерзкое ощущение, точь-в-точь такое было у меня однажды на фронте, когда я вдруг получил от нее письмо, где она сообщала мне, что легла в больницу, что она решилась (когда мне вручили это письмо, моему сыну было, как потом выяснилось, уже две недели). И вот с этим ощущением я сидел в передней и ждал – я ведь думал, что врач сделает это сейчас же. Но минут через пять Лисея вышла, плотно прикрыла за собой дверь, посмотрела на меня большими печальными глазами и сказала:
– Да.
А после небольшой паузы добавила таким тоном, будто намеревалась дать понять, что охотнее всего оставила бы ребенка:
– Это будет стоит две тысячи шиллингов. И еще пятьсот шиллингов сестре.
Я ничего не сказал, только кивнул.
Тогда она снова зашла в комнату, а на обратном пути я взял в банке деньги и отдал ей. На следующее утро я опять отвез ее на эту виллу и в полдень приехал за ней. От нее пахло хлороформом, и меня чуть было не вырвало; сидя в такси, я удивлялся, что шофер ничего не говорит и не спрашивает. Она два дня пролежала в постели; больше мы об этом никогда не говорили, и в дальнейшем я спал по-прежнему только с Мерседес. Так прошел целый год. Вместо пестрых тряпок на окнах висели теперь настоящие занавеси, в кухне стояла новая газовая плита, и Мерседес каждые две-три недели покупала себе то новое платье, то новое пальто, то новые туфли, потому что ношеные вещи она дарила сестрам. Все комнаты были заново окрашены, зато мой банковский счет иссяк, и я занял немного денег у тети Иды. Я рассказал ей, что живу в Линце и собираю материал для дипломной работы об Адальберте Штифтере – он ведь жил в Линце (на самом деле я закончил только третий курс). С кислой миной она дала мне денег и потом давала еще много раз, сколько бы я ни просил: дело в том, что в отчаянном приступе откровенности, мне самому непонятной, я признался ей, что сижу в Линце еще и ради того, чтобы отыскать следы прадедушки. Целый вечер она говорила со мной на эту тему, ее болезненно-тусклые глаза заиграли каким-то металлическим блеском; на дряблой шее под черной бархоткой напряглись жилы, и она беспрестанно повторяла:
– Ты должен это выяснить, да, да, ты, конечно, выяснишь, кто он был. Ведь в нашей семье ни один человек не дал себе труда этим заняться – меньше всего твой дедушка, и, к сожалению, столько драгоценного времени упущено. Все остальные только болтали. – Тут в ее глазах загорелась глубокая, давно накопленная ненависть. – Да, только болтали и болтали об этом, словно речь шла о каких-то обыденных пустяках – о вчерашнем обеде, о кино, – а делать ничего не делали. Какое положение мы могли бы занять, если бы все выяснилось!
Когда-то, получив от нее письмо на шести страницах, я было вообразил, что на нее произвела впечатление моя научная обстоятельность; теперь только я понял, что точило ее все эти годы. Она положила мне на голову свою маленькую высохшую руку, с хрипом втянула в себя воздух и сказала:
– А ты все-таки что-то предпринимаешь, если тебе понадобится моя помощь, дай мне знать.
Целых два месяца я не ведал никаких забот, а потом она умерла – можно сказать, внезапно. Она не оставила завещания, и мне пришлось делить наследство со всеми моими кузенами и кузинами, а также с сестрой, и, когда я получил свою долю, ее едва хватило на то, чтобы покрыть долги. Теперь моей единственной надеждой было то, другое – настоящее наследство, и в один прекрасный день, в сентябре, я сел в автобус и отправился в Ваксенберг – резиденцию Штарембергов. Мы проехали через ущелье Хазельграбен, между двумя откосами, пламеневшими багряной осенней листвой, и поднялись по серпантину до Глазау, откуда влево идет дорога на Кирхшлаг; потом мягко, как на полозьях, спустились вниз до Цветтля и снова взобрались вверх, в Обернойкирхен. И вот за Обернойкирхеном, между кронами деревьев, растущих ниже по склону, показались развалины замка Ваксенберг, словно выросшие из горы, которую они венчают. Прибыв на место, я сразу отправился в трактир, где за бутылкой белого вина уже сидел сам хозяин. Я разговорился с ним, пытаясь выведать все что можно о Штарембергах, потом слонялся по городу, присматриваясь ко всему, даже полез на гору, добрался почти до самого охотничьего домика на опушке леса, где помещается княжеское лесничество. Поскольку времени у меня было много, а день выдался чудесный, я взобрался еще выше, к развалинам замка, поднялся на башню и стал любоваться окрестностями; взгляд мой скользил по вершинам и склонам, холмам и долинам, по этой бесконечной, но почти неощутимой земной зыби, словно то были плавные изгибы грудей и бедер распростертой в истоме возлюбленной. И вдруг я почувствовал, что вырвался из кротовой норы, в которой жил последнее время. Моя стесненная грудь расширилась, я будто впивал в себя все это необъятное пространство, и все, что я видел теперь вокруг, яркая пестрота жизни рассеяли серую мглу, застлавшую мне глаза. Я не подвержен головокружениям, но тут мне вдруг пришлось чуть отступить от перил и одновременно ухватиться за них обеими руками: у меня было ощущение, что этот мягкий осенний день властно втягивает меня в свою голубую сферу с позолоченными краями; я боялся, что вдруг почувствую себя птицей и ринусь в эту голубизну, чтобы полностью завладеть ею – нет, чтобы в ней раствориться, разлиться, заполнить собою вплоть до самого потаенного ее уголка, до самого дальнего горизонта. Я совершенно забыл, зачем поднялся сюда, и даже в автобусе об этом не вспомнил. Вернулся я к действительности только дома: когда я рассказал Мерседес о своей прогулке, она пришла в бешенство.
– Я день за днем гну спину в конторе – ради тебя, а ты отправляешься гулять!
И мы ругались до тех пор, пока она не набросилась на меня и не заставила замолчать, уж она знала, что для этого надо сделать. Но во мне остался настолько глубокий след от того дня, что я опять энергично взялся за розыски, однако тут мне пришлось столкнуться со стариком. Он заорал на меня:
– Подумай-ка лучше о своих делах, они у тебя – хуже некуда, – а потом добавил несколько поспокойнее: – Адвокат сделает все, что надо, незачем ему надоедать.
Я возразил: было бы, мол, небесполезно, если бы я сам еще раз поговорил с адвокатом. Старик посмотрел на меня, как на больного, которому уже не осталось никакой надежды, и сказал, снова перехода на «вы»:
– Конечно, вы можете пойти к нему. Но я полагал, вы хотите выяснить, кто был ваш прадед. – И прежде чем я успел что-либо возразить, он подошел вплотную ко мне, положил мне на плечи обе руки, и голос его стал теплым, почти сердечным: – Вы не знаете, как много сделал для меня доктор Цаар; он помог мне, как не помогал еще никто в этом паршивом мире. Но он терпеть не может, когда ему мешают.
Я подумал: «Ему лучше знать», – и утешился, припав к фляжке с ромом; я старался избегать каких бы то ни было ссор. Так прошла осень, прошла зима. Ссоры теперь случались все чаще, потому что у меня больше не было денег. А однажды вечером Мерседес сказала каким-то ржавым голосом – она сидела на краю кровати, глядя в пол между широко расставленными ногами:
– Кажется, я влипла. Это ты виноват.
Я сразу взял себя в руки, погладил ее по голове и сказал:
– Я знаю одного врача.
Она вскинула голову и визгливо закричала:
– А тебе какое дело? У меня у самой есть врач!
Потом она опять погрузилась в мрачную задумчивость, а когда я спросил ее, во сколько это обойдется, ответила устало и сухо:
– Три тысячи.
Мне и тогда уже приходилось воевать за каждую сотню, поэтому я опять погладил ее по голове и сказал нежным успокаивающим тоном:
– Мой дешевле: две с половиной тысячи, включая плату сестре, которая ему ассистирует. Тайна гарантирована: он делает это на квартире – на вилле во Фрейберге.
Взрыв, который за этим последовал, разом покончил со всем. Ее вялое тело вдруг напряглось как пружина, она вскочила с кровати и заорала:
– Ты шпионил за мной, паршивец!
Она рвала на себе волосы, потом бросилась на кровать, опять вскочила, налетела на меня и, так как я стоял неподвижно, словно прирос к месту, принялась трясти меня за ворот куртки. А я не двигался исключительно потому, что ровным счетом ничего не понимал, и, поскольку я все время твердил одно только слово: «Нет», совсем тихо и кротко: «Нет», она вдруг замолчала. Теперь у Мерседес был такой вид, будто в мозгу у нее внезапно сверкнула молния, озарив ее бесконечно тупое лицо светом познания. Она спросила:
– Долорес?
– Лисея, – ответил я.
Мерседес кивнула головой с видом глубокого удовлетворения и сказала:
– Вот свинья! – А после небольшой паузы добавила холодно, с остротой бритвенного лезвия и с несказанной грустью: – Я, я это придумала, а они пошли по моим стопам. Но первая придумала я.
Тут она сняла туфли, с туфлями в руках пошла в соседнюю комнату и принялась бить ими Лисею по лицу. А я схватился за свою фляжку, но не успел поднести ее к губам, как меня вырвало. За стеной шла потасовка, раздавались вопли, а я тем временем начал упаковывать свои чемоданы.
Вернулась Мерседес, совершенно обессиленная, села на кровать и сказала:
– В конце концов, мы ведь тоже должны на что-то жить.
Я не ответил ей, а кончив сборы, пошел в ближайшее кафе и вызвал по телефону такси. Потом снес чемоданы вниз, в переднюю, и зашел к старику. Он сидел на диване, совершенно подавленный, и перебирал пальцами бахрому пледа.
– Что вам угодно? – спросил он, не глядя на меня.
Этого я и сам не знал; пока я раздумывал в поисках ответа, он опять спросил:
– Сколько там было?
– Две тысячи пятьсот.
Он вынул бумажник, помусолив пальцы, извлек из него деньги и положил рядом с собой на диван, а я подошел и взял их оттуда. Он не шевельнулся, только сказал:
– Я сразу вас раскусил, с первого дня раскусил – вы мелкий, гнусный вымогатель.
Я повернулся и вышел; открыл наружную дверь и поставил рядом с собой чемоданы.
Мерседес стояла, прислонясь к косяку, и не сводила с меня глаз, а я только раз мельком взглянул на нее, на ее бледное лицо с накрашенным ртом – от уха до уха, с накрашенными бровями – от уха до уха: элегантная шлюха с хорошо стянутой талией, а на самом деле – такой же урод, как ее папаша. Тем временем из кухни несся вопль:
– Закройте дверь, сквозит!
Наконец подъехало такси, и я протиснулся между дверным косяком и бедрами. В маленькой гостинице случайно оказалась свободной та самая комната, в которой я останавливался тогда, полтора года назад, и я почти всю ночь проплакал в подушку.
Назавтра, ближе к вечеру, я отправился к доктору Цаару, и этот изящный пожилой господин заявил:
– Ведь я недвусмысленно дал вам понять, что в этом деле уже ничего добиться нельзя.
Он сидел рядом со мной, подперев голову сплетенными в пальцах руками; в пепельнице тлела недокуренная сигарета.
– Он всегда жил только ради своих дочерей и к старости свихнулся на этом. Я полагал, что вы это заметили. – И уже в дверях, прощаясь со мной, изящный пожилой господин добавил: – Он тяжело болен, надо было его щадить.
Теперь уж я совсем не знал, что бы еще предпринять. Все дни напролет я просиживал в недорогих кафе, а когда мои часы и черный костюм надолго застряли в ломбарде, просто сидел в парке, считал проезжающие машины или капли дождя и все время в бессильной злобе думал: «Тайну она унесла с собой в могилу». Может быть, я при этом добавлял: «Как вносят чемодан в купе». А может быть, еще: «Надо только хорошенько копнуть».
7
Я даже не знал, где ее могила, а у кладбищенского сторожа память заработала лишь после того, как я ее слегка подмазал. Я разорвал пополам стошиллинговый билет – я только что опять побывал в ломбарде – и дал ему одну половину.
– Вторую вы получите после того, как выясните, где эта могила. Вам придется только полистать ваши книги.
Уже на следующий день он указал мне могилу, однако на кресте значилось другое имя. Он сказал:
– Эта могила стояла заброшенная бог знает с каких пор, и сюда захоронили еще кого-то – прямо гроб на гроб, – так уж водится.
Я отдал ему вторую половину сотенного билета, а он сказал:
– Кто ж его у меня теперь возьмет?
– Любой банк, раз номера на обеих половинках совпадают.
Тогда он проверил номера и сразу повеселел.
После этого я – нарочно, пока он не ушел, – купил букет цветов и сложил руки, словно бы для молитвы.
Через некоторое время я был уже уверен, что найду эту могилу в темноте. Я ждал целую неделю, пока не наступило полнолуние.
Придя на кладбище за полчаса до того, как там запирают ворота, я немного постоял перед могилой, потом забрался вглубь и спрятался в маленькой часовне, примыкающей к задней стене. Более двух часов провел я в этом прохладном убежище, в обществе каменного ангела и своей фляжки. Когда совсем стемнело, я прокрался к сараю с инструментами и взял кирку и лопату. Если кирка, вонзаясь в землю, натыкалась на камешек, то произведенный ею звук отдавался в моих ушах разрывом бомбы. Я обернул кирку носовым платком, но после первого же удара платок соскочил и застрял в земле. Кроме того, оказалось, что я плохо представлял себе, сколько земли мне придется перебросать лопатой. Холмик я, правда, уже срыл, но добраться до глубины никак не мог и был вынужден все чаще делать передышки и прикладываться к фляжке. Все часы – сколько их ни было вокруг – уже пробили полночь, потом час, потом два часа, а вырытая яма была мне едва по колено, так что, когда полицейский и сторож схватили меня за плечи, я прямо-таки обрадовался, что больше не надо копать. В жизни своей я не чувствовал себя таким усталым.
К середине дня меня отпустили, и теперь мне нужен был адвокат. Сначала я подумал было о докторе Цааре, но потом мне вспомнился один мой собутыльник из клуба художников, который в то время учился на юридическом факультете и всегда говорил, что хочет завести практику в Линце – своем родном городе. Действительно: в телефонной книге значилось его имя – доктор Алоис Редлингер. Он предложил мне рюмку коньяку, потом внимательно выслушал мой рассказ, задал несколько вопросов и переправил меня к психиатру. Психиатр оказался здоровенным и грубым дядькой; он простукал меня вдоль и поперек молоточком, заглянул мне в глаза, велел вытянуть вперед руки и растопырить пальцы, а между делом угощал меня сигаретами и расспрашивал обо всем: не только о прадедушке, но и о моей матери, о моей сестре, о моих тетках, о моей учебе, о Герде и Гарри Голде, о семействе Вудицль. И я все ему рассказал, умолчав только о том, что у меня есть ребенок. После моего визита к психиатру доктор Редлингер заявил: «Не слишком благоприятное для тебя заключение», а меня пот прошиб при мысли, что психиатр определил у меня душевную болезнь, delirium tremens[2]2
Белая горячка (лат.).
[Закрыть], например, или что-нибудь в этом роде (я не очень-то разбираюсь в этих делах).
– Ты слишком нормальный для того, чтобы тебе эта выходка сошла с рук, – сказал доктор Редлингер. Это значилось в заключении психиатра, кроме того, там что-то говорилось и об умственных способностях выше среднего уровня, и – благодарение господу! – о некой навязчивой идее.
– Вот за нее-то мы и ухватимся, – сказал Редлингер, и я получил четкие инструкции, как держать себя на суде.
А пока что он основательно занялся расследованием и однажды сказал мне:
– Эта проделка с мнимой беременностью и мнимым абортом – самый ловкий трюк, какой мне когда-либо встречался. Раньше они действовали куда примитивней: завязывали где-нибудь в кафе знакомство с человеком, потом доносили на него, что он эксгибиционист. Первый, кого они потянули в суд, влип как кур во щи, он, бедняга, уже дважды разводился, а судья не терпел разведенных. Второй не стал платить – его оправдали за недостатком улик, а третий сумел их разоблачить. Но до этого десятки людей, должно быть, платили им отступное – только бы жена не узнала, что он был в кабаке с какой-то девкой.
Далее он сказал:
– А Вудицль срывал такие куши, что нашему брату хватило бы до конца жизни. Пенициллин. Как-то раз он поругался со своей старухой, и дело раскрылось. Цаар его вытащил, это он мастерски обстряпал, видимо, у него были на то свои причины, – но уж это, пожалуйста, пусть останется между нами!
Я кивнул.
– У Фибига обивают пороги одни только старые бабы – бабы мужского пола. «Швейгль и сын» как раз хорошая фирма – это лучшее сыскное агентство в нашем городе, только сами они ужасно смешные и церемонные. Но твое дело было безнадежным с самого начала, ты бы мог получить наследство только в том случае, если бы сохранилось завещание твоего прадедушки. Ну ладно, оставим эту тему! – И еще он добавил: – Правда, я никак не думал тогда, в Вене, что ты такой олух.
– Я тоже, – сказал я.
Я спросил, чем, по его мнению, кончится мое дело, и он сообщил мне с довольно-таки хмурым видом:
– Вообще за это полагается самое малое месяц, но мы уж как-нибудь сведем все к двум неделям. Две недели условно. И, разумеется, возмещение убытков. Чего ты, собственно, надеялся достичь этим гробокопательством?
– Сам не знаю, – ответил я. – Может быть, я надеялся найти какое-нибудь кольцо, цепочку, амулет – какую-нибудь вещицу, которая могла бы дать ключ к разгадке.
– Да ведь это была чужая могила – ради ста шиллингов сторож не пожелал трудиться и показал тебе первую попавшуюся.
«Фальшивая челюсть», – подумал я.
8
Выпив рюмку коньяку, я простился с Редлингером и вышел на улицу. И мне сразу же захотелось вернуться…
Эта история произошла, когда я был во втором классе. Мне дали дома несколько грошей, и я решил купить сигарет.
«Дайте самых дешевых, на все деньги – меня послал один дяденька, он там, за углом», – так я сказал табачнице, а по дороге из школы выкурил все шесть сигарет, вернее, сосал их и давился дымом. На улице я фасонил перед другими ребятами, а когда вернулся домой, чуть не отдал богу душу. У меня началась рвота, мама уложила меня в постель и вызвала врача. Ребята наябедничали учителю и, когда на следующее утро я все-таки явился в школу, принялись меня дразнить: «Курец-молодец! Курец-молодец!» Недели две после этого (а может быть, всего несколько дней) я пребывал в уверенности, что все знают, как я опозорился, насмешливо указывают на меня пальцем и думают при этом: «Вот он, этот курильщик, вы только поглядите на него!» И я не решался смотреть людям в глаза – целых две недели (а может быть, всего несколько дней). Вот и теперь мне сразу захотелось вернуться в тот дом, в темную переднюю, но только мне было уже не семь лет, а почти двадцать восемь. Я двинулся дальше, напряженно думая о том, куда мне податься – в Вельс, к тете Ренате или в Вену. Но, подойдя к кассе вокзала, я вдруг спросил билет в Эннс. Чей-то чужой голос – он принадлежал мне – сказал: «До Эннса». Говорят, что, когда у человека на языке вертится какое-то слово и ему наконец удается его вспомнить и произнести, он испытывает чувство подлинного счастья или по меньшей мере избавления. Я сказал: «До Эннса», и меня охватило это чувство.
У калитки небольшой виллы на Вокзальной улице все еще висела табличка с фамилией ее матери. Калитка была заперта, и я позвонил: тогда она появилась в дверях и спустилась по ступенькам с крыльца; на ней был светло-серый фартук с пестрой каймой. «Значит, она замужем», – подумал я. Дойдя до нижней ступеньки, она узнала меня, но не покраснела и не побледнела, не схватилась за сердце, не закричала – ведь мы не виделись целых десять лет, – а только ускорила шаги, отодвинула засов и сказала:
– Надо опустить руку за забор и нащупать засов – тогда можно не звонить.
Я все смотрел на ее руки – искал обручальное кольцо, но хорошенько рассмотреть ее смог, только когда она взялась за ручку двери – кольца не было. Я спросил:
– Как вы поживаете – вы все?
– Хорошо, – ответила она. – Правда хорошо. – И улыбнулась. На минуту мне показалось, что она плачет. – Мама умерла два года назад, – продолжала она. – Второй этаж я сдала, мы живем внизу. Полдня я работаю в конторе у Габлонца – так и живем помаленьку.
Окно гостиной выходило в сад, и я увидел мальчика, игравшего там в одиночестве: так вот он, мой сын. Я смотрел на него, но не испытывал никаких чувств. Это был рослый для своих девяти лет, стройный белокурый мальчик с открытым лицом. Я продолжал смотреть на него и судорожно старался вызвать в себе какое-нибудь чувство к ребенку – любви или хотя бы неприязни, но ничего у меня не получалось. Пока я так мучился, она спросила, можно ли сказать мальчику, что я его отец. Я ответил: «Да», сам не знаю почему, может быть, боялся ее обидеть. Мы вышли в сад, и она сказала ему, кто я. Он уставился на меня своими большими пытливыми глазами и долго, долго не отводил взгляда. Лицо его просветлело, словно озаренное огнем, вдруг вспыхнувшим где-то глубоко внутри; казалось, на меня смотрит теперь огромный пылающий глаз. А во мне ничто не шевельнулось, ничто, чем бы я мог откликнуться на эту радость. В саду стоял стол для пинг-понга, и мы стали играть в пинг-понг. Я и сам неважный игрок, а он играл много хуже меня и загонял мячи невесть куда. Превосходство было на моей стороне, и когда я спросил его, какой счет, то услышал в ответ:
– Девять три в вашу пользу.
И тут я увидел, как он покраснел – будто кто-то выплеснул ему в лицо целую лохань красной краски. Я поспешно наклонился – завязать ботинок – и пробурчал что-то насчет «проклятого узла». Это был мой сын, и он говорил мне «вы». Я не стал ему ничего объяснять, а подошел к ней и сказал:
– Лучше мне опять уйти.
Она едва слышала, что я сказал; она стояла как зачарованная, погрузившись в воспоминания, глаза ее смотрели куда-то сквозь меня, и только через минуту она спросила, усилием воли стряхнув оцепенение:
– Куда?
– Назад, – сказал я и понял, что сам не знаю куда.
Теперь, только теперь я понял, какую чудовищную ошибку совершил, пустившись на поиски прадедушки. Более того: я понял, почему принялся за эти поиски. И вот я побежал обратно в сад и сказал мальчику, который перестал быть фигурой умолчания в моих планах, а стал моим сыном:
– Продолжим игру!
– Да, папа, – ответил он.
Я выиграл с небольшим превосходством: 21:18, зато все остальные партии выиграл он, хотя я всячески старался ему не уступать. Вечером она сказала:
– Когда-то я вышла замуж за мальчишку, теперь я обрела мужа.
– Сломленного человека, – сказал я.
– Мужа, – повторила она.
Через несколько дней мы пошли взглянуть на казарму, в которой я тогда стоял, и я никак не мог узнать то место, где мы так часто с ней целовались. Потом мы спустились к реке, в которой прежде купались; мы искали место, где лежали тогда, но не могли его найти. Собственно, это было для нас уже совсем не важно, ведь теперь все стало по-другому. Я с самого начала хотел ей все рассказать, но каждый раз путался и сбивался. Только теперь я могу говорить об этом и рассказывать, как все произошло.
Мы живем в Вене, я окончил университет и работаю в библиотеке; мой сын уже юноша, в кабинете у себя он держит бутылку сливовицы – это его собственность – и курит английскую трубку, которую привез ему дядя Бен. А вчера вечером, когда я, погасив свет, стоял у раскрытого окна и глядел на нашу тихую окраинную улицу, вчера вечером я услышал стук шагов – шаги двух человек по мостовой; они затихли у дома наискосок от нас, и, прежде чем я успел отвернуться, я увидел, что это мой сын и девушка из того дома. И когда они целовались, казалось, это уже не он и не она, а нечто третье, Новое. Тогда я пошел к себе в комнату и под спокойным, умиротворенным взглядом дедушки, взиравшего на меня с портрета, сел писать этот рассказ.








