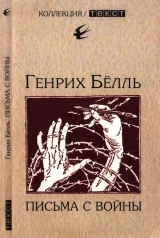
Текст книги "Письма с войны"
Автор книги: Генрих Бёлль
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Мне надо успокоиться и ждать, пока не поступит свидетельство, это единственное, чего я хочу.
Только что вернулся на свою квартиру, умылся и немного поел; это было похоже на праздник: никого, только я один, и рядом хозяйка, старая женщина, да ее внучка, маленькая белокурая Тереза, которая больше не боится меня; она протягивает мне руку и говорит: «Caporal – patrouille – nix coucher… oh»[68]68
Капрал – караульная служба – не спать…. ох (фр.).
[Закрыть], потом бабушка моет ее, и она вопит, как резаная; я наливаю себе кофе из кофейника, который стоит на печке в кухне, потому что на сей раз у меня есть сахар, несколько дней тому назад нам выдали по 100 граммов сахара; все, как в мирное время: перед глазами не маячат серые униформы и я даже думать забыл о них, мне не надо сегодня заниматься строевой подготовкой или муштрой на местности, я буду сидеть в своей караулке, где могу писать и даже читать; ах, как же бесконечно долго не брал я в руки книгу, у меня с собой очень неплохой роман о войне Пауля Эрнста «Зелень из развалин»[69]69
Эрнст Пауль (1866–1933) – немецкий писатель, один из наиболее известных представителей немецкого неоклассицизма.
[Закрыть].
Наш лейтенант вот уже несколько дней прямо-таки в отвратительном настроении, Бог его знает, что на него нашло, он стал совершенно невыносим; нам остается только надеяться, что все уладится, потому что каково настроение, такова и служба. […]
Все-таки фантастически странная вещь – эта наша война, мы, солдаты, живем тут почти как в мирное время, загорелые, здоровые, а вы там, дома, голодаете, отсиживаетесь в подвалах, то есть познаете войну с самой ужасающей стороны… Я слежу за письмом, которое отправил нынче утром в Управление полиции, недреманным оком, и время ожидания покажется мне очень и очень долгим. […]
Впрочем, деньги наконец пришли, сегодня после обеда я должен получить их, спасибо тебе…
[…]
* * *
Франция, 9 июня 1942 г.
[…]
Я окончательно свихнулся от этой по-сумасшедшему напряженной службы, стал совершенно несносным и нервным, потому что вот уже восемь дней – с воскресенья, – как ничего не слышу о вас, за исключением двух коротких телеграмм; жду почты изо дня в день, наверно, слишком сильно жду; ведь вы можете и не писать мне, поскольку считаете – и вполне резонно, – что я каждую минуту могу оказаться дома.
Теперь здесь постоянно ведутся воздушные бои; вчера днем мы дважды наблюдали, как сбили два самолета; один – немецкий; нам было хорошо видно, как от самолета отделился белый парашют и медленно опустился; стрельба, в том числе и пулеметная, слышна часто издалека; неожиданно для себя я понял, что война только в самом разгаре и будет очень долгой и очень суровой; удивительно, чем дольше я нахожусь здесь, тем больше убеждаюсь в том, что англичане очень сильные и упорные и будет необычайно трудно победить их и что война не кончится до тех пор, пока окончательно не иссякнут силы одной из стран; сколько это может продолжаться?
Неужели невозможно, если уж ты действительно живешь, жить, как подобает: без униформы и занимаясь своей профессией, какую ты любишь, и трудишься, трудишься… и с радостью в сердце пьешь вино, и читаешь книги, и слушаешь музыку; ах, музыка, слушать ее сердцем, свободным от страха и от этой серой смерти… как же должно быть прекрасно называть это «жизнью», познаем ли мы ее когда-нибудь?
Не знаю, можно ли мои здешние занятия назвать жизнью; я тут мучаюсь и проверяю, до блеска ли начищена портупея у моих подчиненных, и выполняю еще тысячи других подобных мелочей; конечно, это определенно не низменная и не унизительная задача – командовать отделением; несомненно, это даже почетный труд; но мои нервы совершенно расшатаны, часто я убежден в этом, по крайней мере, сейчас, когда почта такая ненадежная; а порою я чувствую себя очень сильным и мне хорошо; я не говорю, что несчастен здесь, но несказанно хочется разнообразия, теплоты и мира, и я всей душой жажду, чтобы война кончилась.
Случается, что из какого-нибудь дома, где есть радио, до меня долетает едва уловимая мелодия, или кто-нибудь бренчит на фортепьяно в одной из комнат, где проводят занятия. Он берет всего лишь несколько аккордов, и возникает мелодия, прекрасная мелодия, и тогда я становлюсь несказанно счастливым, потому что вновь ощущаю в себе жизнь, и тем не менее я глубоко несчастен, потому что лишен этой жизни. […]
[…]
* * *
Франция, 10 июня 1942 г.
[…]
Сегодня опять шли форсированным маршем; мы топали целых шесть часов только с единственным перерывом в десять минут; я был на пределе моих сил; это ужасно, такое мои нервы уже не выдерживают, хочется плакать и кричать, когда видишь перед собой уводящую в бесконечную даль дорогу и знаешь, что придется пройти по ней еще пятнадцать или двадцать километров; если бы меня кто-нибудь спросил, существует ли Ад, я бы сперва осведомился, был ли тот человек солдатом; если бы он ответил утвердительно, я задал бы еще один вопрос: не служил ли он, случаем, в пехоте, и, если б он и это подтвердил, я бы спросил тогда, не приходилось ли ему хоть раз преодолевать маршем в противогазе под жарким июньским солнцем тридцать пять – сорок километров, вот уж после этого я бы ответил, что это и есть Ад. […]
Как же здесь великолепно, отличная земля, прекрасная погода и воздух, но меня больше ничто не радует и не будет радовать, пока я не узнаю, что происходит в Кёльне. Сегодня вечером наверняка придет почта, ах, если бы только наконец я получил письмо, написанное после налета; хочется, чтобы пришла бумага из Управления полиции, пока мы еще не ушли отсюда, а это нам наверняка предстоит, и, как мне кажется, довольно скоро, дня через три-четыре, не дольше…
[…]
* * *
Франция, 13 июня 1942 г.
[…]
У меня больше нет сил, я выдохся, но игра стоила свеч: достал фунт масла, так что теперь у меня, по крайней мере, уже кое-что есть для вас; я целых полчаса проторчал на пастбище, ожидая, пока женщина подоит коров, и все это время заговаривал ей зубы, я предлагал ей табак и сто франков за килограмм, она не пускалась в разговоры со мной, но в конце концов продала фунт за восемьдесят франков; завтра я хочу отвезти ей немного табаку для ее мужа, он в плену в Померании; у женщины красное с широким носом пустое лицо, тусклые пепельного цвета волосы, в ее облике не было ничего французского, даже ее речь была непонятна; н-да, а сегодня, пытаясь что-нибудь купить, я повстречал темноволосую, смуглую красивую француженку, простую крестьянку, кроткую, маленькую, в белом платочке; это была истинная француженка; другие здешние крестьянки все в той или иной степени фламандки, во всяком случае, в большинстве своем светловолосые и дюжие; я всех разглядывал, и мужчин, и женщин, многие действительно походили на французов, но такой типичной представительницы мне еще ни разу не довелось встретить…
[…] надеюсь вскоре быть у тебя, моя просьба поддержана ротным начальством и отправлена в батальон; ах, я все жду, жду и жду…
Мысли об отпуске настолько поглотили меня, что я даже забыл рассказать тебе, что сегодня ночью в 0.59 раздался сигнал тревоги, да, ровно в это время, и с тех пор мы на ногах; тревога продолжалась до пяти, а там все равно уже побудка, так что сразу приступили к плановой службе; с утра мы помылись, затем повезли на стрельбы ящики со снарядами и построчили всласть своим пулеметом; при этом я руководил стрельбой и еще до сих пор глухой от сумасшедшей пальбы; днем мы наскоро поели, а потом все опять пошло своим чередом.
Наступила суббота, шабаш, конец рабочей недели; молодые солдаты стоят перед калиткой в живой изгороди и надраивают до блеска сапоги, один из них насвистывает: «Великий Бог, мы славим Тебя»; это семнадцатилетний доброволец, самый молодой в моем отделении, очень трудный парень, стоит мне многих сил; другой же лежит и дремлет – восемнадцатилетний юноша, с короткими светло-русыми вихрами, с правильными, но не вполне зрелыми чертами мальчишеского лица, очень приятный, исполнительный, почти единственный, кто не доставляет мне хлопот; наша хозяйка, добрая старушка, которая из-за наших постоянных учебных тревог и ночных занятий тоже не спит, приносит несколько блинчиков, но я не бужу парня, это выше моих сил; мы все безумно устали; ох уж эти мне юнцы, по сравнению с ними я настоящий старик в свои двадцать четыре года.
[…]
* * *
Франция, 14 июня 1942 г.
[…]
Сегодня воскресенье, в деревне тихо и пугающе пусто; во второй половине дня я был свободен и оттого необычайно счастлив; после обеда я закурил сигару и, ничтоже сумняшеся, в мирном расположении духа плюхнулся на свое ложе; постепенно становишься каким-то примитивным и сентиментальным, так что порою самому становится страшно; потом я задремал и продрых без просыпу до семи часов; итак, день уже клонится к закату, но мне предстоит еще отправиться за дефицитом; знаешь, что бы я с большим удовольствием привез вам? – свинью, хорошенькую тридцатифунтовую свинку, вот было бы здорово! Однако это неимоверно трудно, к тому же надо уметь уговорить крестьян, чего мне не дано…
Хочется надеяться, что моя просьба об отпуске уже дошла до полкового начальства и вернется в роту дня через два, так что вполне возможно, я сумею выехать, по крайней мере, в среду…
Этого отпуска я жду, почитай, четырнадцать дней, он мне позарез необходим уже из-за одних только нескончаемых мучительных мыслей, терзающих мои нервы и угнетающих меня; я не написал ни одного письма, ни одного, вообще ничего, я постоянно думал о том, что теперь ты осталась без своих любимых вещей. […]
Уже больше месяца, целых пять недель, я вдали от Кёльна, меня швырнули в бурный водоворот, так что я все еще не могу прийти в себя; ах, однажды война должна, должна все-таки закончиться, и тогда все голоса сольются в едином сумасшедшем реве…
Я ненавижу ее, так бесконечно ненавижу, что едва могу говорить об этом; понимаешь, ежели кто-то целых три года, день за днем жрал кашу, одну и ту же жидкую подслащенную кашу, приготовленную исключительно по одному рецепту и на одном и том же очаге, жрал бы вообще только ее и ничего больше в течение трех лет, то даже он не может ненавидеть эту кашу так, как я – войну; прежде чем приступить к несению службы, мы должны построиться – этого требует любая служба; сначала все стоят по стойке «смирно», потом равняются, затем дежурный унтер-офицер рапортует старшему унтер-офицеру, старший унтер-офицер – фельдфебелю, фельдфебель – этому зажаренному на штыке петуху[70]70
Видимо, имеется в виду капрал.
[Закрыть], тот – лейтенанту, и так повторяется изо дня в день и по нескольку раз на дню, по меньшей мере восемь раз, а уж после начинается сама служба, тоже однообразная и длится каждый день по двенадцати часов…
В этой войне на вас, женщин, возложена бесконечно огромная задача: вы должны оберегать и поддерживать жизнь, настоящую, человеческую, достойную жизнь; та жизнь, какую мы ведем здесь, вообще нельзя назвать жизнью; быть может, достойной человека ее считает только генерал, но в таком случае он и есть художник, ибо только художник признает жизнь достойной человека.
Ах, ужасно глупо рассказывать тебе все, что я думаю, чувствую и считаю, ужасно глупо; мой мозг совершенно отупел от однообразия нашей жизни, от бессонницы и вообще от всего; но ты, видимо, все-таки знаешь, чего я хочу и что имею в виду. […]
Вероятно, в этой войне нам предстоит многим пожертвовать, но я снова и снова молю Господа Бога о том, чтобы по крайности Он сохранил в здравии мою душу и сердце, чтобы я не остался сидеть на развалинах с онемевшим от ужаса сердцем и душой, когда однажды разрухе придет конец. Потому что мы обязаны спасти и сберечь все, все, все, что имеет хоть какую-то ценность и содержание, ведь после войны мы должны передать все это потомкам, всю правду о единственно истинной жизни и о кресте, поведать также о красоте и славе, о настоящей боли и достоинстве, ибо почти никого не удастся сыскать, никого, кто еще знал бы все это и помнил, а мы, мы как раз это знаем и помним, и потому на нас возложена единственно великая и прекрасная задача жизни: определить это, по-новому сформулировать и донести до следующего поколения, которое, быть может, сумеет больше понять, чем нынешний ничего не понимающий пустоголовый сброд.
Поэтому я не устаю молить Бога дать мне силы для этой работы, поистине достойной и прекрасной. Ах, я так мало молюсь, только иногда по вечерам, когда на землю спускается ночь и я совсем один лежу в своем углу на матрасе. […]
Я тоскую, признаюсь в этом совершенно откровенно, по настоящему богослужению и предвкушаю его во время моего очередного отпуска, я знаю, оно снова укрепит меня…
[…]
* * *
Бункер, 9 июля 1942 г.
[…]
Сегодня я расскажу тебе, что приключилось со мной воскресным вечером; одиннадцать часов, темень, хоть глаз коли, и нескончаемый дождь льет как из ведра. Этого города я почти не знал, поэтому предстояло сначала разыскать нужную мне улицу, но попробуй отыщи ее, это все равно что в Кёльне, если ты его не знаешь, найти улицу, ведущую в Бохум или Ройсдорф, да еще среди ночи. В небе неистовствовала гроза, буйствовала по-сумасшедшему, а я все шлепал и шлепал прямо по лужам; иногда при вспышках молний мне удавалось разглядеть уходящую вдаль проселочную дорогу, а какой изумительный разливался вокруг запах, одуряющий, пьянящий аромат насыщал воздух, и я был весь в поту, несмотря на дождь; нигде не видно и не слышно ни одной машины, а мне еще предстояло пройти двенадцать километров; моя одежда становилась все тяжелее, брюки пропитались водой и грязью, и никакой еды; временами меня вдруг окликал невидимый часовой: «Пароль!», на что я всегда очень сухо отвечал: «Отпускник»; я был на пределе своих сил и еле передвигал ноги, но гроза зачаровывала, всполохи молний освещали все вокруг, как огромные золотые облака, а сердитые раскаты грома таили в себе угрозу; каждые полчаса я по возможности вставал под укрытие и выкуривал сигарету, набираясь сил для следующего отрезка пути; так я шел и шел, пока около трех не оказался на месте, мокрый, усталый и с перспективой заработать вне очереди самую тяжелую работу в понедельник. Но тут, к своему немалому изумлению, я узнал, что рота передислоцирована в другое место; ах, я был безмерно счастлив очутиться наконец в постели под двумя одеялами; утром я помог погрузить кое-какие вещи и после обеда на открытой повозке отправился в свою часть по прекрасной, залитой солнцем Франции; восемь долгих часов мы колесили по изумительным деревням, цветущим полям, пока не достигли изрезанных долинами гор; то была великолепная поездка, даже несмотря на некоторые сложности в конце пути; восемь часов, это довольно долго, поэтому, естественно, меня мучил голод… Ближе к вечеру мы взобрались с нашими лошадьми на какую-то высокую гору, для этого пришлось запрячь в тяжелую повозку четырех бедных коняг, а потом, когда мы поднялись на самый верх, я увидел вдали сказочно прекрасный белый маяк и море, море… а сразу за морем в далекой дали – Англию.
Только что получил печальную для меня весть: я должен отдать свой чудесный одноместный бункер, так что теперь нахожусь в длинной узкой дыре, очень темной и малоприятной, вместе с восемью однополчанами, но я это выдержу. […]
Да, я послал тебе плитку шоколада, сообщи мне, получила ли ты ее; он, конечно, не такой хороший, как когда-то, но все-таки это шоколад, и его готовили в тяжелых условиях; надеюсь, его никто не украдет. […]
Мы все время ожидаем появления «томми»[71]71
Прозвище английских солдат.
[Закрыть], а его нет, и видимость очень плохая; но однажды нам будет не до шуток…
[…]
* * *
Западный фронт, 16 июля 1942 г.
[…]
Вчера утром меня совершенно неожиданно отправили на специализированную учебу[72]72
Имеются в виду курсы по изучению огнемета.
[Закрыть]; мы прибыли на место примерно в полдень и впервые за долгое время – с тех пор как я уехал из дому – наелись досыта. Очередность съеденных блюд: суп из цветной капусты с приправой, суп из цветной капусты с приправой, суп из цветной капусты с приправой, макароны с яичницей-болтуньей, пудинг, пудинг, пудинг, макароны с яичницей-болтуньей, пудинг, пудинг. После этого я действительно насытился, затем мы направились на поиски нашей квартиры и в очередной раз обрели ее в старой французской школе, где на протяжении всего курса обучения – трех дней – спали прямо на земле на подстилке из соломы и без одеял; после короткого сна с переполненным желудком отправился сначала в город… чтобы купить маленький подарок на именины, а потом в парикмахерскую: вымыть голову, побриться, сделать массаж лица; необычайно приятно и то и другое – посещение магазина и визит в парикмахерскую.
Я не уставал радоваться тому, что вечерами, примостившись в каком-нибудь тихом уголке солдатского общежития, смогу писать тебе, но тут вышла очередная закавыка: не оказалось почтовой бумаги; тогда я отправился в варьете, в солдатский театр, типичный для начала четвертого военного года: много шума и голых ножек, но все как-то грустно, единственное, что порадовало, это превосходные клоуны и несколько изумительных номеров артистов цирка.
После десяти дней позиционной войны на побережье этот насыщенный теорией курс, который дается мне с большим трудом, кажется настоящим отдыхом, видишь людей, пестрые одежды и приветливые лица, в этом действительно есть что-то от прежней жизни в сравнении с монотонностью, царящей у нас; как бы невероятно это ни выглядело и ни звучало, но такое довольно долгое утомительное напряжение ничто не в силах ослабить, только почта – наша единственно истинная радость; к сожалению, до воскресенья я остаюсь без писем. […]
Вчера послал тебе целый килограмм шоколада, напиши же, пожалуйста, получила ли ты его. […] Если это, само по себе простое обучение начнет чересчур изматывать меня, то боюсь, у меня появятся довольно веские опасения за мою учебу; но пока я не хочу об этом думать.
Единственной реальностью моего бытия остается только моя вера в правду и суть креста. […]
Наша жизнь наполнена исключительно этой войной, этой бесконечной войной, которая поглощает нас без остатка; прежде я всегда думал о Первой мировой, длившейся четыре года, как о величаво-торжественной страшной сказке, но вчера мне вдруг стало до ужаса ясно, что мы сами по уши увязли в такой же авантюре, которая старит наши лица, иссушает наши сердца, делает жидкими наши волосы и превращает нас в вечно грязных, всегда немного почтительных и производящих фальшивое впечатление персонажей, которые больше не представляют себе нормальной жизни.
Ах, по прошествии трех с половиной лет солдатчины тебе все становится безразличным и само собой разумеющимся; в том помещении, которое нам отвели для спанья, вряд ли согласились бы заночевать даже бездомные переселенцы, а мы ютились там целых три дня – немного соломы на грязном полу в какой-то захудалой лачуге; стаскиваешь с себя мундир, кладешь его под голову вместо подушки и просыпаешься только утром, и то лишь потому, что приспичило отлить, а вовсе не оттого, что плохо спал или замерз без одеяла.
Обо всем, что находится за пределами этой «жизни», о доме, о музыке и книгах, то есть обо всем, что, собственно, и составляет нашу жизнь, я думаю как о реальном, живом, но совершенно ином мире, куда меня иногда милостиво впускают и который часто одаривает меня благостными знаками: письмами и мечтами. […]
Ощущение, что тебя всячески обманывают, вовсе не просто ощущение, а факт, – касается ли это нашей жизни вообще или шоколада и кекса, который иногда можно купить в столовой и который исчезает в карманах тех, кто ничего не делает, а только прибивается к теплому местечку; все эти большие и маленькие огорчения и то, что мы со своим скарбом постоянно тремся друг о друга, делает нас старыми и жесткими, а нашу жизнь безрадостной. […]
[…]
* * *
Западный фронт, 29 июля 1942 г.
[…]
Это письмо я перешлю с товарищем, он завтра уезжает в отпуск; ну что сказать тебе? Я устал от здешней действительно напряженной службы. […]
Сегодня я вправе поделиться с тобой грандиозной радостью, для меня это и вправду безумная радость: я снова возвращаюсь на побережье, на передний край, в бункер, огнеметчиком; вот видишь, та история с огнеметом обернулась для меня счастьем; отныне я буду опять лежать в бункере в десяти метрах от моря, правда, караул придется нести и ночью, зато никакой тебе строевой и никаких полевых учений, на худой конец всего по часу каждые два-три дня, но это уже не играет никакой роли, […] так что порадуйся вместе со мной, наконец я покину этот резервный питомник. Завтрашним ранним утром мы должны на двоих получить огнемет и установить его, после чего нас переведут во взвод, находящийся на передовой позиции, и, стало быть, наш горлопан не будет иметь к нам никакого отношения; ты не поверишь, не в состоянии поверить, сколь безмерно я счастлив…
Сегодня вечером мы еще раз, в виде исключения, поплавали в море, вода оказалась теплее, чем в воскресенье, к тому же был прилив, так что можно было уйти далеко-предалеко в море по неглубокой белой отмели; ах, белый песок под ногами, порывистый ветер, сумасшедшие волны, перекатывающиеся через твою голову, а перед тобой, насколько хватает глаз, – морская лазурь, это действительно величайшая радость и огромное удовольствие; итак, завтра я перебираюсь к самому морю.
Лишь бы только нас не так скоро сменили, я имею в виду нашу роту, это будет чистым несчастьем, если спустя несколько дней нас снова отзовут; во всяком случае, все то время, что мы будем находиться здесь, я буду чувствовать себя хоть немного лучше; придется подолгу бывать в карауле, мало спать по ночам, но зато никаких нарядов, а главное – мы будем у моря, совсем, совсем впереди. […]
Ну как ты могла подумать, что я голодаю; такого никогда не было… вполне естественно, когда приходит посылка из дома, мы все, как безумные, набрасываемся на сладенькое, а когда нас отпускают в город, то вдосталь лакомимся там разными вкусностями, которых и в помине нет в нашей полевой кухне. Каждый день на обед нам дают по целому котелку супа, им, конечно, наедаешься, но это суп военного времени, у него один и тот же вкус, тем не менее после обеда во всей роте не остается и ложки такого хлебова, оно и понятно, ведь мы целый день в движении на свежем воздухе, который здесь, на море, делает нас особенно прожорливыми. От голода я не страдаю, а что до шоколада, так я его всегда ел, если он мне попадался, так что… н-да, умолчим об этом…
Вот так и не иначе обстоят мои дела. […] Завтра вечером к нам приедет дивизионный пастор, я хотел бы еще раз исповедаться и причаститься, это очень утешит и осчастливит меня.
Сейчас буду упаковывать свои вещи, завтра надо выехать очень рано; да, к морю, к морю, на самый передний край запада; в этом месяце ночные дежурства не будут такими уж напряженными, а вечерами станем варить отличный грог, потому что у меня снова есть денежки, чему я тоже необычайно рад и даже счастлив, они дают ощущение свободы, и после долгого-предолгого перерыва можно опять пропустить стаканчик; я тоскую без спиртного, пусть тебя это не удивляет, но у меня появилась настоящая потребность в алкоголе. […]
Сегодня утром несколько часов опять ползали в высокой траве, где пахло мятой, ромашкой – потрясающе! – и другими полевыми травами, запах которых дурманил меня, однако, если над тобой постоянно раздается рявканье горлопана, а ты нагружен, как ишак, тогда все вокруг, вся эта красота причиняет тебе только боль и наводит грусть.
[…]
* * *
Франция, 30 июля 1942 г.
[…]
Сегодня утром перебрались с нашим огнеметом на новую позицию; теперь мы располагаемся в непосредственной близости от моря; во время прилива вода не доходит до нашего утконосого бункера всего каких-нибудь десять метров; наш жилой бункер расположен южнее и выше, вот только, к сожалению, фасадом выходит на сушу; здесь просто великолепно, однако, к великому огорчению, если верить слухам, радость наша продлится недолго… Мы находимся в бухте неподалеку от фешенебельного отеля, слева и справа вздымаются высоко вверх крутые скалы, благодаря чему образовалось отличное место для купания; можно легко представить себе, какая жизнь царила здесь до войны чудесной летней порой…
Наша работа здесь будет заключаться в том, чтобы стоять ночью в карауле по три с половиной часа, это, конечно, утомительно, но зато днем дежурство значительно легче, к тому же до обеда тут царствует тишина. А как прекрасен луг на горе, лежишь себе вот так в траве, совсем как в мирное время; сегодня я долго наблюдал за нашей кошкой, которая носилась в ромашковых зарослях, как безумная, и пыталась ловить мух; совсем еще молоденькая зверушка. […]
Нам пришлось действительно изрядно потрудиться, таская с горы на гору стокилограммовый аппарат, а потом еще спускать его по лестнице до нашего бункера.
А далеко позади, в красивом парке, видны маленькие дачки, одни из них разрушены, другие же еще в хорошем состоянии, и у всех на садовых воротах красуются имена владельцев.
Я по-настоящему счастлив, снова вернувшись на побережье, на самый передний край; здесь время проходит быстро, и каждый вечер я получаю почту; сегодня к нам приходил пастор, он прочитал небольшую проповедь, но самого важного, причастия, у него не оказалось, однако он пообещал вскорости прийти еще раз; надеюсь, много времени ему не потребуется, чтобы сдержать свое слово.
Сегодня в небе весь день творилось что-то несусветное, зенитки не умолкали практически ни на час, британцы подобрались совсем близко к нашему холму и береговым позициям. Мы стреляли по ним даже из нашего пулемета…
Говорят, Молотов пригрозил капитуляцией, ежели «томми» не предпримут определенных шагов; надеемся, что они непременно их предпримут, потому что в таком случае они защитят нас от Востока. […] Великолепный теплый солнечный день клонится к закату; синее море испещрено зелеными пятнами, и пенные гребешки словно играют на песчаном берегу; здесь чудесно, а там, за морем, раскинулась Англия.
[…]
* * *
Западный фронт, 9 августа 1942 г.
[…]
Сегодня утром, часов в двенадцать, когда я, еще не совсем проснувшись, пошатываясь, выбрался из своего бункера, я был приятно удивлен; море во время прилива восхитительно; высокие волны со множеством белых гребешков и роскошное солнце; но самое потрясающее – это купающаяся в нашей маленькой сказочной бухте дева, дева с волосами, чуть длиннее спичечного коробка, в темном купальнике, даже издали было заметно, что она улыбается, наверняка одна из любовниц летчиков, которые несут караул внизу неподалеку от бухты; наверняка продажная девица, конечно, продажная, но ты даже не можешь себе представить, что значит увидеть здесь женщину, купающуюся в море между колючей проволокой и минными полями, когда ты неделями не видишь ничего, кроме военной формы; быть может, в ней все фальшивое, яркость ее губ, белизна кожи, и сердце ее тоже наверняка фальшивое и черное, как ночь; стоя на песке, она улыбалась, действительно улыбалась, наблюдая за игрой волн с солнцем, и ее волосы, чуть длиннее спичечного коробка, наверняка были настоящие; […] ах, это был поистине воскресный сюрприз; ты даже не поверишь, как это меня развеселило; вот уже пять недель мы видим только мужчин, только униформы, и у всех у нас, согласно приказу ротного начальства, волосы подстрижены «ежиком». Господи, подумать только, стоило появиться здесь какой-то маленькой проститутке из Кале или Булони и поплескаться в море, как все уже разулыбались; я недолго смотрел на нее и не воспользовался биноклем, чтобы как следует разглядеть ее, – все новобранцы, как безумные, хватались за бинокли, нет, мне было жаль разрушить иллюзию; только не думай, будто я не знаю, что там делается внизу у летчиков; но картина была очаровательная, картина, картина… картины и музыка, картины и музыка. […]
Только что наш горлопан в очередной раз говорил о предстоящих отпусках… Нас стали лучше кормить, но картошку дают очень редко. А возле маяка, совсем недалеко отсюда, есть огромное картофельное поле, принадлежащее флоту; поскольку вечно голодная пехота безбожно ворует эту картошку, у поля выставили часовых с заряженными ружьями; однако такая мера все равно не помогает, для нас нет ничего вкуснее, чем молодая картошка, хорошо выскобленная и поджаренная на маргарине, и к ней кофе; ты, конечно, скажешь, что с кофе невкусно, но мне нравится кофе с жареной картошкой; вот только стало сложновато доставать ее; этой ночью я опять отправился за ней с одним их наших ребят, бесшабашным молодым ефрейтором; прыжок через асфальтовую всегда блестящую дорогу, а там ползком по канаве, всякий раз, когда часовой поворачивается к нам спиной, опять мощный рывок вперед, и вот наконец, наконец-то мы на поле; тут мы, словно муравьи, начинаем копаться в земле, ловко и проворно орудуя саперными лопатками; наконец наш мешок полон, однако мы, наверно, были чересчур громогласны, но самым несуразным в этой ситуации был мой смех; чудесной летней ночью я стоял посреди картофельного поля и хохотал над потешностью ситуации, а у часового, как на грех, оказался хороший слух, он услышал мой смех и пошел прямо на нас, мы тотчас рванули оттуда; поскольку я был без кителя и без шапки, он не признал в нас солдат и с безумным ревом кинулся за нами. На наше счастье, он выстрелил слишком поздно, когда мы, радостные и счастливые, уже мчались с мешком картошки по оврагу, продолжая хохотать, ибо никакая пуля уже не достала бы нас; да, вот так иногда мы проводим здесь время… […]
[…]
* * *
Западный фронт, 17 августа 1942 г.
[…]
Вчера я опять послал вам семь кусков мыла и полкило какао; в общей сложности, теперь вы должны получить четырнадцать кусков мыла и один килограмм какао; как-то я послал тебе книгу «Потерянный дом»[73]73
Автобиографический роман немецкого писателя Эмиля Барта (1900–1958), написан в 1936 г.
[Закрыть], получила ли ты ее? Я отправил ее уже месяц тому назад вместе с шоколадом, книга написана Эмилем Бартом. Сообщи мне, пожалуйста, получила ты ее или нет; этот же автор написал трактат о Георге Тракле; может, тебе удастся где-нибудь раздобыть ее, постарайся, пожалуйста; я, конечно, был бы безмерно рад возможности прочитать эту книгу и еще раз прочувствовать описанное в ней. […]
Сегодня после обеда получил постельное белье, постирал совсем порвавшиеся носовые платки, кальсоны и целую кучу носок, привел в порядок нашу загаженную комнату, сварил кофе да еще написал семь писем, и все это за два часа, я почти горд своими достижениями; над нами сияет яркое солнце, совсем рядом шумит море, на той стороне видны сверкающие белизной меловые скалы, которые ты тоже видела; наверное, это очень сентиментально, если я непрестанно думаю о тебе, стоит только сквозь дымку и туман на море показаться острову; ведь ты плыла по этому каналу и долгое время жила в этой стране, об этом я думаю всегда, всегда, когда ночью стою на посту и вижу, как на той стороне вспыхивает свет прожекторов и из тяжелых орудий багровым шаром вырывается дульное пламя, которое, словно по волшебству, устремляется в небо, где тотчас распадается на множество мелких кусочков; ах, что бы ты сказала, если бы тебе довелось опять увидеть этот берег, ощутить его мягкий белый бархатный песок, в котором так чудесно ногам, но сейчас берег этот вдоль и поперек опутан колючей проволокой, и повсюду угрожающе торчат разверстые пасти утконосых бункеров, которые только того и ждут, как бы плюнуть в тебя огнем; точно так же и на их берегу, и я хорошо представляю себе тощих «томми» и долговязых американцев, как они тоже бездельничают в своих бункерах и пьют виски, а может, и поджидают нас…








