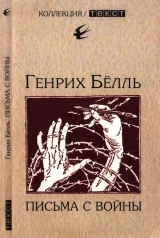
Текст книги "Письма с войны"
Автор книги: Генрих Бёлль
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
[…]
* * *
Мюльгейм, 3 декабря 1940 г.
[…]
Ничего на свете я не любил так, как музыку Бетховена; иногда при звуках его мелодий у меня возникало такое чувство, будто он мой брат или очень близкий друг; сам я, что называется, «абсолютно немузыкален»; я даже не умею проанализировать композицию музыкального произведения; я могу только слушать, и я слушаю; порою, когда я слышал «Адажио» Бетховена, я часто плакал, даже не замечая этого, или смеялся, как счастливый ребенок во время своих проказ, Бетховен – моя стихия…
Ах, в тот незабываемый вечер я действительно часто погружался в свои мечты и никто не мешал мне слушать его, даже мое обычно столь шумное окружение. Ничто не угнетает меня так, как толпа, будь это даже в церкви. Ненавижу народ на общественных сборищах, это он восклицал: «hosianna!» и «kruzifige!»[10]10
Распни его! (от лат. cruci-fïgo – распинать на кресте).
[Закрыть], и я знаю, что, увидя его, Христос до дна испил горькую чашу страданий; при виде огромной массы людей мне всегда кажется, что из разинутых ртов вот-вот вырвется крик «kruzifige!»; часто меня от страха прошибает пот, когда я бываю, будто тисками, зажат толпой или оказываюсь в толчее. Однако больше всего я ненавижу напичканную академическими знаниями чернь со степенями и без оных, которая ошивается по разным концертам…
[…]
Последние месяцы, уже в госпитале, я понял, что, пожалуй, никогда – наверное, никогда – не стал бы католиком, если бы Бог не оказал мне величайшую милость, позволив родиться в Una Sancta[11]11
Единственная святая церковь (лат.).
…родиться в Una Sancta – то есть в лоне католической церкви. Родители Бёлля были правоверными католиками, поэтому в семье царил дух католицизма и вся жизнь проходила в неукоснительном следовании канонам этой веры.
[Закрыть]. А поскольку я знаю и верю в то, что церковь действительно владеет истиной, я никогда не сумею в достаточной мере выразить свою благодарность за счастье познать эту истину изнутри и узреть ее. Сколько же раз Бог спасал меня, сколько раз окунал в поток святой крови Христовой, которая всех нас обмывает. Я уже рассказывал тебе, что с двенадцати до девятнадцати лет меня, как неживого, просто таскали за собой в церковь; целых семь лет я не исповедовался, не причащался, не молился. И только иногда – казалось бы, без видимых причин – плакал. Быть может, ныне во мне пробуждается мучительная безотрадность этих долгих лет, когда порою я ни с того ни с сего вдруг расплачусь; тогда мной овладевают безмерная печаль и меланхолия, и мне кажется, что я истекаю кровью. Вполне возможно, что это только пена от тех бесконечно безотрадных семи лет, которая въедается в мою душу; тогда я становлюсь сам не свой… ничего не чувствую и не ощущаю себя, я словно чужой, пока наконец не прихожу в себя…
И знаешь, самое ужасное в этих семи годах – и в том моя глубокая вина, которую я никогда не прощу себе, – что я не терял веры, а поскольку все эти годы я веровал, во мне всегда жили любовь и надежда, однако я их замалчивал и, может быть, даже убил в себе; но Бог воскрешает мертвых…
Представляешь, меня спас Леон Блуа[12]12
Блуа Леон Анри-Мари (1846–1917) – французский писатель, один из крупнейших католических писателей конца XIX – начала XX в. Бёлль узнал о нем, прочитав его роман «Кровь бедняка» и «Дневники».
[Закрыть], именно он, и я люблю его больше всех европейских сочинителей книг. Лишь спустя годы это дошло до моего сознания; теперь я до некоторой степени разбираюсь во всей этой путанице. Многое прояснилось зимой 1936–1937 гг.[13]13
Бёлль намекает на то, что именно в этот период во время частых дискуссий с братом Алоисом и его другом Каспаром Маркардом он открыл для себя таких авторов, как Бернанос, Мориак, Честертон и – в первую очередь – Леон Блуа, сыгравших важную роль в его развитии и духовном становлении. Благодаря их произведениям он понимает, что такие писатели могут, по его собственному высказыванию, влиять на ход истории человечества. (Роман Блуа «Кровь бедняка» был подарком Алоиса).
[Закрыть], она стала решающей для меня; меня пробудили от спячки мой брат Алоис, Каспар… и Леон Блуа, его следовало бы назвать первым. Временами мне кажется, что я только после этого появился на свет и крестился. С той поры так и мечусь туда-сюда, но я живу, живу, живу. Я полон жизни. И мне становится холодно при мысли о том, что я так и остался бы невоскрешенным…
С той зимы я ожил, иногда бывал даже очень счастлив. Частенько невероятно сильно грешил и страдал… и надо же было случиться войне, чтобы открыть мне глаза. Меня охватил панический ужас при виде превращенного в руины Роттердама, после этого я увидел поверженную ниц Францию; ужасный недуг поразил меня[14]14
Имеется в виду дизентерия, которой Бёлль заболел в августе 1940 г.
[Закрыть]. […]
Но зато теперь я не могу написать даже ужасающе плохое стихотворение; с одной стороны, это потеря, с другой – приобретение; временами мне хочется опять писать стихи, даже если пять минут спустя я их сожгу; это действительно прекрасно – сочинить во время прогулки всего за несколько минут или часов стихотворение; однако теперь я больше не сумею этого сделать, я окончательно измотан и обессилен. […]
Если ты позволишь мне в скором времени приехать к тебе, то мы попробуем шутки ради разыскать кое-какие не преданные огню стихи… Теперь, по прошествии почти двух лет, я могу относиться к ним, как к бумагомарательству кого-то из друзей; их ценность для меня лишь в том, что они напоминают мне о самых счастливых и самых злосчастных часах моей жизни. Оттого я и не хочу их уничтожать. Ты сама все увидишь. В них много страсти, невезенья и страданий и мало – вернее сказать, никакой – формы, поэтому для других они ничего не стоят. В дальнейшем, занимаясь какой-нибудь гражданской профессией, я возобновил бы работу над этими вещами и над поиском формы…
[…]
* * *
Мюльгейм, 9 декабря 1940 г.
[…]
[…] Я еще глубже ввергнут в эту беспросветную нужду; на обратном пути[15]15
После очередного воскресного отпуска Бёлль возвращался в казарму в Мюльгейме.
[Закрыть] я нарочно не зашел в купе, а остался, несмотря на холод, в тамбуре, поскольку мне не хотелось сразу и надолго окунуться в прежнюю атмосферу, от которой цепенеет мое сердце, умирает фантазия и немеет дух; я был совсем один, и только бледная тусклая бесцветная луна висела над удручающей пустынностью этой ночи…
Ехать поездом – самое худшее, я снова ввергнут в боль, кровь и стоны, но если потом я опять поплаваю в бассейне, тогда, тогда это все же не так ужасающе; вот, опять снова-здорово…
Безумно устал; этой ночью я спал каких-нибудь полтора часа, прошлой – только пять; а сегодня всю ночь провел на изнуряющем свежем воздухе. Скорее бы добраться до постели, хочется надеяться, что сегодня налета не будет. Вчера я был просто по-детски счастлив, когда завыла сирена. […]
[…]
* * *
Мюльгейм, 10 декабря 1940 г.
[…]
Сегодня это произошло чуть позднее[16]16
Имеется в виду воздушная тревога.
[Закрыть]. Но ведь я могу выкроить время и среди дня; все ужасно печально; мне больше ничего не хочется. Если иногда вдруг осознаешь свое положение и по-настоящему задумаешься над тем, как, где, при каких обстоятельствах и с какими людьми тебе приходится жить, тогда становится совсем невмоготу. Тогда у меня возникает желание оттузить, отколошматить, убить всех этих недоумков, одно лишь существование которых доставляет мне мучение… Почему так долго продолжается это бедствие и почему ему не видно конца? Даже не представляю себе, как вы, женщины, могли бы влачить такое жалкое существование; мне кажется, вы и двух дней этого не выдержите. Бог наградил вас добрым и нежным сердцем, но одновременно и сильным, чтобы вынести великое страдание, а столь долгое животное существование, эту бездуховность, серость вам, конечно, не вынести… Часто я по нескольку часов бываю буквально без сил, но только по нескольку часов. […]
А как я тебе пишу? Среди жрущих, играющих в скат, всегда под нытье и пересуды, и так происходит изо дня в день, с самого первого дня создания прусской армии; я тоже часто отчаиваюсь… эта атмосфера попросту убивает мои мысли, и мне уже не верится, что этому несчастью когда-нибудь придет конец… […]
* * *
Мюльгейм, 11 декабря 1940 г.
[…]
Когда-нибудь, так мне кажется, если я опять окажусь среди людей, понимающих меня, с кем будет о чем поговорить, я снова стану в какой-то степени разумным. Если у меня будет работа, которая по-настоящему увлечет меня, тогда, тогда я захочу поправиться и поправлюсь…
И еще кое-что: […] мне надо опять попробовать что-нибудь написать; даже если это будет ничего не стоящим сочинительством с объективной, литературной и художественной точки зрения, я все равно полон идей, которые необходимо выплеснуть наружу; в прошлом году за те несколько спокойных дней, что я провел в Оснабрюке в караульном подразделении, я начал два маленьких рассказа[17]17
К этому времени относятся два фрагмента рассказов. Один датирован 12 декабря 1939 г. и состоит из двух страниц текста под заглавием: «Отпуск. Роман»; второй фрагмент от 1 января 1940 г. представляет собой двухстраничный текст со следующим названием: «Отпуск (Роман). Дневник отца внебрачного ребенка». Помимо этого существует еще два очень коротких незавершенных текста, с январскими датами: «Первый суд» и «Трилогия». В архиве Бёлля хранится еще одна страница текста, датированная январем того же года, с названием «Анекдот».
[Закрыть], работа над которыми доставила мне истинную радость, и теперь вот уже год как я повсюду таскаю с собой эти странички с надеждой дописать их, но до сих пор никак не найду подходящего настроения и времени, хотя, может быть, это и излишне при моем нынешнем состоянии. Здесь бессмысленно работать над ними, думаю, ты меня поймешь, но будем надеяться. […]
[…]
* * *
Мюльгейм, 16 декабря 1940 г.
[…]
Я давно не был так счастлив, как сегодня утром, даже дурацкая работа доставляла мне радость. Солнце тоже не огорчило меня; я смотрел, как оно наплывает на небосвод с восточной стороны, багряное и золотое, в то время как луна, бледная и желтая, еще висит над западом; все небо с западной стороны было окрашено в алый цвет, нежный, почти ласкающий, […] на улице было зверски холодно и к тому же дул беспощадный ветер, но я не сердился; мы собрали бумагу – привычная для нас работа по очистке местности – и разожгли костер, громадный костер из бумаги, листьев и хвороста; ты ведь знаешь, что больше всего на свете я люблю костер и его запах, этот терпкий с горчинкой запах гари…
Днем мое настроение совершенно неожиданно упало до нуля, и все из-за очередного слуха, пущенного кем-то за обедом: нас-де переводят, и звучало это вполне правдоподобно. Я всегда боялся и боюсь до сих пор, что меня вдруг переведут, хотя кажется невероятным, чтобы меня направили во Францию или Норвегию, тем не менее я пребываю в страхе неведения и ничего не могу с собой поделать, я напрочь лишен смелости и твердости духа.
Но ведь я никогда не был до жалости трусливым; в прошлый раз, когда мы направлялись во Францию, я каждое мгновение был готов умереть; мы все, ехавшие в этом воинском эшелоне, были твердо убеждены, что спустя несколько дней ступим на землю Англии; я был готов и не боялся, всегда был готов, я действительно принял решение погибнуть. О, это было совсем не легко; прежде, да и потом, я часто говорил себе, что охотно умру и мне это ничего не стоит; но уже тогда я смутно ощутил, сколь легкомысленным было подобное пустословие, никто охотно не умирает, когда ему всего двадцать два года, но я был готов…
Эта отвратительная болезнь[18]18
Имеется в виду дизентерия.
[Закрыть] подорвала и мои духовные силы; эти долгие семь недель – правда, поначалу наполненные кровью и страданиями, а потом нежностью, заботой, слабостью, – эти чудесные прогулки по длинным увитым зеленью аллеям госпиталя, это изумительное лето и Франция…
С этого времени я потерял всякую охоту оказаться на фронте, лишь казарма могла выгнать меня туда; к тому же надо было считаться и с родителями, и еще одно: здесь у меня была возможность каждые две недели наведываться в Кёльн. […]
Как распорядится Бог, я не знаю, но что Он ни делает, все к лучшему; мне по-прежнему стыдно надеяться, что Он все удачно устроит для нас, к тому же для этого есть чисто организационная возможность. Мы не станем уповать на слишком уж благополучный исход, чтобы потом не было так больно. […]
В последние недели, испытывая великие муки, заливаясь кровью и слезами, я страстно молил Бога избавить меня от такого униженного и мученического существования, и часто во мне действительно зарождалась надежда, что Он внемлет моей просьбе, именно часто, но не всегда. Я не просил Бога оградить меня от страданий, нет, ибо тогда я сброшу с себя крест, я – христианин и считаю, что этот знак выжжен в моем сердце и моей душе; нет, я ничего не имею против страданий, но я молил Его освободить меня только от одного страдания – быть прусским солдатом при данных обстоятельствах без шанса на уверенность в утешении… Завтра или послезавтра решится моя судьба. Если меня отправят далеко, я предприму все усилия, чтобы перед отъездом повидать тебя […] Вверим же себя в руци Божии.
[…]
* * *
Люденшейд, 18 декабря 1940 г.
[…]
Вот уже несколько часов, как я нахожусь в Люденшейде, и мое настроение в один миг опять опустилось ниже нуля, едва я завидел издали очертания казарм. Мы приписаны к G.V.-роте[19]19
Аббревиатура названия роты, предназначенной для службы в гарнизоне, а также для использования в ряде работ в Германии.
[Закрыть] и ожидаем теперь наше командование, которому все равно, где приказывать: на юге Франции или в Кёльне на Рейне. Никто ничего не знает. Наконец приходит приказ ждать, ждать, ждать. Чудесный рождественский отпуск накрылся, мы ждем…
Это самый настоящий этапный лагерь, нигде не найти ни места, ни покоя. Нас восьмерых запихнули в одну клетушку, в которой обычно размещаются два унтер-офицера. И вот теперь мы торчим тут со всем нашим снаряжением и собственным скарбом, можешь себе представить. Пишу наскоро и кратко. Природа здесь великолепна, но эта новая казарма убивает все мысли…
Теперь придется часами и днями торчать тут и ждать; я ничего не могу делать, даже писать. На минутку пробрался в комнату фельдфебелей, оба ее обитателя как раз ушли. Естественно, я сижу тут, как на раскаленных углях. Пойти в город тоже не могу, мы всегда должны быть под рукой…
[…]
* * *
Люденшейд, 19 декабря 1940 г.
[…]
Я окончательно сбит с толку; видимо, у меня было чересчур радостное представление о переводе сюда; здесь самый обыкновенный этапный лагерь. Нас отправят отсюда в зависимости от полученного требования. Есть три возможности: Варшава, юг Франции и Кёльн; ждать, ждать и только надеяться, но не слишком сильно…
Ах, хоть бы раз быть уверенным в чем-то, хоть бы раз; всегда только ждать, бояться, надеяться, ждать; прошло уже три месяца, как я снова в Германии. У нас уже нет времени ждать ответа друг от друга, чтобы о чем-то договориться; в случае, если я не смогу приехать на Рождество в Кёльн, могу ли я надеяться, что ты приедешь ко мне? Тогда я буду ждать тебя в отеле «Кайзерхоф», это единственный отель, который я знаю. Вчера, проходя по городу, я случайно прочитал его название; либо ты ждешь меня там во вторник вечером или же в среду рано утром. Быть может, все это ни к чему, и я приеду в Кёльн, но лучше все предусмотреть. Еще неизвестно, будет ли на Рождество ходить автобус, если не прекратится снег. А он все сыплет и сыплет… по обе стороны дороги уже громоздятся метровые стены счищенного снега, а он и не думает прекращаться; леса и горы сказочно великолепны в своем безмолвии, и я спрашиваю себя, почему я так нетерпелив и недоволен. Обрести бы где-нибудь покой. Я действительно болен; здесь, в казарме, тоже, конечно, отвратительно; ты отдан на откуп этой толпе, всегда, всегда быть только в общей массе. […]
Хотя я здесь всего лишь один день, мне тем не менее кажется, будто я тут уже многие месяцы; это все, видимо, из-за снега, и я по-прежнему так одинок, как сама смерть. Я слишком переусердствовал в своих надеждах. Конечно, было очень заманчиво. Представь себе: разрешение на мой рождественский отпуск было уже готово; я мог провести с вами целых семь дней, бесконечно долгих дней…
Буду ждать командировки, и если это окажется юг Франции, то есть разлука с тобой, и очень долгая, то я буду молить Бога укрепить наши сердца. Но часто мне мыслится, что я уже достаточно настрадался; тогда я чувствую, как начинаю постепенно выходить из себя. Однако это чистое заблуждение; мне слишком хорошо известно, что страданиям нет меры, в особенности сейчас…
[…]
* * *
Люденшейд, 21 декабря 1940 г.
[…]
Меня уже часто переводили из одних мест в другие, я совершил не один умопомрачительный марш-бросок и проглотил немало мудреных отрезвляющих кушаний, но такого безумия, какое творится здесь, мне видеть еще не доводилось, и в этом безумии виноватых нет, от него страдают как руководители, так и руководимые. Нынешним утром поступил запрос на меня, куда, для какой цели – вообще непонятно; затем после обеда выясняется, что завтра утром меня и еще примерно пятьдесят человек командируют в Билефельд. До сих пор – сейчас десять утра – это безумие еще продолжается; часами простаиваем у вещевого склада, в приемной врача, в канцелярии, а потом – это уже в завершение эпопеи – в темном подвале, где нам выдают рождественские подарки. К великому огорчению, среди них не оказалось сигарет, они здесь самый дорогостоящий товар. Я теперь набиваю трубку всем, что вообще может называться табаком. Мне еще надлежит упаковать мой багаж, мы отправляемся завтра утром часов в восемь; к тому же у меня целый чемодан всяких личных вещей; завтра мне предстоит битый час тащить все это барахло до вокзала. И тем не менее я благословляю, благословляю тот день, когда покину наконец это место и окажусь на «такой надежной родимой стороне», ежели можно так выразиться солдату. В общем, я рад моему переводу в Билефельд…
Стало быть, вполне вероятно, что мы будем вместе праздновать Рождество в Билефельде или еще в какой-нибудь дыре поблизости, потому что отпуска, естественно, не предвидится, а без отпускного свидетельства ехать отсюда в Кёльн просто безумие… Выходит, нам остается только ждать, пока окончательно не прояснится наше положение в Билефельде, не исключено, что мы будем там охранять пленных[20]20
Первые военнопленные прибыли в Билефельд в конце 1939 г.; их должны были использовать на уборке овощей в хозяйствах, расположенных в окрестностях города. Поскольку пребывание Бёлля в Билефельде было недолгим, он не участвовал в охране пленных.
[Закрыть].
Меня попросту вырвали из моих грез о будущем, и теперь я никак не могу собраться с мыслями и спокойно продолжить письмо, ибо передо мной возвышается огромная куча багажа, который, еще не знаю как, придется тащить с собой.
Необычайно рад новому повороту событий… Кажется, теперь я снова понемногу приду в себя, правда, поначалу придется туго с твердо установленными часами дежурств караула – в течение четырех месяцев я вообще не нес караул, – но зато хоть уверен, что у меня, по крайней мере, единственный раз за долгие месяцы появилось постоянное место несения службы. Это много значит, очень много… Будем надеяться также на приличное жилье, и тогда я смогу тебе писать, писать, писать…
[…]
* * *
Билефельд, 5 января 1941 г.
[…]
Один час из восьми уже позади; в такую стужу мы меняемся через час, так что вместо четырех раз по два часа каждый должен стоять по часу восемь раз. А час даже в эту ледяную стужу проходит очень быстро; все вокруг белым-бело, вдалеке за нашим забором чернеют голые деревья и небольшие, покрытые рощами холмы; деревья словно замерли, и повсюду на фоне этой белизны черными кляксами выделяются летающие или расхаживающие по земле вороны. Часто, громко каркая, они стаей проносятся надо мной и затем садятся поблизости, будто для поминальной трапезы, а где-то далеко между заборами и белыми домами быстро движется, семеня ногами из-за гололедицы, человек; однако такое случается редко; но даже если он очень далеко, все равно заметно, как ему холодно и как он спешит поскорее нырнуть в укрытие. Небо светло-серое, без малейшего оттенка; если бы оно было чуточку помягче, то пошел бы снег, посыпался бы крупными хлопьями. Однако пока ясно и морозно, и время будто остановилось в этот воскресный вечер. Если же я повернусь, то увижу наш двор, застроенный современными белыми ангарами; с тыльной стороны между ними стоят повозки, большие и маленькие; они все выглядят одинаково, верхушки оглоблей образуют удивительно четкую пунктирную линию, и если посмотреть сквозь правое переднее колесо первой повозки, то увидишь все передние колеса, вплоть до последнего. Достаточно лишь бегло взглянуть на эти ряды, чтобы убедиться, что они составляют снаряжение армии, которую не победили и не победить. Именно так; перед мои взором оживает самая прекрасная картина Брейгеля[21]21
Видимо, Бёлль имеет в виду картину Питера Брейгеля с зимним пейзажем «Охотники на снегу» (1565).
[Закрыть], а если чуточку поверну голову, то увижу Пруссию, но я привык к самым ужасающим контрастам, так что подобная комбинация меня не пугает. Каждый вечер из тех долгих наипрекраснейших четырнадцати дней, что ты провела со мной здесь, я прямо от тебя возвращался в казарму; более разительных контрастов всего лишь за какие-нибудь полчаса вынести невозможно…
Вот и второй из восьми часов моей вахты позади, на подходе третий; половина восьмого… Тебе когда-нибудь доводилось в течение пятнадцати минут пристально и неотрывно смотреть на зимний ландшафт? Сначала ты воспринимаешь все исключительно в белом, черном и сером цвете. И тебя удивляет, отчего же все так прекрасно; но если ты вглядываешься дольше, то вдруг замечаешь, что белый цвет чуточку отдает желтым, а вокруг черных деревьев и кустов, словно последний мазок осени, дрожит едва заметное красноватое марево, вдали же, у самого горизонта, поднимается по-настоящему голубой туман; он живет, он не мертвый и не бесцветный, как мы привыкли считать.
[…]
* * *
Билефельд, 12 января 1941 г.
[…]
Скоро полночь, я усталый, голодный и грязный – на удивление все почему-то становятся грязными, когда несут караул, – к тому же я стянул с себя сапоги и теперь мечусь по комнате в тапочках, что уже совсем не по-военному. От усталости мое лицо совершенно серое, а от беспрерывного курения под глазами пролегли черные тени. При виде меня какой-нибудь сумасшедший лейтенант мог бы по праву сказать, что я «романтический слюнтяй»…
Уже четверть первого, понедельник, а в среду, если все сложится удачно, я буду в Кёльне. Но это может случиться и в четверг или в пятницу, ибо сегодня днем я прослышал, что австрияки, которые сменяют нас, из Кёльна до Билефельда едут двадцать один час, однако наберемся терпения…
Я бесконечно и с каждым днем все сильнее радуюсь встрече с Кёльном, естественно, с домашними и предвкушаю заботливый уход, в чем я необычайно нуждаюсь. Знаешь, я по-настоящему грязная свинья; когда я внимательно рассматриваю свою одежду – что бывает обычно в минуты слабости, – меня просто тошнит. Я очень люблю чистоту, ухоженность, но зачастую не склонен ради этого жертвовать своей леностью. Мои волосы сильно отросли и скоро закроют уши, но на меня уже которую неделю наводит ужас одна только мысль об очереди к парикмахеру, поэтому я все время оттягиваю этот визит. От грязи и пота мои чулки, почитай, протухли и износились, но ты напрасно считаешь, что я мог бы постирать их и сам или вовсе отдать в прачечную. Носовые платки – но об этом я лучше умолчу… Просто я ужасный пачкун, вот и все, единственно, что я регулярно мою, это руки и лицо (до шеи) и – я не вру! – зубы. После того как мой брат Альфред спросил меня, уж не кремом ли для обуви я их чищу, я ухаживаю за ними с таким усердием, что они даже кровоточат…
Ужасно, но каждые пять-шесть минут в комнату входит то один, то другой, чтобы узнать, когда отходит поезд, либо сообщить о своем отбытии в отпуск, или же заявляется какой-нибудь ночлежник, и я должен разместить его, а после привести все в порядок; кроме того, я должен еще спуститься в подвал и подбросить угля в топку, разбудить кого-нибудь, чей поезд вот-вот прибудет; но, несмотря на все это, я не злюсь и не раздражаюсь, и все, конечно, потому, что я уверен: впереди – Кёльн.
Уже четверть второго; на счастье, за такой работой времени не замечаешь, через полчаса лягу спать, мой сменщик спит так безмятежно, что я никак не могу решиться разбудить его, к тому же мне вообще не хочется спать, хотя я и очень устал. Только что начал читать один увлекательный «тридцатигрошовый роман»[22]22
Книжная серия «Тридцатигрошовый роман» была создана берлинским издательством «Ауфвэртс» в 1936 г. и просуществовало до 1944 г. Это были дешевые (за 30 пфеннигов) издания определенного формата, небольшого объема и в мягкой обложке, преимущественно развлекательная, приключенческая и криминальная литература. Иногда в ней выходили и произведения классиков, но в произвольно сокращенном виде.
[Закрыть]; это единственная литература – представляешь себе? – которую я могу читать без напряжения и переутомления. Знаешь, как это называется?..
Завтра, завтра упаковываем вещи; это слово пьянит меня, потому что оно доказывает реальность столь невероятного события…
[…]
* * *
Билефельд, 13 января 1941 г.
[…]
Только что узнали подробности нашего отъезда в Кёльн, которые, естественно, не основательны, более того, даже весьма сомнительны; предположительно, мы выезжаем утром в среду в 10.21 – безусловное опоздание не в счет, – прибудем в Кёльн около шести вечера. А если будем пешком добираться до Мюнгерсдорфа, да еще выгружать и распаковывать вещи, тогда в среду мне и подавно не успеть, я позвоню тебе домой… Но не рассчитывай на мой приход в среду вечером; очень вероятно, что мы сильно опоздаем, так что я даже не сумею освободиться вечером в среду; ежели в четверг я не стану очередной жертвой злобной выходки, как здесь обычно принято встречать «новеньких», и отстою в карауле днем, то мы непременно увидимся в четверг. Я безмерно зол на ландесшутценферайн[23]23
Объединение оборонного значения, включавшее в себя части, батальоны и роты, основной контингент которых составляли призывники более старшего возраста, а также бывшие осужденные и предназначенные для использования на объектах оборонного значения и на разных работах внутри страны.
[Закрыть]; нас всегда, всегда обгадят; ах, об этом вообще-то и говорить не стоит, тем более что злишься всего какую-то минуту. Я могу от всего сердца послать их ко всем чертям…
Только в Кёльне я вздохну с облегчением, оживу, воспряну духом и смогу каждую свободную минуту снова жить в атмосфере, сообразной мне; с другой стороны, вследствие контраста – хуже не бывает! – служба покажется мне еще горше, но в любую, любую свободную минуту я буду исчезать, […] как-то я писал тебе, что все, что у нас дома прежде говорилось о военщине, лишь отдаленно напоминает правду; знай, для этого понятия даже нет определения, или его приходится заменять длинными-предлинными описаниями, если ты стараешься все-таки найти его, однако на это всегда не хватает времени; к тому же в этом случае описание получится чересчур научным и необычайно громоздким, а ведь важно суметь убедительно изобразить живую, пеструю, красочную картину. […]
Каждую секунду я безмерно страдаю от необходимости носить униформу, каждую секунду, если только не нахожусь у тебя или дома; мне не всегда удается избавиться от нее, в этом случае на душе у меня становится просто хуже некуда. Часто от гнева и боли я прихожу в ярость и тогда громко и долго ругаюсь, а после этого мною овладевает ужасно скверное настроение, оттого что метал бисер перед свиньями. Предавая наши истинные чувства, нашу настоящую жизнь, мы всегда, всегда швыряем бисер в омерзительный свиной навоз, но свиньи никогда, никогда не смогут понять нас. […]
Знаешь, самое отвратительное в нашей жизни – это постоянные унижения перед всеми и во всем; часто я задаюсь вопросом, как вообще мы все это выдерживаем? Хорошо еще, что теперь меньше, чем вначале, задумываешься над этим. Естественно, я знаю, что в принципе меня никто не сможет унизить, если я этого не захочу, никто не сможет отнять у меня человеческое достоинство, но ведь мы мямли, неминуемо обреченные на бессилие. Не имеет смысла пытаться в подробностях и деталях объяснять это на примерах; невозможно с достоверностью – с полной достоверностью – пересказать какое-нибудь происшествие; для этого необходимо уловить атмосферу, в которой случилось это происшествие, и разъяснить все особые обстоятельства. […]
Я несказанно устал от безобразных издевательств нынешней ночью, самое лучшее сейчас – выпить бутылку пива и завалиться спать, спать…
В ожидании встречи с Кёльном я буду каждую секунду почти умирать от нетерпения, но эти несколько дней тоже пройдут. Бог поможет мне перенести их. Завтра предстоит еще раз пойти в караул, работать; ах, иногда – всего на несколько часов – мною овладевает ненависть к физической работе, на которую у меня не хватает ни сил, ни терпения; порою она доставляет мне радость, но большей частью я поглядываю на часы и всякий раз испытываю разочарование оттого, что время течет слишком медленно. Всему, всему однажды приходит конец. Я все вынесу, пока Господь взваливает это на мои плечи; мне тяжело, но я вынесу…
[…]
* * *
Кёльн-Мюнгерсдорф, 12 февраля 1941 г.
[…]
Можешь себе представить: надежда на новый отпуск осталась втуне, это уже данность и изменению не подлежит. Но разве не странно, что я не в полном отчаянии? Напротив, я предчувствую, что Бог мне поможет. Практически я даже не знаю, как и каким образом, но твердо убежден, что помощь придет. Мое доверие никоим образом не пошатнулось вследствие этой несбывшейся надежды. Бог не допустит, чтобы я духовно изнемог, чтобы абсолютно безрезультатно, в расстроенных чувствах сновал бессмысленно туда и сюда, изнывая от мук и претерпевая боль. Он не допустит, чтобы погибло мое истинное стремление познать сущность духа. Прежде меня всегда тянуло к книгам, у меня действительно было желание раскрыть себя, насколько это мне по силам, не учиться… не слоняться годами по университетам – чему можно научиться в университете? – нет, я только хотел по возможности быстро создать финансовую базу и уже тогда писать, […] но веришь ли ты в то, что мое страстное стремление действительно погибло? После этих двух лет нескончаемых страданий мои желания так далеко не заходят, я вижу свое счастье лишь в том, чтобы сидеть подле тебя со стаканом вина и выкуривать изредка сигарету. Конечно, я не считаю это предосудительным и никогда бы не считал, но ведь одно это не может составлять смысл жизни мужчины; вот поэтому я еще не расстался со стремлением раскрыть свой талант и работать над ним. Это желание не угасло, часто оно, дурманя сознание, с неистовой силой овладевает мною, но пока по своей силе и характеру оно отдаленно напоминает память; я продолжаю влачить жалкое существование по-прежнему в полной – абсолютной! – бездуховности, она почти убила меня, почти, но не совсем, и никогда не убьет, потому что слишком живуча моя всеуничтожающая ненависть; не будь ее, я бы давно пропал. […] Но ежели я буду принужден влачить такую жизнь примерно год или больше, то уже никогда не обрету в себе сил посвятить себя духовной работе; Бог не оставит меня надолго в этой пустыне, я твердо уверен в этом. Знаешь, последнее время я совершенно без сил и не в состоянии даже час тратить на занятия голландским языком или даже просто читать философскую литературу… Не напрасно Бог одарил меня такой тонкой впечатлительностью и не напрасно заставил так страдать; мне определенно предназначено судьбой выполнить некую задачу, о которой, быть может, я даже не подозреваю; Он даст мне силы и возможность выполнить ее… Я думаю, мне поручено проникновенно сказать всем людям, что нет ничего более таинственного, более достойного почитания, чем страдание; ничего, что даровано непосредственно нам, именно даровано, а не возложено на нас. Это действительно милость Божья, если нам дано страдать, потому что тогда неким таинственным образом нам будет дозволено уподобиться Христу. Я не нахожу сейчас подходящих слов, чтобы сказать тебе, насколько я исполнен этой тайны; но разве это не чудо, что я должен был появиться на свет в ту эпоху, которая отвергает страдание…
Я действительно поглупел; мои ощущения пожирают мой мозг…
Однако я никогда не отчаиваюсь, я бываю часто печален, и эта печаль громадным черным грузом до необычайности отягощает мою душу, но я никогда не отчаиваюсь, просто я слаб, очень, очень слаб…
И тем не менее ни на секунду не верю в безысходность будущего…
[…]
* * *
Мюнгерсдорф, 17 февраля 1941 г.
[…]
Сегодня утром я наслаждался «прекрасными часами моей жизни», «сверхпрекрасными»; дело в том, что я увильнул от похода в кино[24]24
Посещение кино в часы досуга в воинских частях было обязательным.
[Закрыть] и в ожидании генерала – ой, не предатель ли я, ибо произношу этот титул без должного почтения, словно говорю «капрал», – прибрал немного комнату, чуточку почистил тут и там и уселся за роман «Дело Деруга»[25]25
Роман Рикарды Хух (1864–1947) – известной прогрессивной немецкой писательницы, открыто выступившей против фашистской диктатуры, в результате чего ей пришлось эмигрировать из страны. Роман «Дело Деруга» посвящен судьбе врача, представшего спустя 17 лет после смерти жены перед судом по обвинению в ее отравлении.
[Закрыть]. Потом вошел генерал, довольно важный, все осмотрел, расспросил о том о сем, так, en passant[26]26
Мимоходом, между прочим (фр.).
[Закрыть], и знаешь, о чем он спросил меня, генерал – меня? «Тебе не нравится быть солдатом, мой сын?» И я в присутствии полдюжины офицеров высшего комсостава мужественно промолчал, хотя из меня так и рвалось наружу рабское и чисто автоматическое: «Так точно!» Только представь себе меня с единственной крошечной звездочкой[27]27
Речь идет о значке, определяющем ранг рядового пехоты.
[Закрыть] на левом рукаве и его, со сверкающими красными отворотами шинели и в отливающем золотом мундире, но я промолчал… и господин генерал отвел глаза…








