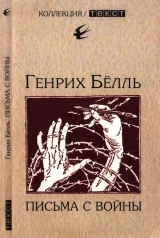
Текст книги "Письма с войны"
Автор книги: Генрих Бёлль
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Всю вторую половину дня я добывал провизию; сеял мелкий, но спорый дождь, похожий на густой туман, теплый, благодатный дождь, как в мае; я был совсем один на длинных, прямых, пустынных улицах, ведущих от деревни к деревне; прекрасная поездка, хотя и бесплодная: я выцыганил всего семь яиц, по одному на каждого, но что поделаешь, продуктов становится все меньше и меньше, самое же непостижимое состоит в том, что вопреки всему без марок за валюту такой же ценности можно получить гораздо больше, чем с марками по нормальной цене; коррупция и спекуляция цветут пышным цветом, крестьяне, завидя солдата на своем дворе, естественно, уже знают, какую он заведет песню; тут уж никакие уговоры не помогают, у них просто ничего нет, «pas du tout, du tout»[91]91
Вообще ничего, совершенно ничего (фр.).
[Закрыть]; в первую очередь я высматриваю гуся, которого потом постарался бы переправить вам к Рождеству, но оказывается, они уже давно кому-то проданы, и за очень большие деньги; однако тщетность моих усилий не остудила мой пыл, великолепная получилась вылазка, я был один, совсем один с моими мыслями, ах, не совсем честными мыслями, но совершенно один; колеся так по сельским дорогам, я остановился однажды отдохнуть в маленькой придорожной пивной; удобно расположившись у печки в чистой жилой комнате, я наблюдал за пожилой женщиной, штопавшей чулки; хорошенькая, совсем еще молоденькая дочка сидела на печи и читала любовное письмо от немецкого солдата, как выяснилось позднее, потому что мне пришлось помочь ей с переводом, очень милое, еще детское письмо юного солдата, которого несколько месяцев тому назад перевели в другую область Франции; собственно, о самой любви там не говорилось ни слова, но зато в нем было несколько очень нежных, весьма откровенных намеков; мать, видимо, была глуховата, по крайней мере, так казалось, поскольку она ничем не выдавала себя, не все слышала, о чем мы читали вслух; эта история с письмом доставила мне колоссальное удовольствие; милая девочка временами заливалась краской, что вовсе не свойственно француженкам…
[…]
* * *
Западный фронт, 10 декабря 1942 г.
[…]
Часто мне хочется просто сесть в поезд и поехать домой; ах, чудесная поездка, полная напряжения и ожидания, а потом прибытие на Кёльнский железнодорожный вокзал, что всегда необычайно волнует, это настоящее возвращение в родной дом, в волшебный город Кёльн; есть что-то необыкновенное в том, когда еще издали, где-то между Дюреном и Кёльном, ты видишь собор; он является символом целого мира мыслей, идей, человеческих возможностей, Господи, благослови Рейнскую землю и Рейн, величественную реку Европы – так я считаю; конечно, не хочется быть настолько бессовестным, ведь я еще не видел многих рек Германии, однако уверен, Рейну нет подобных; почти каждый день моей юности – по крайней мере, пока мы жили в городе – проходил на Рейне, или же я непременно видел его хоть раз в день; как же чудесно было зимними вечерами, когда вокруг, куда ни глянь, не видно ни души, бродить вдоль Рейна, полностью погрузившись в свои мечты, единственную нереальность бытия, исполнившись горячего желания познать истинную кровавую реальность жизни, с которой ты уже соприкоснулся; униформа швырнула меня в совершенно иную реальность, причинив мне нестерпимую боль, […] тогда, в мюльгеймской казарме, я и вправду был так далек от этой жизни, что чуть не превратился в пьяницу или – ах, существуют тысячи возможностей погрязнуть во грехе. Но война вконец испортила мои нервы; мне бы успокоиться, немного успокоиться, тогда я опять мог бы работать, я знаю это и совершенно в этом уверен. Мне кажется, беспокойный дух является частью моей сущности, я действительно, как ни невероятно это звучит, ужасно беспокойный человек; мне всегда надо что-то делать, и я всегда не успеваю…
[…]
* * *
Западный фронт, 13 декабря 1942 г.
[…]
Я одиноко сидел в маленьком баре; собственно, я впервые в жизни очутился в таком заведении, поскольку все другие кафе были полны посетителей; в нем оказалось очень приятно, я, правда, представлял себе бар иным, более шумным; очень хорошенькая юная девушка подсаживалась за столик то к одним, то к другим солдатам и шутила и смеялась вместе с ними; в общем-то ничего особенного, я сидел себе тихо и спокойно, необычайно счастливый, и курил трубку, полностью погрузившись в свои мысли; время от времени я просил девушку принести мне рюмку аперитива, и всякий раз она так многообещающе улыбалась, что я тоже улыбнулся ей, но, видимо, моя улыбка, слава Богу, не получилась достаточно многообещающей; за другим столиком сидели с несчастным видом шестеро солдат; все они были необычайно молчаливые и ужасно грустные, все до единого, даже те, за чьим столиком сидела девушка, были молчаливые и невеселые; лишь изредка кто-нибудь из них пытался пошутить; однако по-настоящему безысходно печальными были те шестеро, что со скорбным видом сидели поодаль и тоскливым взглядом сопровождали каждое движение девушки; солдаты вообще производят такое покорно преданное, беспомощное, полное безнадежности впечатление, словно им предстоит вынести тяжесть столетней войны. […] Мне стало не по себе от их горестного вида – в баре находились исключительно одни солдаты! – и между ними порхала прехорошенькая, цветущая и, собственно говоря, предельно простодушная девушка, подобно птичке в ярком оперении на безутешном зимнем сером поле… в этой атмосфере военной печали мне, право, немного жаль было и девушку с ее детским легкомыслием. Никогда не забуду этот маленький бар, бар «You-You»[92]92
До оккупации Франции в этом баре собирались коммунисты местного отделения Компартии Франции.
[Закрыть], где повстречал воскресным вечером таких грустных и подавленных солдат и эту улыбчивую прелестную юную француженку рядом с ними, словно потерявшуюся птичку; у детей и по-детски наивных людей солдаты всегда вызывают симпатию, и она была, видимо, еще совсем ребенком и потому ко всем нам относилась дружески; но лицо ее выражало смущение, вызванное такой удручающей атмосферой тихой и неизбывной тоски…
[…]
* * *
Западный фронт, 14 декабря 1942 г.
[…]
Наступила новая неделя, ее первый день уже клонится к закату; собственно говоря, я счастлив, что он заканчивается, понедельник всегда день особенный, все люди в плохом настроении и немного раздражены, потому что снова начались рабочие будни; во вторник станет значительно лучше, а дальше, вплоть до субботы, настроение повышается с каждым новым наступившим днем и остается таковым до воскресного вечера…
[…] в роте царит странная атмосфера подтасовок и нечистоплотности, мне это совсем не нравится, не удивлюсь, если мое нынешнее заявление об отпуске тоже засунут куда-нибудь и мой отпуск отодвинется на следующий срок; в этой самой мерзопакостной в мире корпорации, у военных, возможно все…
Почта пришла сегодня очень поздно, как я слышу – только что, а вместе с ней и маркитантские товары; всякий раз это целое событие: раз в месяц мы можем дешево купить свои пятьдесят сигарет, этому всегда сопутствует великая борьба и необычайное волнение, долгое выстаивание в очереди со всевозможными проклятиями и руганью; надо признать, что вообще-то солдаты всегда ругаются и сквернословят, не гнушаясь не в меру крепкими словечками; если к этому отнестись совершенно серьезно, можно предположить, что не иначе как сегодня вечером разразится революция, оттого все ужасно подавлены и вызывают жалость, по крайней мере, такое впечатление они производят.
Война постепенно приобретает серый безутешный облик, уже не такой победоносный и опьяненный успехами, как вначале; она становится суровой и горькой, а мы – бесконечно одинокими. Господи, сделай так, чтобы все получилось; просто ужасно, если все опять будет зря, то есть «зря» ничего не бывает, любое страдание, боль приобретает свой смысл в Боге, через крест; но я считаю, что было бы опять-таки печально, окажись эти страдания – в чисто политическом смысле – для народа вновь напрасными; мы прожили уже точно двадцать крайне бедных и безотрадных лет после Версаля; так должна же эта война дать нам хотя бы маленькую, пусть даже крошечную, передышку; мы, наше поколение, вообще не помним мира, мы вообще не понимаем, что значит – нет забот, нет страха, нет голода… нас всегда, всегда окружали безысходная нищета и нужда; Господи, подари нам возможность хоть одним глазком увидеть мир, чтобы мы смогли хотя бы рассказать нашим детям, что это такое…
Он должен быть чем-то несказанно прекрасным, этот мир; свободу мы познали в общем-то совсем недавно, я вспоминаю о том времени с щемящей тоской; а вот мира, мира мы так и не узнали. […]
Здесь… омерзительно, омерзительна сама атмосфера в роте, везде подтасовки и нечистоплотность, по крайней мере, мне так кажется; единственно приятной личностью является наш новый ротный, лейтенант; только сейчас, спустя почти месяц, я вдруг понял, кого он мне напоминает; я долго наблюдал за ним и все пытался вспомнить, на кого он похож, и вот сегодня меня вдруг осенило: он похож на Вильгельма Майерса, и даже очень сильно; он, правда, не такой крупный и не такой обаятельный, но поразительно похож…
Война стала нашей жизнью, я почти уверен в этом, по крайней мере, она составляет большую часть нашей жизни; мы не хотим с излишней печалью вглядываться в будущее, ведь когда-нибудь опять возникнет потребность в «академиках», и я очень надеюсь, что это коснется всех факультетов точно так же, как сейчас медицинского; невозможно, чтобы в университетах училось лишь несколько девушек; ежели в будущем году война окончательно примет более благоприятный оборот, то может статься, что кое-кого из нас и отпустят; я охотно стану работать за рубежом под каким угодно флагом в качестве переводчика или кого-нибудь еще, если мне разрешат взять с собой тебя…
[…]
* * *
Западный фронт, 18 декабря 1942 г.
[…]
Я опять в запарке; один телефонный звонок сменяет другой, и каждый «чрезвычайно срочный»; я разъезжаю на велосипеде по окрестностям города, по колено утопая в грязи, но в определенном смысле эти поездки доставляют мне радость, ибо мои колеса гонят время вперед, только вперед. […]
Я окончательно свихнулся и безмерно устал; порою мне хочется вдребезги разбить этот телефон, поскольку бесконечные капризы господ офицеров и фельдфебелей изводят меня и доставляют массу хлопот. […]
Когда-нибудь действительно пробьет час освобождения, и тогда никакие позументы не смогут больше терзать меня; впрочем, солдаты ведь самые выносливые; немецкий цивильный люд намного хуже, тщеславный, с самомнением, избалованный, требовательный и без малейшего представления о солдатской жизни… однако эта порода не столько мучает, сколько раздражает меня, и без того несказанно унизительно и неприятно возиться с этим народцем. […]
Мне просто до смерти охота заняться полезной, разумной работой; в какой-то мере здешняя суета делает меня даже счастливым; вот только люди, с которыми приходится иметь дело, часто невообразимо глупы. Бывают мгновения, когда я чувствую себя ужасно усталым и не способным к сопротивлению, но часто я просто «по горло сыт всем этим», до отвращения… всей этой жизнью в униформе с ежечасно сменяющими друг друга противоречивыми приказами, требующими непременного выполнения.
Только что меня оторвали от работы… наша охрана привела парнишку, схваченного внизу на побережье в одном из сараев, где он с другими мальчишками воровал дрова и уголь; трое других удрали, а вот этого они поймали; очень славный худенький темноволосый юноша, примерно девятнадцати лет, с выражением суровости на лице и почти аскетизма, что обычно свойственно рыбачьему люду…
Едва увидев парня, я устыдился своего богатого ужина, да, это было первое, что я почувствовал, я устыдился толстого бутерброда и моего любимого супа с лапшой; я допрашивал его в присутствии двух унтер-офицеров и двух фельдфебелей, будь я один, я сказал бы ему, что не стоит бояться; сначала он, естественно, все отрицал и уверял, что не знает других; допрос получился очень коротким, потому что мне не интересно выуживать из него показания; потом записали его имя и препроводили во французскую жандармерию, где все начнется сызнова; после этого я распорядился, чтобы его отпустили домой. Но прежде мне пришлось вместе с ним притащить обе корзины, что все еще стояли на набережной. Мы не произносим ни слова, внизу раскинулось море, волшебно прекрасное в светлую, ясную лунную ночь, и на его легких волнах покачиваются черные лодки; на пешеходной дорожке одиноко и сиротливо стоят обе корзины. Мы берем по одной, и спокойно, как хорошие товарищи, несем их в комендатуру, мне хочется сказать парню, что ему нечего бояться, но я ничего не говорю, поскольку, на мой взгляд, это будет воспринято как сочувствие, поэтому мы прощаемся коротким «au revoir», я смотрю ему вслед и вижу, как он бежит по освещенной улице, старательно обегая лужи…
Этот парень, этот безобидный парень со смуглым лицом, худой и голодный… Они обрушат на него настоящий бумажный поток, я с ужасом думаю об этом, Господи, помоги ему!
Я действительно часто стыжусь своей хорошей жизни; странно, но мне стыдно перед солдатами и перед гражданскими тоже, хотя здесь все не так уж и благополучно; когда я увидел этого парня, то сразу понял: это я виноват в том, что он ворует дрова; да, я искренне завидую его бедности, удивительному величию духа, его холодной, «притворной» неосведомленности; было бы ужасно, окажись я богатым; помоги мне, Господи, снова стать совсем бедным; совсем бедным, а не сердобольным богачом; о-о-о, это было бы самое ужасное, поэтому я непрестанно молю Его оставить мое сердце несчастным и бедным, всегда, всегда только бедным… Ни за что на свете не хотел бы потерять это стремление; только бы ощущать единение с каждым нищим, с наинесчастнейшим из несчастных.
Мне всегда хотелось быть бедным, таким, кто идет ночью воровать дрова; ах, как часто я не только ночью, но и днем… Господи, никогда не мечтал о спокойной, полностью безопасной жизни; иначе можно легко потерять Бога… так что этот худой, смуглый юный рыбак воистину явился мне как предостережение, как серьезное и суровое предостережение, которое я хочу буквально вписать в мою совесть.
[…]
* * *
21 декабря 1942 г.
[…]
Мои мечты исключительно об отпуске; работа множится на моем столе, а я сижу себе у окна и бессмысленно таращусь на идущих мимо прохожих; иногда мое сердце вдруг вспоминает о работе и испуганно замирает, но это быстро проходит; потом я усердно тружусь два-три часа кряду, после чего седлаю своего двухколесного коня и стремительно мчусь по улицам города и в течение часа завершаю все спешные дела… и уж после этого могу со спокойной совестью весь вечер просидеть за письменным столом, окунувшись в мир грез… Нет, не позволю мучить себя в эти дни, попросту устрою себе «рождественские каникулы»…
Как же чудесно сидеть вот так за письменным столом в неверном сумеречном свете – сумерки наступают теперь довольно рано, – смотреть на торопливых прохожих и мечтать о жизни… и при этом непременно курить сигарету, превосходную немецкую сигарету; иногда раздается стук в дверь, я кричу: «Entrez!»[93]93
Войдите! (фр.).
[Закрыть], входит посетитель, и я разговариваю с ним, затем быстренько печатаю на машинке справку, ставлю на нее две жирные печати, даю советы, что делать дальше; это спокойное прекрасное время дня; иногда же мне приходится торопить рабочих, доставать что-нибудь архиважное, от сливочного масла для коменданта до печки для зенитки; как же хорошо сидеть возле окна в сладостной праздности, в мечтах, мечтах о жизни. […]
Вот уже несколько часов воздушное пространство над нами наполнено назойливым гулом; беспрерывно злобными стаями самолеты устремляются в глубь нашей страны; часто лают пулеметы, словно взбесившиеся маленькие собачки, а зенитки… но, вполне вероятно, это совершенно безобидные полеты, просто я волнуюсь, что они там у вас еще натворили. Я узнал от Тильды, что Альфреда опять вызывают на освидетельствование[94]94
В 1941 г. брат Г. Бёлля Альфред был освобожден от службы в армии по состоянию здоровья. В январе 1943 г. его вызвали на комиссию для медицинского освидетельствования, но снова не признали годным к военной службе, и он смог продолжить учебу в Кёльнском университете.
[Закрыть]. Ужасно, если его снова заберут; сейчас везде настроение солдат очень мрачное и подавленное, Альфреду будет необычайно тяжело, но, может, все обойдется, я очень этого хочу; остается только надеяться, что ему все-таки повезет, будет просто ужасно, если его опять вырвут из привычной обстановки и возобновится вновь безотрадная служба в зенитных войсках, я надеюсь получить вскорости известие, что все счастливо разрешилось…
Дни в бешеном темпе пролетают один за другим; все происходит, как во сне; для меня они практически проходят в грезах; завтра с утра меня ожидает множество разных предрождественских дел: достать елки, подставки к ним и лапник. Вечерами к нам теперь постоянно приходят в гости наши товарищи послушать радио, от этого, конечно, становится неуютно, а я уже настолько избаловался, что в таком гаме больше не могу писать… Наше радио, слава Богу, не совсем в порядке, так что днем оно пребывает в тишине, вечерами же, как правило, оно оживает, и ему даже удается порой издавать звуки, похожие на человеческие, – это уж для нас настоящий праздник…
Всех нас охватило предрождественское волнение, самое большое и по-настоящему ощутимое волнение: подарят ли нам сигареты и будет ли при этом, как всегда, процветать подкуп или нет; вряд ли стоит ожидать от нас праздничного настроения, у войны теперь несказанно печальное лицо; судя по тому, что происходит на фронтах, нас ждет либо конец, либо даже мир…
[…]
* * *
Западный фронт, Рождество 1942 г.
[…]
Грандиозный ротный праздник уже позади, но еще очень рано, всего семь часов, поэтому мы вполне можем опорожнить имеющиеся у нас бутылки; мне совсем не грустно, только несколько удручает раздражительность остальных, все крайне обозлены и не в духе, и я не могу докопаться до причины…
У радио сегодня прорезался настоящий человеческий голос, для меня это огромная радость…
Вот только плохо, что нынче не будет почты, по пути сюда поезд потерпел крушение, именно тот поезд, который должен был привезти нам единственно истинную радость. Ну что может значить для нас гора кексов или шесть трубочек с леденцами от вермахта; подарки от вермахта какие-то странные, там не умеют дарить; праздник получился очень милым, действительно очень милым, наш лейтенант редко бывает разумным, здравомыслящим и великодушным человеком, но на сей раз он произнес довольно неплохую, правда, не совсем связную речь; потом был исполнен гимн рождественской елочке «О Tannenbaum» – немыслимо глупый фарс, отчего у некоторых немного увлажнились глаза, н-да, но все – слава Богу – обошлось; однако подобные традиции не трогают душу, они необычайно пустые, в них нет веры в Бога, во время таких торжеств меня это более всего удручает; на празднике присутствовал и командир полка, полковник, он тоже выступил с речью, достойной профессионального солдата, для которого на свете не существует ничего, кроме Пруссии, ну, это тоже можно было выдержать…
Господи, помоги мне сохранить мое бывалое, свободолюбивое сердце штатского человека, которое все еще предпочитает любого бродягу солдафону, сохрани, Боже, мою прирожденную ненависть к жизни, устроенной не по нашей мерке. […]
К сожалению, мне пришлось выслушать еще и речь рейхсминистра д-ра Геббельса. Ну, такую речь забыть недолго…
Однако это самое большое преступление, какое только возможно совершить против павших; величайшее преступление против всего хорошего – произнесение пустых слов. Елей… Ужасно слышать, как этот человек произносит строки из стихов Гёльдерлина[95]95
В своей речи «К военному Рождеству 1942 г.» Геббельс цитировал строки из стихотворения «Смерть за Отечество» (1799) знаменитого раннего романтика Фридриха Гёльдерлина (1770–1843).
[Закрыть]… Куда еще это может завести Германию, нашу поистине великую, хорошую и благородную Германию. Ужасно, что приходится слушать столько ничего не значащих речей и лжи; почему только…
Для нас все было бы значительно проще, если бы нам открыли правду, суровую правду; но эта слащавая, омерзительная болтовня – самая настоящая, не поддающаяся определению подлость; поистине, самым тяжким преступлением является пустословие…
[…]
* * *
Западный фронт, 25 января 1943 г.
[…]
Сегодня у меня небольшая предотъездная лихорадка, которая никак пока не проходит, поскольку завтра мне предстоит поехать в Амьен, в госпиталь на обследование, это очень важно… потому что у меня ужасно и подолгу болят глаза и голова; кроме того, все сильнее и настойчивее стали заявлять о себе ноги, поэтому сегодня я сказался больным, и врач направил меня в Амьен на консультацию к специалисту, это прежде всего касается глаз, на которых образуется конъюнктивитное нагноение. Подергивание глаз – тоже какая-то патология, которая в последнее время очень часто мне докучает; но главное – адские головные боли; я с нетерпением жду, что мне скажут в госпитале, во всяком случае, очень волнуюсь, к тому же надо рано встать, примерно в половине пятого, чтобы не опоздать на поезд.
Завтра еще раз увижу Амьен, город, где осенью сорокового года я так долго пролежал в отличном госпитале, который дал мне приют, пока я не нашел тебя; может быть, попаду опять в него; я просто сгораю от любопытства, что на сей раз в этом госпитале уготовила для меня судьба!
Может статься, что завтра вечером я вернусь назад, но я рассчитываю на длительный срок; кто знает…
[…]
* * *
Западный фронт, 28 января 1943 г.
[…]
Все-таки симуляция серьезной болезни тоже изматывает, ты понимаешь меня, но я счастлив, что не надо будет целый день ползать по грязи, подгоняемый спринтерским рыком. Завтра еще раз пойду к нашему врачу, а в субботу, вероятно, переберусь в госпиталь; если бы только приходила почта, если бы я был уверен, что буду там каждый день получать письма, я форсировал бы переезд и мог бы уже сегодня оказаться в лазарете, чтобы поскорее пролить свет на мою болезнь; а в субботу я непременно переберусь туда, будь что будет, все равно это не может долго продлиться, к тому же я могу попросить переправлять для меня почту прямо в госпиталь.
Хочу рассказать тебе маленькую историю, нечто особенное; иногда я бываю со своим напарником по комендатуре в уютной маленькой пивной, которую содержит одна молодая чета; она блондинка, чистенькая и свеженькая, почти как северянка, в этом типе француженок куда больше французского, нежели в темноволосых, они полны совершенно особенного, не поддающегося описанию обаяния; муж – темноволосый, худощавый, вечно с зажатой между зубами сигаретой, очевидно, его основное занятие состоит в том, чтобы сидеть в пивном зале и время от времени заводить разговор со случайными посетителями; мой напарник уже давно возмущался ничегонеделанием этого человека, и вот в прошлый раз, вечером, когда мы оказались с хозяйкой одни, мой товарищ допустил бестактность, спросив ее, как это ей удается делать одной всю работу, в то время как муж совершенно откровенно лодырничает, на что женщина, ничуть не возмутившись и не вознегодовав, слегка улыбнулась и сказала: «Mais, Monsieur, il m’aime done!»[96]96
Но, мсье, он ведь любит меня! (фр.).
[Закрыть] Для начальника канцелярии берлинской коллегии адвокатов это, естественно, было совершенно непонятно!!
Я нахожу историю весьма забавной, а ответ женщины просто не имеющим цены, однако для мужа это ужасная оценка…
День в Амьене выдался по-весеннему сияющий, пьянящий, солнечный, но мне было грустно и больно от вида этого города; эта «новая жизнь из руин» безмерно огорчила меня; некоторые места выглядели довольно трогательно и симпатично, но в общем и целом эта бутафорская ярмарка с ее палатками производила ужасающее впечатление; единственную радость доставило мне посещение ювелирных магазинов, где я просил показать мне красивые колье и кольца, а потом с невинной миной выкладывал на стол немецкие марки, но, к сожалению, трюк не удался!
И Амьенский собор… каким же прекрасным был концерт для органа, мне казалось, он звучал только для меня одного, его исполнял не великий музыкант, но мастерство органиста было настолько совершенным и зрелым, что я долго оставался под впечатлением этой музыки.
Мне опять надо попрощаться с тобой, я уже издали слышу, что рота с песней возвращается назад, стало быть, настал конец этому маленькому перерыву…
[…]
* * *
Западный фронт, 29 января 1943 г.
[…]
Сегодня днем я не сумел написать тебе, потому что во время перерыва пришлось перебираться в другое помещение, – ну надо же, именно в последний день; новая комната лучше и теплее и, благодарение Богу, с деревянным полом; только мне не придется этому долго «радоваться», потому что рано утром, около пяти, я уезжаю в госпиталь…
События под Сталинградом воистину до ужаса скорбные, я могу их себе только приблизительно представить, по-моему, можно просто с ума сойти вот так днями и неделями постоянно смотреть в лицо смерти, как зверю, который подходит все ближе, становясь все больше и грознее… Я кажусь себе поистине жалким со своими болячками, с вечно больным телом и слабой душой, и мне действительно стыдно, что завтра из-за каких-то пустяковых болей в голове и глазах я залягу в госпиталь… Дай Бог, чтобы эта сумасшедшая война закончилась и чтобы Германия победила; французы измыслили новую подлость, которая, едва я ее услышал, как громом поразила меня! Правда, эффект потрясающий; они просто пишут на стенах комбинацию цифр: 1918 – без каких-либо комментариев, обыкновенное маленькое грустное число…
Ах, я не верю в то, что может повториться тысяча девятьсот восемнадцатый год, совершенно точно: он не повторится. Если для нас война кончится плохо, то это произойдет по-другому… Нет, Германия никогда не умрет, даже если мы проиграем войну, что вполне может случиться. Я не стал другим… я по-прежнему ненавижу недостойную человека прусскую военщину, ненавижу, как ничто на свете, но я бы хотел, чтобы Германия победила…
Быть может, это нелогично, однако любовь и ненависть нелогичны всегда, но это и хорошо.
Мы все впряжены в нашу судьбу, как в одну повозку, вожжами которой являемся мы сами, стремление править и осознание того, что нами правят, в равной степени владеет нами, впрочем, иногда одно, иногда другое; но Бог все же указывает нам направление… гужевую дорогу со всеми ее ужасами и красотами… la route[97]97
Дорога (фр.).
[Закрыть]…
[…]
* * *
Абвиль, 30 января 1943 г.
[…]
Слишком сложная вышла у меня поездка, однако я все еще не добрался до конечной цели; на отходивший в половине седьмого поезд я опоздал на пять минут, и поскольку следующий поезд отправлялся через одиннадцать (!!!) часов, а я не хотел возвращаться в часть, то, недолго думая, я дошел до шоссе, ведущего в Абвиль, и стал ждать попутной машины; эта машина пришла через четыре часа!., и хладнокровно проехала мимо; следующая появилась через час и тоже промчалась мимо… Четыре часа в холоде и под дождем; Господи, становилось уже не по себе, но тем не менее интриговало меня; только ни за какие коврижки не возвращаться назад в часть, ибо пришлось бы трястись еще полтора часа; однако через пять минут после второй машины появился третий автомобиль, он-то и взял меня с собой. Но как же шофер, тоже солдат, вел машину! Он словно издевался надо мной и гнал по-сумасшедшему. При скорости в сто километров он за двадцать минут покрыл такое расстояние, какое бедная пехота обычно одолевает за целый день изнурительного марша. И вот теперь в Абвиле я немного пришел в себя и ожидаю поезда на Амьен; это тот же самый поезд, которым я добирался тогда из Валери в Париж, когда ехал в отпуск.
Погода в этот январский день была чудесной; теплое золотое солнце и многообещающий ветер. […]
Сейчас много говорят о введении всеобщей обязанности служить[98]98
27 января 1943 г. в Германии вышло «Постановление об обязательной явке в полицию всех мужчин и женщин для решения задач по защите отечества». Все проживавшие в рейхе мужчины в возрасте от 16 до 65 лет и женщины в возрасте от 17 до 45 лет были обязаны явиться на биржу труда по месту жительства.
[Закрыть], в том числе и для женщин до сорока пяти лет, пожалуйста, напиши мне, может ли это коснуться тебя! Я непременно должен знать об этом, может, ты тоже рискуешь попасть на какие-то работы! Ах, пожалуйста, сообщи мне, достаточно ли прочное положение занимаешь ты у себя в школе!
Абвиль сильно разрушен, почти так же, как и Амьен; исполненный страха, я шел в направлении железнодорожного вокзала; трехлетней давности руины наводят леденящий душу ужас! А сколько же разрушенных церквей! Только на моем, столь коротком пути я насчитал четыре…
Война творит такие безумства, перед которыми порой столбенеешь в испуге и теряешь дар речи. Удручает также совершенно равнодушное, а часто и издевательское поведение французов, рядом с которыми наши солдаты, как мне кажется, вовсе не выглядят победителями, а напоминают скорее беспризорных детей, шатающихся где ни попадя; все солдаты очень грустные и худые, немного ребячливые, неухоженные, действительно, как дети, которых кинули на произвол судьбы.
Очень показательны улыбки французов; по сравнению с улыбками этих детей – это смесь циничного злорадства, и жалости, и еще презрения и высокомерия, встречаются теплые улыбки, сочувственные, но, главное, все они тягостны и неприятны, тем более что фронта как такового тут нет…
[…]
* * *
Амьен, 5 февраля 1943 г.
[…]
Несколько часов без устали бродил по городу, еще раз заглянул в собор и купил несколько репродукций Мадонны… как раз разменял купюру в двадцать марок.
Затем опять приступил к «восхождению» по бесконечно длинной, поднимающейся вверх безлюдной улице, в последнем перед госпиталем кабачке выпиваю еще одну рюмку аперитива. […]
Очередное обследование глаз; заключение: отклонений от нормы не обнаружено; потом обследуют уши, практически тоже без отклонений…
На какое-то время обследования прерывались; еще я был у невропатолога, потом разносил еду; невропатолог тоже ничего не обнаружил, по крайней мере, ничего не сказал…
На этом, после всех проведенных обследований, мое пребывание здесь, видимо, закончится; меня можно будет отослать назад, а болезнь – головные боли и странное подергивание глаз – останется невыясненной, меня ведь именно это интересует; но я не волнуюсь и не переживаю, все наверняка устроится; мой здешний палатный врач очень приятный человек, это меня очень успокаивает и скрашивает мое пребывание здесь; сегодня после полудня я еще раз пойду в город, я очень рад новой поездке; надо бы еще раз попытаться обменять деньги, чтобы купить для тебя что-нибудь красивое. Ах, прежде чем вернуться в бесконечный и безутешный мир тупости и мракобесия, хочется еще хоть два-три дня пожить в свое удовольствие…
[…]
* * *
Госпиталь, 14 февраля 1943 г.
[…]
Сегодня утром врач сказал, что в начале недели – завтра или послезавтра – мне придется поехать в Руан для более тщательного и специального обследования моих глаз; может быть, тот госпиталь оснащен более совершенной аппаратурой, с помощью которой удастся ближе подобраться к разгадке моей болезни. Значит, мне снова предстоит очередная поездка. Ежели будет время, я постараюсь с помощью имеющегося у меня номера полевой почты узнать о местонахождении Эди[99]99
Имеется в виду Эдуард Имдаль, брат Аннемари Бёлль.
[Закрыть] и навестить его, только при условии, что его часть не расположена в окрестностях Руана, иначе это окажется невозможным.








