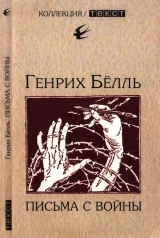
Текст книги "Письма с войны"
Автор книги: Генрих Бёлль
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Все окутано туманом, видно много маленьких домиков, маленьких и крошечных, как игрушечные; мы в стране бездетности и индивидуализма; приближаемся к Версалю, видимость не более ста метров, и самое ужасное, что сегодня сочельник, а у нас нет даже капли спиртного и невозможно что-либо купить: ни вина, ни водки, и скоро, очень скоро окончательно стемнеет. […]
Версаль… две бесконечно длинные великолепные аллеи, расходящиеся лучами от железной дороги, изумительный парк, лес и большой квадратный пруд, а позади него, не более чем в пятидесяти метрах, возвышается дворец, но мы можем об этом только догадываться, потому что все скрывает туман. Версаль…
Новый год отмечаем в какой-то французской пивной. Я пускаю в ход все свои знания французского, чтобы выцыганить у хозяйки – очень любезного внебрачного дитяти Америки – бутылку коньяка, поскольку нам предстоит еще долгий путь в неотапливаемом вагоне; я снова и снова повторяю: «Sylvestre aujourd’hui», на что она только недоуменно улыбается, пока наконец, наконец-то я соображаю и, смеясь, произношу: «Saint-Sylvestre»[48]48
Новый год (фр.).
[Закрыть], и она тут же, по-прежнему с улыбкой, выставляет нам отличный, но безбожно дорогой пузырь, я прячу его в карман мундира, после чего мы пьем дальше; мы – варвары, настоящие мальчишки, мы лакомимся без меры французскими ликерами и винами, словно дети во время Рождества, и нам будет плохо от этого, мы истинные варвары, мальчишки…
Празднуем Новый год с небольшими перерывами, ах, как мне было непередаваемо худо от многочисленных возлияний, к тому же мы ехали еще двадцать часов в холодном поезде, и вот теперь наконец-то добрались до цели, мы прибыли в Ле-Ман. […]
Мы сидим в Красном Кресте[49]49
Предположительно, реквизированное вермахтом здание клиники.
[Закрыть] и ожидаем пригородного поезда, которым доберемся до города и до отеля, ах, хоть бы тут отдохнуть от болтовни земляков.
* * *
1 января 1942 г.
[…] представь себе воскресный день в небольшом французском городке, время ближе к обеду; впервые за три дня мы поели горячего и вот теперь медленно и бесцельно бродим по городу; улицы и переулки пустынны, будто вымерли, дома старые и маленькие с большими глубоко сидящими окнами и тяжелыми синими ставнями; мы доходим до собора, расположенного на самом высоком месте, он производит странное впечатление, какой-то чужой, с примесью мавританского стиля, но великолепный, многоярусный, с трудом верится, что его построил этот народ, эти отвратительные мужики, вертлявые, как бабы; он торжественный и строгий, этот собор в Ле-Мане, исполненный особенного, болезненного, весьма откровенного пафоса, который можно уловить во взглядах некоторых французов…
Другие, маленькие, церкви перенасыщены той отвратительной пошлой безвкусицей, встречающейся лишь в странах, «выигравших» Первую мировую войну; быть может, эта безвкусица является дегенерирующей конечной стадией того торжественного пафоса; улицы города совершенно безлюдны, только слышится кукареканье петухов, все остальное замерло; я думаю о мадам Бовари, это ее атмосфера, в ней она родилась; мне кажется, у нее типичная судьба француженки; совершенно неожиданно в этом удивительно тихом городском районе мы встречаем колоритную пару: высокий худой мужчина с тонким красивым лицом, одетый в просторный, длинный, до самых пят, толстый серый тулуп из овчины, и женщину, маленькую и хрупкую, с красивыми благородными чертами лица, на которой такая же одежда, оба тащат на плечах рыбацкие снасти и удилища, и эта прозаичная, холодная, суровая атмосфера их ремесла приятно оживила унылую подавленность послеобеденного времени; где-то на маленькой площади, на пересечении тихих улочек, стоит памятник французскому генералу[50]50
Памятник генералу Антуану Шанзи (1823–1883).
[Закрыть], элегантный, в ухарских сапогах и великолепном кепи, с обнаженной шпагой, которую вонзает в серое туманное небо; мне кажется, что я слышу Clairons[51]51
Сигнальные рожки (фр.).
[Закрыть] и ритмичный французский марш; у памятника стоит старик ветеран, он, как ни странно, приветствует нас, мы отвечаем ему, и он останавливает нас; старое суровое лицо, зажатый в зубах окурок, из-под шапки выбиваются пряди седых волос, а глаза такие бесконечно печальные, что хочется плакать; он говорит дрожащим голосом: «Vous avez la victoire dans vos genoux et vos yeux, la France est morte…»[52]52
Вы доказываете вашу победу ногами и глазами, Франция мертва (фр.).
[Закрыть] Вокруг очень тихо, базар и город словно вымерли, быть может, этот старик живет только тем, что каждый день стоит вот так у статуи своего генерала. […] Мы безуспешно ищем везде сигареты, все ларьки закрыты, печально, но ничего не поделаешь; зато мне не надо всякий раз вытаскивать из кармана записную книжку и спрашивать. […]
Постепенно улицы наполняются жизнью; странное дело, но мне неудобно пристально вглядываться в лица горожан; многие из них несомненно знатного происхождения, необычайно аристократичны и добропорядочны, на большинстве же лежит печать древних, как мир, повседневных грехов, и нигде нет даже следа целомудрия, которое является источником любой силы…
Мы выпили великолепного кофе, отведали чудесного домашнего штройзеля[53]53
Пирог из пресного теста, посыпанный песком, смешанным с крошками теста и корицей.
[Закрыть], и теперь я сижу в своем гостиничном номере, очень комфортабельно обставленном, но промозгло-холодном; холод пробирает до самых костей, так что я скоро задубею и уж тогда расшумлюсь.
[…] только что был в солдатском общежитии, там все жуткие упрямцы, все было вроде нормально, но тем не менее я почему-то громко кричал: «Vive la France!»
Я лежу в чудесной гостиничной кровати и рассматриваю в задумчивости свои почти черные ноги, только одному Богу известно, отчего они такие грязные, ведь я не таскал уголь! На комоде большая бутылка белого «Бордо» и пачка дорогих сигарет. Дверца шкафа широко распахнута, и я вижу в зеркале себя, лежащим на кровати, и вскидываю приветственным жестом руку: «Хайль Гитлер!» Смеркается, но кровать настолько хороша, что для начала я лучше посплю, и уж после этого пойдем вместе есть pommes frites. Страсть к картошке не покидает нас, немцев, и здесь…
Пусть Бог не даст пропасть Франции за ее хорошие вина… Горничные в отеле намного любезнее, чем мне хотелось бы, и в преддверии ночи я уже принял меры безопасности: положил под кровать заряженное и снятое с предохранителя ружье. То, к чему мне никогда не приходится прибегать в поезде для обеспечения сохранности нашего груза, я вынужден делать здесь, чтобы гарантировать себе ночной покой…
Пусть Бог не даст пропасть Германии и взаправду разбудит ее…
Сгущающиеся сумерки пробиваются в мою комнату сквозь искусно вышитые гардины, и в мягком свете уходящего дня мне видны два закрытых магазинчика; все гуще становится голубовато-серая нежная ткань, я утопаю в ней, и уже почти ничего не вижу, вокруг так темно, что больше невозможно писать… завтра мы будем в Париже. […]
Мы отлично отобедали со всей присущей французам торжественностью, с соблюдением всех норм приличия, это продолжалось ровно полтора часа; у нас на такой обед ушло бы не больше восьми минут, но вся эта церемонность обошлась нам всего в одну марку; много культуры и мало традиций, это квинтэссенция моих наблюдений, и я считаю, что самой последней французской добродетелью является верность. Да здравствует Германия и да здравствует наша варварская верность!
Один недоумок, глупый светловолосый немецкий унтер-офицер, сидит в углу с сухопарой, абсолютно непривлекательной старой кокоткой; но, несмотря на всю свою непривлекательность, француженка творит с нашим идиотом все, что ей заблагорассудится, а он только раскошеливается, его лицо, кажется мне, все больше вытягивается и становится еще глупее, временами он снимает очки и протирает их, словно хочет сбросить со своих глаз туманную завесу; о Боже, он чешет себе голову! Бедная Германия, твои капралы погубят тебя…
Скоро, скоро все улягутся спать, потому что рано утром, в шесть, мы уже должны выйти, ведь мы хотим увидеть Париж, Париж, Париж…
* * *
2 января 1942 г.
Париж, Париж, Париж…
[…] Мы изрядно потратили сил, чтобы только побыть хотя бы несколько часов в Париже; вышли в шесть и целых шесть часов тряслись в почтовом поезде, а в час незаметно выбрались из здания вокзала и очутились в городе…
Густой туман окутал все вокруг, видимость не более ста метров; с трудом помещаем в каком-то отеле наш багаж, но найти рядом с вокзалом комнату нам не удается; мой напарник очень труслив и отказывается ночевать в другом отеле, так что еще сегодня вечером нам предстоит уехать отсюда…
* * *
Вечером.
Все прекрасно, незнакомо, величаво, и грустно, и торжественно, много писать не могу, так устал, так неимоверно устал и по-настоящему, в самом глубоком немецком смысле этого слова так «плох», […] что просто больше нет сил; наша экскурсия получилась очень напряженной, мы почти не спали и не ели, настоящие варвары без «raison»[54]54
Рассудок (фр.).
[Закрыть], мои ноги – сплошная живая мука; только что, напоследок, побывали в Notre-Dame, ах, это лучший из всех виденных мною французских готических соборов, а совсем неподалеку находится большое, темно-серое красивое здание, такого же темно-серого цвета, как и все парижские церкви, и на нем крупными золотыми буквами выведено: «Hôtel de Dieu», ах, с моими истерзанными ногами и утомленным сердцем я более чем охотно отправился бы в этот приют Бога; да, Париж воистину прекрасен, и поэтому вот так пробежаться по нему – сущее безобразие; его бульвары – как стихи Верлена, и Сена тоже великолепна; нежная зеленая река со стройными черными деревьями вдоль берега катит свои воды между этими серыми зданиями, окутанными беловатым туманом; а люди… сколько сатанинских и сколько божественных лиц всего за один час; благообразные лица нищих и отвратительные рожи богатого отродья; я искренне считаю, что Париж – апогей всего человеческого, равно как и неизведанные глубины всего человеческого; и все это постичь за какие-то четыре часа! Я не шофер организации «Сила через радость»[55]55
Фашистская организация.
[Закрыть], нет и еще раз нет; у меня сердце художника, даже если оно и глубоко погребено… глубоко-глубоко…
К сожалению, мой товарищ чрезмерно труслив и осторожен, более того, он карьерист (ему страстно хочется стать ефрейтором!), и это портит мне все удовольствие, потому что он начальник транспортного груза и все документы в его руках, а я должен просто сопровождать его, ведь я обыкновенный солдат. […]
Теперь мы оба сидим на вокзале и не можем уйти отсюда, а могли бы спокойно посидеть в каком-нибудь парижском кафе; но все равно было прекрасно, несмотря ни на что, только вот чертовски мало, но я все-таки во многом познал Париж, поэтому ближайшей целью очередной поездки с тобой после войны будет только Париж; […] я окончательно сбит с толку сумасшедшей насыщенностью этих четырех часов, и все то время, пока я в таком волнении бродил по городу, меня занимала только одна мысль: эта чернь, с которой ты постоянно соприкасаешься, дышишь одним воздухом, чьи глаза рассматривают тебя, эта чернь разожгла величайшую революцию всех времен! […]
* * *
3 января 1942 г.
Теперь мы в Брюсселе, бешеные переезды за четыре дня: Кёльн – Маастрихт – Намюр – Версаль – Шартрез – Ле-Ман – Париж – Брюссель – Маастрихт – Кёльн. Слава Богу, по крайней мере, мы на последнем этапе. […] Мало сна, много трудностей и иногда многовато алкоголя, и так много мы все-таки повидали. […]
* * *
3 января 1942 г.
…мы в дороге между Аахеном и Дюреном, еще час – и мы в Кёльне…
Я такой ужасающе грязный и усталый, почти вонючий, никакой гигиены за эти пять дней, и тем не менее я необычайно счастлив.
Сейчас стоим в Дюрене, и я могу черкнуть тебе несколько строк; только бы он не слишком надолго тут застрял, мы и так опаздываем.
Часто мне со стыдом кажется, будто мне оказали предпочтение, потому что я служу в Кёльне. А вот теперь я вернулся из напряженной поездки, и мне не надо возвращаться в казарму, могу завтра утром привести себя в порядок, я почти в отпуске; и я все еще много и бессовестно жалуюсь, ты не поверишь, как терзает меня любая жалоба, стоит только произнести ее вслух…
[…]
* * *
Кёльн, 9 января 1942 г.
[…]
Прочитал «Дневники» Леона Блуа и, как всегда, чувствую, что воистину всю жизнь мечтал сказать всем, только сказать по-немецки, то, что он сказал по-французски. Именно так; это и есть мое стремление, и я всегда молю Господа Бога дать мне эту возможность. […]
Разве не кажется странным, что Леон Блуа умер в ноябре 1917 года, а в декабре 1917-го родился я? Когда во время чтения его книги я понял это, то по-настоящему испугался…
[…]
* * *
Кёльн, 23 января 1942 г.
[…]
… я снова окончательно потерял разум; это же сущее безумие; опять душный вещевой склад, горы ботинок и сапог, от вони которых спирает дыхание, высокомерные, кичливые, издевающиеся над солдатами писари, которым мы отданы на откуп; как хорошо мне это знакомо и как ненавижу я это всем сердцем! Тут трудно не стать жестоким и не впасть в беспросветную тоску; а комнаты! Сколько господ инструкторов со всеми их изощренными изуверствами над новобранцами вышагивало по таким же комнатам в прежних казармах, представь себе только! И я снова влип, погиб окончательно и безвозвратно…
Конечно, очень долго мы здесь не пробудем. Окажись тут хоть один-единственный человек, кого я бы знал, один-единственный, с кем мог бы поговорить, но нет, я один, совершенно один! Господи, помоги мне!
Этот безумный казарменный балаган убивает во мне любую мысль о возможности просто жить…
Разве можно без отчаяния смотреть на то, как здесь невыносимо мучают и унижают людей, перед тем как им наконец-то дозволят умереть за отечество! Если бы ты только раз, единственный раз увидела, как такой вот горе-фельдфебель с ревом врывается в комнату, где сидят во время отдыха пятнадцать взрослых мужчин, которые были ранены или заболели во время служения отечеству и отдали ему уже два года своей жизни, это похоже на прыжок разъяренного дикого зверя на совершенно беззащитную бедную жертву! А вечерами можно видеть, как эти фанфароны прогуливаются в парадных мундирах, веселые, радостные и очень приветливые, и тогда любой скажет: «Ах, какой милый человек. С таким солдатам хорошо живется». Вам, женщинам, стоило бы хоть раз взглянуть на эту так называемую «жизнь», на эту непередаваемо грустную смерть, тогда вы наверняка сойдете с ума от возмущения или обезумеете от мстительности; вам бы только один раз увидеть, как обращаются с отцами ваших детей. Сколько мне суждено жить, столько я буду с глубокой ненавистью, болью и яростью вспоминать об этой жизни. Часто мне даже кажется, что это медленное умирание души и духа никогда не кончится, все это слишком грустно…
Скоро два часа, и снова начнется моя служба, какой она будет – пока не знаю.
[…]
* * *
Кёльн, 23 января 1942 г.
[…]
Я должен был многое сказать тебе, да-да, но мое время строго ограничено; здесь совсем не так, как там, где я до этого служил; меня снова одолевают прежние рекрутские страхи и ужасы, все неимоверно безжалостно и для любого, кто бы он ни был, все человеческое и личное здесь умирает, но так и должно быть, я сознаю это, я вообще не способен быть солдатом, я почти ничего не умею, вообще ничего, и я представляю себе, сколько мне еще предстоит изучить…
[…]
* * *
Кёльн, 24 января 1942 г.
[…]
Когда я снова вошел в это здание, внушавшее ужас, у меня было поначалу необычайно тяжело на душе, убийственно тяжело, но я все же собрался с духом и вошел в него, а потом, пройдя почти в потемках по мрачному коридору, переступил порог комнаты. На счастье, там были только два человека. Я разговорился с ними, рассказал немного о своей профессии, о семейных обстоятельствах, и было очень отрадно не чувствовать себя стопроцентным чужаком. Прежде я просто молча тупо сидел или стоял и никогда не пытался завязать знакомство. Самое ужасное было думать, что ты тут посторонний и совсем один среди множества других, а ведь тебе придется с этими людьми отправиться на фронт; но я искренне хочу побороть в себе такие мысли и познакомиться со своими товарищами; я считаю это действительно важным, мне просто необходимо полностью перестроиться.
[…]
* * *
Кёльн, 29 января 1942 г.
[…]
Из-за нового перевода я вновь в постоянном волнении и тревоге, а мое сердце опечалено тем, что на прошлой неделе я упустил такой редкий для Кёльна чудесный день. […]
Сегодня отличная погода, воздух такой волшебно-мягкий; как было бы хорошо оказаться сейчас свободным, снова оказаться свободным!!! Вот уже минула четвертая весна, как я напялил на себя ненавистную униформу, четвертая зима, четвертое лето, четвертая осень, ах, сколько мне еще предстоит прибавить к этому списку! […]
Иногда меня посещает мысль о смерти, о возможности и реальности смерти…
Мое настроение вновь падает, потому что мне опять приходится перейти в совершенно незнакомое подразделение; но что-то от этого перевода я все же выиграл, и даже очень много: я попал в моторизованную часть, по крайней мере, хоть единственный раз не будет этого проклятого марширования. Порою мне вдруг приходит на ум: что, если я погибну и никогда больше не увижу тебя в этой жизни? Тогда мной овладевают дикий страх и грусть, и мне кажется, что этот страх уже является предвестником моей смерти. Но часто я настроен победно и верю, что вернусь с войны, а бывает, и вовсе испытываю счастливое чувство, что мое освобождение очень близко; в общем, меня непрерывно рвут на куски и терзают одни и те же противоречивые чувства…
Маленькая душная комната снова заполняется народом, нас шестнадцать, все только что вернулись с особого задания. Еще совсем недавно, по счастью, я целых полчаса оставался один; эта комната наполовину меньше нашей спальни дома, к тому же здесь едят, курят, спят, пишут письма шестнадцать взрослых мужчин…
[…]
* * *
Кёльн, 3 февраля 1942 г.
[…]
Мне очень не повезло с новой службой; нас тут семеро, тесно, все притулились у маленького стола. Я уже прочитал в один присест небольшую книгу, вслед за ней еще какой-то невероятно плохой роман из «тридцатигрошовой» серии и уже решил было начать третий, тоже из «дешевых» изданий, как вдруг на меня напал дикий, необъяснимый страх. При чтении таких романов я уже довольно часто испытывал этот страх, страх, что когда-нибудь окончательно захлебнусь и безвозвратно погибну в этом море сентиментальности, жестокости и безнадежности, они годятся только для экрана. Такая жизнь безумно изматывает; я пытаюсь молиться, но слова молитвы не слетают с моих уст…
Часто я думаю: хватит, чаша терпения переполнилась, большего Бог уже не может потребовать от тебя, и тогда я впадаю в состояние омерзительной удовлетворенности и бодрости духа и каждую секунду жду, что меня вот-вот вызовут в канцелярию и скажут: «Вы свободны!» Однако нередко мною овладевает неимоверный страх и предчувствие, что худшее еще впереди. Где же тут истина? Чего Господь хочет от меня?
Может, и вправду самое лучшее и единственно верное для меня – оказаться на фронте; нет, единственное, что может меня спасти, это избавиться от униформы, только тогда я снова воспряну духом и смогу опять работать.
Сбросить бы с себя все чуждое, мерзкое, все, что вкралось в мою суть, вот это было бы для меня самой большой радостью; стать снова человеком, свободным от предрассудков, отвратных и утомительных, и от глупого, разъедающего сердце и душу страха перед казармой и униформой. […]
[…]
* * *
Кёльн, 5 февраля 1942 г.
[…]
Я опять в карауле на том же объекте, в прежней комнате, и завтра, как всегда, отправлюсь трамваем той же дорогой, а вечером все тем же трамваем, который отходит ровно в четверть одиннадцатого, вернусь назад; при такой убийственной монотонности необычайно велика опасность отупеть и стать толстокожим; надо быть зорким, всегда бодрым и полным пылкого напряженного интереса.
Сегодня утром купил книгу, об авторе которой никогда не слышал; не знаю, почему я ее купил; во всем Мюльгейме всего один маленький книжный магазинчик, и в нем – опять-таки – единственно эта книга вызывала доверие; но думаю, мне просто было суждено купить ее.
Она называется «Забытый»[56]56
Рассказ австрийского романиста, публициста и издателя Курта Цизеля (р. 1911-?). В начале войны был призван в танковые войска, с 1941 г. военный корреспондент вермахта.
[Закрыть]; в ней рассказывается о судьбе мужчины, который в самом начале войны, этой войны, оказался далеко от дома, когда вышел приказ о призыве в армию; позднее о нем «забывают», как забыли бедного малыша Шрёера[57]57
Шрёер Гейнц – знакомый продавец из книжного магазина.
[Закрыть], погибшего где-то на русской земле. Этот человек – учитель, в свое время одноклассники окрестили его «чудаком», мы бы прозвали его «индивидуалистом», – позднее он стал писать книги; так вот, вернувшись из поездки, он узнает от жены, что у него пока еще есть время, поэтому он продолжает работать над книгой, половину которой уже написал.
Он все ждет и ждет повестки, и его жизнь превращается в нескончаемую муку, поскольку ему очень тяжело быть «готовым» пожертвовать всем. Описывается его рабочая комната, такая прекрасная, что у меня от тоски сжалось сердце, когда я прочитал о ней, – и великолепная осень – осень 1939 года, в то время я работал у Штольверка, а потом стал солдатом, тогда еще мы (Альфред, Каспар и я) задумали совершить такую чудесную поездку! – погулять по родной стороне, полной блеска и роскоши, – так вот, этот человек почти сходит с ума от терзающих его сомнений и мук. Из-за постоянной взвинченности возникает разлад с горячо любимой женой. Это действительно житейская и очень правдоподобная история, и часто, очень часто мне становилось не по себе, будто меня хлестали по лицу, настолько все происходящее с ним относилось и ко мне. Но в чем упрекал себя тот человек? Только в том, что не смог расстаться с тем, чем обладал, а я не хочу расставаться с тем, чем хочу обладать. Читая эту книгу, я заметил, что очень постарел и устал и у меня нет стольких сил и такого воодушевления, как у этого человека, который все-таки идет добровольцем на войну, на Западном фронте теряет ногу и, счастливый, возвращается к своей жене, которая ждет ребенка. Тебе стоит прочитать эту книгу, я плохой рассказчик, я не умею, я устал и не в ладу с самим собой.
Часто мне кажется, что за эти три года я потерял больше, чем только ногу, это, конечно, кощунство так думать, видя столько раненых, но ты ведь знаешь, как охотно я пожертвовал бы своей ногой, подобно тому человеку; я бы охотно это сделал, у меня нет и мысли кощунствовать и испытывать свое счастье, но я говорю эти слова в здравом уме и доброй памяти.
Как же я завидовал этому человеку, когда тот, постукивая деревянной ногой, заходил в свою рабочую комнату. Но достоин ли я такой жертвы и такого счастья? Чего Господь ожидает от меня?
[…]
* * *
Кёльн, 13 февраля 1942 г.
[…]
Пишу тебе из подвала с углем, куда меня сегодня прикомандировали; почтовой бумаги при себе не оказалось, а если дойти до Дома Арндта[58]58
Дом имени Эрнста Морица Арндта, носящий имя известного немецкого писателя Э.-М. Арндта (1769–1860), поборника политической свободы и сплоченности немцев, создан в 1926–1927 гг. как Дом молодежи и разных объединений местной общины.
[Закрыть], мой обеденный перерыв как раз закончится, поэтому пришлось купить в столовой малюсенький блокнотик, единственный, что там был, на листочках из него я и пишу тебе. Ну что может со мной случиться? Сегодня утром вместо того, чтобы пойти к врачу, я занимался тяжелой физической работой: вытаскивал из подвала по грязной сырой лестнице огромные бадьи с углем и золой, это была нудная, тяжелая, грязная работа; я вспоминал бульвары Парижа и стихи Верлена; от мук, страха и переживаний у меня вскоре заныло сердце; когда я вижу, сколько удовольствия доставляет такого рода работа моим товарищам, мое сердце не выдерживает; меня все-таки всегда щадили и берегли от любой физической работы и перегрузок, мне никогда не дозволялось что-либо делать; да, грустно заниматься всю жизнь не тем, что является твоей профессией и твоей всеобъемлющей страстью. Я так устал, безумно устал, и я почти боюсь идти к врачу и рассказывать ему снова и снова одно и то же, чтобы уже в который раз услышать в ответ, что у меня все в порядке и что я – симулянт…
И теперь, в самое хорошее время, я торчу тут в темном подвале среди грязных чанов и огромных куч угля в брикетах и рассыпного, постоянно окутанный черной пыльной завесой; но к чему, к чему все-таки стремится все мое существо? – к свободе и миру и человеческому общению, к возможности и дозволенности изредка испытать обыкновенную радость, обрести жизнь и сохранить ее, чтобы позволили быть ближе к Богу во всем и в каждой мелочи будней…
Наверху в вестибюле я слышу зычный рык унтер-офицеров и фельдфебелей, обучающих новобранцев; все-таки это чистое безумие, что люди должны претерпевать неимоверные мучения, прежде чем им дозволят умереть за отечество. Стены любой казармы скрывают от чужих глаз бесконечно много страданий, так много, что воистину каждый, проходя мимо казармы, обязан снять шляпу; нет, он должен склониться перед этими темными, мрачными строениями; они ужасающе безжизненные, тусклые, без каких-либо внешних излишеств, без музыки и красок, без всего, что может доставить радость человеку, и ничего, ничего в них нет и никого, кто мог бы сказать этому человеку, что он спасен, что Бог есть и Христос воскрес. Если бы ты хоть однажды могла увидеть полные страха глаза новобранцев, их дрожь и ужасные муки, ты бы не раз подумала: а не предательство ли это – пройти мимо казармы, даже не удосужившись прошептать молитву…
[…]
* * *
Кёльн, 14 февраля 1942 г.
[…]
Сегодня утром был наконец у врача; сначала результат получился таким, как всегда: он решил, недолго думая, отправить меня назад, но тут я не выдержал и все сказал, я по-настоящему боролся за правду, поскольку я болен уже полтора года, но мне никогда, ни разу не оказали помощи, даже не обследовали по-настоящему; это была нелегкая борьба, и в конце концов я победил: он все-таки направил меня в госпиталь на обследование, так что в понедельник утром я должен быть уже там, если, конечно, ничто не помешает; меня все еще бросает в дрожь, но в принципе я необыкновенно счастлив; наконец-то теперь все разрешится, так или иначе, и тогда я получу долгожданную «бумагу», пусть даже неблагоприятную для меня, но я хоть буду знать, на что могу рассчитывать…
[…]
* * *
Кёльн, 18 февраля 1942 г.
[…]
Очень странно, но почему-то я не могу много писать, хотя у меня есть время, очень много свободного времени, и тихо; я еще не совсем пришел в себя от вчерашней и позавчерашней борьбы с врачом и от высказанных им намеков; вероятно, все это лишь мое больное воображение, издерганные нервы, но против таких подозрений я бессилен, я не могу дерзить и не могу не защищаться, я просто труп, окаменелость и безмерно страдаю, когда встречаю кого-нибудь из тех, кто, можно сказать, нападал на меня. Это единственная неприятность, в остальном же я чувствую себя неплохо, только очень устал и вялый, я действительно выдохся. Но здесь можно много спать, спать сладко и безмятежно и по-настоящему отдохнуть; очень надеюсь, что из-за питания больше не возникнет угрозы такого приступа. Если буду благоразумным, то поправлюсь, окрепну и буду работать, смогу работать; во всяком случае, мне не хотелось бы испытывать постоянную слабость из-за моего недуга, который все никак не затихает и подтачивает мои силы, но по-настоящему себя не проявляет. Теперь наконец мне представилась возможность рассказать все обстоятельно врачу-профессионалу, и я непременно воспользуюсь ею, чтобы раз и навсегда избежать новых бессмысленных стычек с войсковыми врачами и обезопасить себя от всяческих подозрений, потому что тогда в моих бумагах черным по белому будет написано, чем я болен и насколько тяжело.
Прости за все эти подробности, но мне необходимо было высказаться; мне так и хочется сказать, что я здесь несчастлив, поскольку почти не испытываю страданий, кроме незначительных болезненных ощущений; надо же, я чувствую себя никчемным и бесполезным, мои мысли словно парализованы, но надеюсь, все опять наладится…
Здесь действительно очень красиво и тихо, доктор тоже производит впечатление весьма приличного и уравновешенного человека; собственно, мне он пока еще ничего не сказал. После десяти дней пребывания в Доме Эрнста Морица[59]59
См. примеч. на с. 70 /В файле – предыдущее (№ 58) примечание – прим. верст./. В марте 1942 г. здесь размещался инфекционный изолятор для солдат вермахта.
[Закрыть], где мы вповалку спали прямо на полу, удивительно странно лежать в чистой мягкой постели и преспокойно почитывать книгу, не слышать свистков унтер-офицеров, не ведать сумасшедшего казарменного ужаса, не ощущать тлетворного дыхания насилия и смерти, грозящей жизни, твоей собственной жизни.
За окном так многообещающе светит солнце, что, окажись я теперь на улице, оно преисполнило бы мою душу тем непреодолимым восторженным желанием, какое обычно овладевало мною при малейших признаках весны; теперь же, лежа в постели, смотрю на него почти с неприязнью, мне было бы куда как приятнее, если бы теперь шел снег и трещал мороз, но не хочу быть таким немилосердным и накликать на вас еще одну холодную зиму, от которой мы тоже настрадались; нет и еще раз нет, ты только радуйся; надо жить, жить, жить, я склонен думать, что был полностью исключен из плодотворной деятельности…
[…]
* * *
Кёльн, 23 февраля 1942 г.
[…]
Сегодня утром, проснувшись в нашей узкой, грязной и душной комнате и осознав, что уже понедельник, утро понедельника, шесть часов, и я по-прежнему в старой прусской казарме, я поначалу ужасно расстроился; было жутко и страшно даже представить себе, что нам опять предстоит долгий день совершенно бессмысленного ожидания. Потом я был у врача, и он не разнес меня в пух и прах, что уже весьма утешительно; теперь буду наблюдаться в нашей санчасти, у меня будет щадящая диета, и придется регулярно взвешиваться. Но это не лечение: сегодня утром совершенно неожиданно и без видимых на то причин снова повторился дикий приступ моей запущенной болезни; видимо, придется страдать от нее всю мою жизнь. […]
Посмотрим, раздавит ли меня сумасшедшее безумие казармы; хочу надеяться, надеяться и молиться; в Евангелии от Луки написано: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!»[60]60
Евангелие от Луки, 12, 49.
[Закрыть] Мы все пришли сюда только для того, чтобы сгореть в этом огне.
[…]
* * *
Кёльн, 28 февраля 1942 г.
[…]
Ты только что ушла, и я опять один – к большому сожалению, не совсем один – в караулке. Через окно, что против меня, виден узкий темный вход, к которому ведут пять стертых каменных ступенек, вход в четвертую роту! Ох уж эти ступеньки! и красная старинная стена здания; сколько же горя и страданий видело оно; а перед зданием лежит громадная грязная куча из мусора и снега, он подтаял и разлился вокруг нее вонючей лужей… Этот вход и эти ступеньки… уже пятьдесят с лишним лет по ним поднимались и спускались несчастные пехотинцы, подавляя в своих сердцах слезы и желание повеситься, сдерживая ставшие холодными, почти безрадостные порывы души, которые со временем окончательно потеряли свою чистоту и силу, и теперь солдаты без угрызений совести и без раздумий могли убивать; это и есть безумие. Казармы – не надо быть семи пядей во лбу, дабы убедиться, что казармы – самое безотрадное место на земле. Физиономии фельдфебелей и затылки унтер-офицеров такие таинственные и вместе с тем такие невинные – где же тогда вообще найти виноватого?








