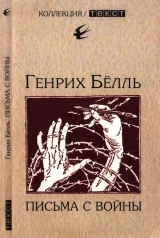
Текст книги "Письма с войны"
Автор книги: Генрих Бёлль
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Время проходит как-то очень быстро и тем не менее растягивается до бесконечности; неимоверно угнетает мысль, что я столько лет принужден жить в противных моей природе обстоятельствах, которые делают невозможной любую духовную работу; но ведь я со временем становлюсь старше – и не только годами. Ах, моя единственная надежда на помощь Бога…
Сегодня утром опять был на литургии; меня это очень успокаивает, я безмерно счастлив от такого подарка – возможности каждое воскресенье участвовать в благодарственной жертве… Сегодня опять не было почты, но я не хочу обращаться в свою часть с просьбой переслать ее в госпиталь для меня, потому что тогда она поступит сюда в конце недели, а меня здесь уже не будет; я жалею, что не сообщил тебе сразу полевой номер госпиталя, тогда я бы уже давно и каждый день получал от тебя письма, но кто знал, что эта афера растянется на такой долгий срок…
Завтра, как мне кажется, определенно что-то придет, по понедельникам кто-нибудь из части непременно едет в Амьен…
Уже очень поздно… сегодня плохо пишется; видимо, я долго провалялся в кровати и то ли спал, то ли грезил наяву; мало приятный отдых; сегодня я совершенно без сил – не понимаю, что тому причиной! Вероятно, надвигающаяся весна. Часто погода здесь, как в раю, но в госпитале всегда царит особенная атмосфера грусти, которая, видимо, связана со здешним печальным и тягостным прошлым[100]100
Прежде в этом здании находилась клиника для умалишенных. В мае 1940 г. германское оккупационное правительство устроило там госпиталь для военных вермахта, переселив психически больных пациентов в другое место.
[Закрыть]; часто я представляю себе жизнь безумцев в этих помещениях и задаюсь вопросом: где теперь все они, куда их изгнали…
Война, безусловно, всеразрушающая сила, но одновременно и необычайно плодотворная; я уже давно размышлял над дефиницией войны, иногда мне казалось, что война – это жестокая и дурманящая сознание игра сильных мира сего, мы в ней только пешки, которым просто не суждено испытать ее сладость и упоение ею; мы просто единичные, маленькие и даже совсем крошечные фигурки, без которых эта игра невозможна, но в общем и целом презираемые этими игроками…
Разве это не несказанно жестокий, исполненный тайн закон, согласно которому все мужчины – даже самые мирные из них – должны стать убийцами, как то повелевает закон![101]101
Генрих Бёлль намекает на выступление по Всегерманскому радио 30 января 1943 г. рейхсминистра авиации Германа Геринга по поводу разгрома под Сталинградом 6-й армии под руководством генерал-фельдмаршала Паулюса. В конце своей речи рейхсминистр проводит аналогию битвы под Сталинградом со сражением у Фермопил в 480 г. до н. э. во время греко-персидских войн, когда отряд спартанцев, прикрывая отступление греческих войск, погиб геройской смертью от рук персов вместе со своим царем Леонидом: «Когда-нибудь в истории будет записано так: „Придешь когда в Германию, расскажи там, что видел нас борющимися в Сталинграде, как повелел закон. Воины в Сталинграде должны были стоять насмерть, так закон повелел, закон чести и ведения войны“». Знаменитая же надпись на памятном камне в Фермопилах гласит следующее: «Путник, придешь когда в Спарту, поведай народу, что видел лежащими здесь нас, как закон повелел всем спартанцам».
[Закрыть] Война – абсолютный антипод раю, и доказательством тому является то, что искусства, включающие в себя и воплощающие все мечты и представления о Рае, во время войны молчат! Но мы должны выполнять нашу обязанность и участвовать в войне, меня это не радует и не может радовать никогда, мы должны оставить все, что так любили и что нам так дорого, а взамен получим абсолютно жалкое существование, подпитанное щедро рассыпаемыми бездуховной и грубой пропагандой утешениями, которые еще более усугубляют это существование, по крайней мере, это ощущаем мы, простые солдаты, которые не ведут игру. Бывают, конечно, ситуации, когда удобно воспользоваться этим законом и принять участие в битве, но исключительно потому, что ты ощущаешь потребность в единстве взглядов, быть может, как мне иногда представляется, это анахронизм – быть «образованным», а не офицером, что вовсе не исключено, но мы ведь христиане, а христианство – тоже анахроничность – существует уже более семи столетий.
Часто я испытываю искушение стать офицером, да, я называю это «искушением»! Ибо тогда война оказалась бы для меня, вероятно, еще тяжелее, но совершенно точно доставила бы больше удовольствия, однако прежде всего надо быть еще и человеком – просто человеком – и суметь оградить от внешних посягательств собственное стремление и собственную «жизнь», чтобы им не грозила опасность зачахнуть. Но я поклялся себе никогда не поддаваться ни одному из этих искушений! Иначе это будет предательством по отношению к тем уже потраченным четырем годам моей жизни!
Но сегодня мне вдруг пришло в голову, что значит в течение четырех лет быть вычеркнутым из «круга человеческой» жизни; это значит никогда не прочесть спокойно ни одной умной книги, постоянно по приказу разрываться между охранной службой и строевой подготовкой; каждую минуту такой «жизни» красть у необычайно драгоценного, столь необходимого сна! Только тут я заметил, что могу спать все дни напролет, как же безмерно я устал от этих лет! Было бы, однако, грешно подумать, что я жалуюсь, видя все те, не поддающиеся определению мучения, какие выпали на долю других.
Иногда нелишне самому разобраться в своих думах…
Только что был у врача, предварительно выстояв длинную очередь; в итоге завтра утром иду на прием к ушному, потому что, вполне возможно, моя болезнь связана с болезнью вестибулярного аппарата, случившейся в тысяча девятьсот тридцать пятом году; я в это, правда, не верю, но, видимо, придется пройти еще много обследований…
[…]
* * *
Госпиталь, 17 февраля 1943 г.
[…]
Сегодня фантастически роскошный день; солнце теплое и лучистое, по-весеннему юное и сияющее; все утро, безмятежно-счастливый, я проработал в салу, чудесный отдых. Во время осмотра врач сообщил, что намерен в пятницу выписать меня, поскольку он действительно не знает, как устранить непроизвольное подергивание моих глаз; через месяц мне предстоит опять приехать сюда; головные боли прошли, и я действительно отдохнул под началом этого доброго и умного доктора; нашим надеждам на следующую встречу при существующем положении дел вряд ли суждено сбыться.
Естественно, в дальнейшем стрелять я не смогу; хочу попросить доктора сделать соответствующую запись в истории моей болезни, чтобы избавить меня от никчемных оскорблений саксонских солдафонов. […]
Сегодня днем встретил тут одного из нашей роты, который сказал, что со вторника нас опять переводят на побережье в бункеры; слава Богу, хоть на какое-то время прекратится самая неприятная, самая безумная и самая дурацкая на свете муштра, через месяц мне опять предстоит приехать к моему доктору в госпиталь, тогда, может, и выяснится нечто существенное; то, что я не могу метко стрелять, как-то успокаивает меня, потому что пост на побережье в бункере довольно важный; хорошо еще, что пока я забыл о своих головных болях.
Сегодня прямо из Парижа вместе с моими самыми лучшими пожеланиями к тебе отправилась чудесная гравюра[102]102
Имеется в виду гравюра французского живописца и графика Оноре Фрагонара (1732–1806).
[Закрыть], надеюсь, моя женушка получит ее целой и невредимой; мне пришлось изрядно попотеть, чтобы упаковать ее; поскольку не удалось раздобыть подходящей коробки, я взял два цилиндра из плотной бумаги, склеил их, затем сделал две крышки и заклеил ими оба конца; не передать, что творилось в комнате, я изрядно помучился с клеем, бумагой и марлей, но остался несказанно доволен своей работой…
[…]
* * *
На канале, 11 марта 1943 г.
[…]
Сегодня утром меня ожидала великая радость: я был на богослужении, правда, у меня не получилось прийти вовремя, но зато я успел как раз к Пресуществлению и к Святому Причастию.
Потом меня опять направили в гарнизонную комендатуру, где сегодня я уже работал, а завтра, вероятно, переселюсь туда; у меня будет отличная комната, никаких ночных дежурств, да еще кое-какие льготы, но не сказать, чтобы я этому очень уж радовался, ибо любая жизнь в униформе не может больше доставить мне радость, единственное, к чему я рвусь всей душой, это жить с тобой и работать, работать. […]
Жизнь в униформе, какой бы она ни была, – моя постоянная несказанная мука; я все сильнее чувствую, как эти четыре года службы высосали из меня все силы; хочу быть свободным и работать. […]
На следующей неделе опять поеду в Амьен к врачу по поводу моих несчастных глаз; буду бороться, бороться и еще раз бороться…
До этого, правда, мне светит еще одно «счастье»; пока я был в отпуске, меня включили в список переводчиков, сдающих экзамен по французскому, который состоится в Париже шестнадцатого или семнадцатого марта; мне стало окончательно не по себе, когда я услышал и увидел собственными глазами, что бегло и превосходно говорю по-французски; к сожалению, отказаться от экзамена уже не представляется возможным, так что сдавать французский все-таки придется, и этот экзамен станет моим позором, мои знания не что иное, как чистая халтура, убогое средство, помогающее мне, в зависимости от настроения, объяснять людям самое необходимое. Я радуюсь предстоящим трем дням в Париже и уже заранее смиряюсь с постыдным провалом. Мне вообще никогда ни в чем не везет, попросту я неудачник, так что и в данной ситуации хорошего ждать не приходится. Попробую объединить поездку в Париж с визитом к амьенскому глазнику, тем самым, быть может, удастся как-то сгладить позор в Париже успешным результатом в Амьене.
Фронтовой книжный магазин, который мне пришлось взять под свою опеку, откроется уже завтра. Как хорошо, что я буду рядом с книгами. […]
От несмолкаемого многочасового гула пролетающих над нами самолетов уже трещит голова, иногда от взрыва бомбы вздрагивает земля; ах, я молю Бога, чтобы только с тобой ничего не случилось.
[…]
* * *
Париж, 15 марта 1943 г.
[…]
В Париж прибыли ближе к вечеру и тотчас нырнули в мрачное подземелье метро, из которого вынырнули на Елисейских Полях; долго, очень долго гуляли по этой улице, расстаться с которой у меня не было сил, ах, эти бульвары! […] В объединении переводчиков нас ожидало разочарование: общее оформление документов по специальностям и совместное проживание, да еще, как на грех, эти отвратительные, изнеженные, щебечущие по-французски штатские, представляешь себе, такие надутые, точно их только что вытащили из горячей ванны, вдобавок есть несколько противных баб, что наверняка огорчит тех, кто надеялся отдохнуть денек-другой от фельдфебельского ора; н-да… но я твердо решил не сердиться; сущие уроды, смех, да и только! Неужели мне надо бояться того, что я провалюсь на этом смехотворном экзамене…
Потом мы отправились на отведенную нам квартиру, к мрачному зданию École Militaire[103]103
Военная школа (фр.), построенная как военное учебное заведение для небогатых дворян. В третьей четверти XVIII в. стало Высшей кадетской школой, в которую в 1784 г. поступил Наполеон Бонапарт.
[Закрыть] неподалеку от Эйфелевой башни. Как же великолепны бульвары в вечерних сумерках, восемь рядов деревьев вдоль внутреннего берега Сены – да, именно внутреннего, я не оговорился – через набережную д’Орсэ до самой Эйфелевой башни, красивые улицы с высокими домами и люди, люди… тысячи человеческих лиц, лица парижан, и каждое представляет интерес, а как приятно покупать в маленьких полутемных магазинчиках хлеб и масло и чувствовать себя при этом свободным, таким же, как обыкновенный штатский; мы долго, долго бредем, по возможности оттягивая час прихода в École Militaire, самую мрачную, по мнению самих парижан, казарму Парижа. Шаг за шагом мы медленно приближаемся к устремленному вверх изящному остову Эйфелевой башни, которая уже давно маячит перед нами в туманных сумерках, и потом, как-то сразу, нашим взорам предстает мрачная École Militaire, унылый шедевр военного искусства, которому два немецких часовых придают вид арестантской; там нас ожидал приятный сюрприз: этот «постоялый двор» был настолько переполнен, что нам не хватило места и нас перевели в близлежащий маленький, очень уютный отель, куда мы тут же и вселились с длинным, тонким багетом под мышкой…
Очень уютная комната, чистая и приветливая; как же хорошо, когда можно не спеша и спокойно вымыться в ванной комнате, расположенной рядом с нашим номером, поужинать вином, хлебом и жареным мясом; но уже совсем свечерело, и нашего времени достало лишь на небольшую прогулку по соседним бульварам и улицам; еще не совсем поздний вечер, по-весеннему приятный и мягкий, и пока я вот так брожу по городу с блаженным ощущением свободы, проходя легким шагом мимо одетых в нежную зелень деревьев, меня вдруг осеняет мысль, что эти светлые, по-весеннему мягкие дни, эти до невероятия чудесные ночи представляют собой идеальную погоду для революций… классическая революционная погода в этом городе революций!
[…]
* * *
Париж, 16 марта 1943 г.
[…]
Сегодня утром в громадном многолюдном зале, в атмосфере небывалого карьеризма и тщеславия, что порой делает немца совершенно невыносимым, меня охватило чувство неимоверной подавленности; да еще эти комичные штатские, эти изнеженные, вечно улыбающиеся физиономии торгашей, заправлявшие всем действом; так вот, я был настолько подавлен, что не сумел как следует справиться со сложным текстом; мне надо было перевести часть какой-то прокламации, и потом еще с французского на немецкий, что тоже оказалось довольно трудно. Завтра во второй половине дня предстоит устный экзамен, который я прогулял бы с огромным удовольствием, потому что абсолютно бессмысленно идти на него, однако это может выйти мне боком, я должен хотя бы показаться.
Вечер был совершенно свободен, к сожалению, и на сей раз я оказался не один! За мной увязался товарищ, очень скромный и тихий, немного странноватый парень из восточных немцев, он сдавал польский и русский. Мы ходили с ним пешком по вечернему Парижу; получился великолепный марш-бросок, по меньшей мере километров в двадцать; чего только мы не повидали! Ах, я хотел столько рассказать тебе, но не в силах, ужасно устал, как после настоящего сражения…
Я исходил вдоль и поперек квартал за кварталом без какого-либо плана, не думая о тех или иных достопримечательностях. Иной раз заглянешь в какой-нибудь бульвар – и тебя охватывает чувство красоты и томления, какое, вероятно, испытывает бродяга при виде уходящего в далекую даль проселочного тракта. Мы много чего повидали – от роскошных Елисейских Полей до мрачных старинных улочек возле церквей Святого Роха, Сен-Жермен-де-Пре и Святого Августина; эти древние темно-серые церкви скрыты высокими домами; гуляя по таким улицам и любуясь красотами города, одновременно отмечая грязь и разруху, испытываешь необыкновенное чувство; такая прогулка интереснее и полна неожиданностей, не то что скучная поездка в метро, где большую часть времени проводишь под землей и лишь иногда выбираешься на свет Божий. А сколько книг я перелистал на развалах! Париж поистине богат своими книжными развалами.
Когда ты охватываешь взглядом поток чужих лиц, типичных для Парижа, тебе нетрудно понять, почему Блуа так страдал тут и что он так сильно любил; самое прекрасное и самое уродливое, самое фантастическое и самое авантюрное являет собой человеческое лицо…
Ты видишь, как все парижане спешат по этой чудесной серой мостовой, встречаешь в переулках между высокими серыми домами всех красавиц Бальзака, блондинок и шатенок, сквозь тонкие гардины можно увидеть в глубине комнаты кротких, ангелоподобных девиц, занимающихся шитьем или вышиванием либо продающих хлеб в каком-нибудь магазинчике; иные же уродливы, до необычайности уродливы, при этом большинство из них держится с достоинством и элегантностью, так что ни одна не вызывает отвращения. В проносящихся мимо тебя авто видны куртизанки – даже в нынешнее время, иногда они прохаживаются по бульварам в сопровождении седовласых Beaus[104]104
Франт (фр.).
[Закрыть] или офицеров; в основном у них пустые лица, но есть и полные молодости и огня. […]
Здесь можно увидеть, как элегантные дамы и господа без стеснения грызут дешевое невкусное печенье, которое продается и не за марки; попадаются и совершенно опустившиеся типы, выуживающие из луж окурки. […]
То, что я устал и голоден, я заметил, лишь когда мой обычно молчаливый спутник вдруг начал ворчать и жаловаться, что мы уже шесть часов не евши, не пивши бродим по городу; тут и я почувствовал, что вот-вот упаду от усталости и голода; шатаясь от слабости, мы направились к ближайшей станции метро, не задумываясь нырнули в ее разверстый зев и доехали до нашего маленького, милого сердцу отеля «Марс», расположенного близ Марсова поля; ах, как же хорошо стянуть с себя тяжелые сапоги, умыться и, лежа в кресле, затянуться сигаретой в ожидании ужина.
О ты, вожделенная свобода!
Хлеб, вино и немного жареного мяса – вот и вся наша еда, после чего мой попутчик сразу же улегся в кровать, а мне захотелось еще раз вдохнуть в себя этот напоенный революционными ароматами воздух…
На улице тихо, мягкий чудодейственный свет окутывает дома и деревья, иногда ты улавливаешь спокойные мужские шаги по мостовой или возбужденный перестук женских каблучков; медленно прохожу мимо École Militaire, где маленький, тщедушный, никому не известный лейтенант Бонапарт с усердием корпел над книгами; застыла в немом молчании перед ней огромная площадь, Марсово поле, учебный плац военной школы, по которой наверняка маршировал Бонапарт со своими товарищами; необычайно большая и широкая площадь, засаженная по периметру несколькими рядами деревьев. Великолепно ясное синее небо над легкими, стелющимися по самой земле туманами; миновав кажущуюся привидением Эйфелеву башню, выхожу к Сене, которая почти сливается с опустившимся на нее туманом; в безмолвии застыла набережная д’Орсэ, за высокой, запертой на замок оградой возвышается Министерство иностранных дел, и ворота этой ограды, вероятно, больше не откроются, разве что время от времени для группы уборщиц. Длинная прямая авеню де Боскет, такая же, как тысячи парижских улиц с серыми домами, невысокими деревьями; именно здесь понимаешь, что французы воспринимают улицу как помещение; часто мне кажется, будто я нахожусь в глубоком ущелье, на дне которого покоятся туманы; волшебно-прекрасная, успокоительная прогулка…
[…]
* * *
Париж, вечер 17 марта 1943 г.
[…]
Все-таки я не рискнул осуществить заветное желание прогулять устный экзамен, для этого нужна определенного рода непосредственность, чего мне уже недостает; однако экзамен получился сколь мучительным, столь же поразительным и назидательным. Мы прождали три часа, а на сдачу экзамена ушло час с четвертью. Комиссия состояла из майора и двух неженок-штатских; самым симпатичным из них я счел майора, очень спокойного и человечного, хотя на его вопросы со специальной военной терминологией я ответить не смог; штатские спрашивали меня из области литературы и истории; литература, видимо, спасла меня, так что я был аттестован по самой низшей шкале как «сведущий в языке», однако это уже не имеет значения…
Эти молодые немецкие знатоки, экзаменовавшие меня, были одного со мной возраста; но с какой же ловкостью и хитрой изворотливостью они не пожелали принять во внимание тот факт, что я отмотал уже четыре года войны, решающим для них явилось то, что у меня четырехлетний пробел в образовании. На несколько не вполне внятно произнесенных по-французски ироничных суждений одного штатского я позволил себе парочку довольно бесцеремонных дерзостей, коими я обязан себе и миллионам других солдат; это подействовало на экзаменаторов весьма отрезвляюще; майор, правда, немного нахмурился, но что это меняет!
Я устал, устал и, хотя сейчас только десять, хочу завалиться спать, потому что завтра пятичасовым должен уехать в Амьен…
[…]
* * *
На канале, 19 марта 1943 г.
[…]
Письмо, в котором ты сравниваешь Достоевского с Юнгером, почти ввергло меня в шок по причине определенного – только определенного – юнгерианства, в состоянии которого я находился; ты поймешь меня, я почитаю Юнгера лишь в определенной мере, его язык фантастичен, а возможность постичь суть вещей и явлений просто удивительна, но… вот до этого «но» мне и хотелось бы докопаться. С этой целью я еще раз разыщу во фронтовой книжной лавке его «Мраморные скалы» (так что не присылай мне эту книгу) и, после того как прочту, подробно напишу тебе и нашему большому железному другу Каспару об изменении моего суждения. Что-то есть в нем, что мне сразу показалось сомнительным. Ах, Достоевский, не надо поминать его всуе! Ты читала в книге Юнгера «Сады и улицы» его суждение о Блуа? Я тоже был потрясен, что к такому явлению, как Леон Блуа, можно подходить с литературными мерками. Я еще напишу тебе.
Сейчас у меня довольно нервозное состояние, потому что в мое отсутствие накопилось много работы, всякой ерунды, и это просто сводит с ума, вообще весь этот бюрократический хлам с его сроками и обязательствами мне не подходит; я часто стремлюсь к абсолютности книги!
[…]
* * *
На канале, 21 марта 1943 г.
[…]
Прости, что теперь, когда у меня появилось больше свободного времени, я много читаю вместо того, чтобы писать тебе длинные пространные письма, но я чувствую настоятельную потребность в чтении, несмотря на то что болят глаза, а жизнь не доставляет порой никакой радости; я очень много познаю и необычайно рад столь явному прогрессу, который уже дает себя знать; так я смогу в один прекрасный день вдруг почувствовать, как мне вновь открывается тайна слов, моих собственных слов, которых я жажду, как и жажду своей работы! […] И еще одно, что меня очень волнует и что я должен сказать тебе: я по-настоящему люблю Германию, хотя и ненавижу некоторые формы проявления ее действительности и кое-что типично немецко-обывательское, и все-таки я люблю Германию, верь мне. Думаю, никому другому я не мог бы это сказать! Я почти стыжусь своего чувства. Я безмерно ненавижу все, что обезображивает Германию, и, к сожалению, это чаще всего вопли тех, кто ее представляет; но я люблю Германию.
[…]
* * *
На канале, 24 марта 1943 г.
[…]
Очень увлекательную, если не сказать очень качественную книгу откопал я сегодня вечером в тайниках книготорговца: это «Амок», новеллы Стефана Цвейга; я не жду слишком многого от них, пожалуй, с большей охотой я дочитал бы до конца третью книгу «Мраморных скал», но этот представитель «четырнадцати лет»[105]105
Бёлль имеет в виду четырнадцать лет существования Веймарской республики, на которые приходится основное творчество Стефана Цвейга.
[Закрыть] очень привлекает меня. Ах, как же все это далеко, невыразимо далеко, я был еще ребенком, когда они закончились. Кстати, я нашел еще одну очень симпатичную книжицу, «Без приказа», новеллу Вальтера Пегеля[106]106
Пегель Вальтер (1899-?) – писатель и педагог, участник Первой мировой войны.
[Закрыть]. Может быть, я вышлю ее тебе, если, конечно, она продается, очень странная, но весьма проникновенная любовная история эпохи наполеоновских войн, когда Наполеон хозяйничал в Северной Германии. […]
Хочу надеяться, что эти жертвы во имя Германии не будут напрасны – естественно, жертвы никогда не бывают напрасными, мне это известно, – но я имею в виду, что Господь благословит наше пребывание на земле… и мирное сосуществование, мирное; несчастный наш народ, апокалипсически несчастный, жалкий и голодный; если бы однажды ему опять довелось испытать благословенную полноту жизни, как это было в других странах; ах, конечно, я знаю, что нельзя называть жизнью то, что сводится к еде, питью и покою; жизнь – это и некая земная радость, истинный мир, коего мы лишены, нам ведома только война и нервное беспокойство, скорее бы настал конец войне и чтобы мы победили! […]
Меня постоянно одолевают безумное беспокойство, тоска и нужда и муки; эта ненавистная жизнь в униформе, необходимость которой я тем не менее сознаю, мне кажется, что вечный разлад с самим собой стоил мне многих усилий, сил и здоровья, и виноват в этом единственно я! Возможно ли настолько преодолеть себя, чтобы полюбить необходимость? Быть может, это вовсе не трудно, но за четыре года я этого не постиг! Беспросветный я дурак!
[…]
* * *
На канале, вечер 26 марта 1943 г.
[…]
Мои письма к тебе – какие-то обрывки мыслей, потому что меня постоянно прерывают, вот только что разбирался с одной пожилой женщиной, которая хочет получить пропуск, потому что ее дочь ждет ребенка; а поскольку штатским ночью нельзя появляться на улице, мы выдаем в таких случаях пропуск; ну просто древняя старушка, седая, худая, хотя очень даже charmant; с милой улыбкой она поведала мне, что дочь ошиблась в сроках, ибо ребенок должен был родиться месяц тому назад.
Сегодня к нам приезжало варьете; самым прекрасным были балерины из школы «Фолькванг»[107]107
«Фолькванг» – школа музыки, танца и речи, основанная в Эссене в 1927 г.; название школы взято из «Эдды», сборника древнескандинавских сказаний и песен; в одной из песен так назывался зал северной богини Фрейи.
[Закрыть], которые мастерски демонстрировали свое искусство, не опускаясь до обычного «эффекта ног», принятого в спектаклях для солдатской аудитории. Безобразной была так называемая «солистка», исполнительница сольного танца, тощая, прямая, как палка, и абсолютно невыразительная, даже не хорошенькая; поражали лишь ее необычайно длинные черные волосы, но этого ведь недостаточно: такие веселые балеты, собственно говоря, наводят грусть, потому что напоминают нам нашу украденную молодость…
Я почувствовал это почти так же, как несколько дней тому назад при чтении книги Кароссы[108]108
Каросса Ханс (1878–1956) – немецкий писатель, автор стихотворений, автобиографических произведений, романов.
[Закрыть] «Год чудесных обманов». В ней говорится о молодежи на стыке двух веков, сколько же у нее было возможностей, несмотря на все легкомыслие той эпохи… Ну вот, опять меня прерывают, какое уж тут письмо, у нас до позднего вечера трезвонит либо телефон, либо дверной звонок…
Читаю книгу Юнгера «Мраморные скалы» второй раз, потрясающая книга, таких упоительных по языку и духу очень мало, но кое-чего ей все же недостает: достойного и предписанного христианством места женщины в мире; книга действительно совершенна, но не закончена, это как если бы церковь была без Божьей Матери; я еще не однажды вернусь к ней и верю, что мое мнение о ней раз от разу будет лучше, поскольку высказанное здесь суждение пока не совсем полно отражает то, что действительно в ней отсутствует…
Я много прочитал, в том числе Стефана Цвейга; «Амок» – очень тягостная книга, но язык просто прелестный и «безошибочный», поистине преинтересное, увлекательное чтение, проникнутое к тому же духом «свободы» тех четырнадцати лет!
Очень скучаю по Достоевскому; иногда мне кажется, что он король, христианский король всех бедных и страждущих и любящих – а из чего же еще состоит христианская община здесь на земле, как не из бедных, любящих и страждущих!
[…]
* * *
На канале, 11 апреля 1943 г.
Воскресенье.
[…]
Сегодня после обеда провел несколько часов по-настоящему мирной жизни: сначала получил две твои бандероли, с сигаретами и шоколадом; это было божественно; несколько часов я находился совершенно один, удивительно, но телефон молчал; полный упоения, я смаковал твой шоколад, курил толстую сигару и читал при этом очень увлекательную и совсем неплохую книгу, семейный роман «Любимое лицо»[109]109
Роман писателя Рихарда Родинга.
[Закрыть]. Меня привлекло название, и я взял ее в библиотеке. Самым невыносимым во многих книгах, в языковом и художественном отношении довольно неплохих, является полное отсутствие мировоззрения автора, к тому же действие этого романа разыгрывается в Саксонии, поэтому в нем заметны следы, правда крошечные, саксонского диалекта, а для меня не существует языка более ненавистного, чем этот саксонский, тягучий, вязкий, словно у тебя каша во рту; тем не менее книга полна жизни и достоверности; это история второго брака одного разведенного мужчины, который страстно любит свою вторую жену, однако все же примиряется со своей первой женой и детьми от первого брака. «Любимое лицо» – сын от первого брака, который немного влюблен во вторую жену отца, весьма юную и миловидную женщину. Вся история несколько запутанная, но необычайно прелестная, только чрезмерно вольнодумная, а порою на удивление безвкусная. Часто автор описывает сцены, происходящие между мужем и женой, какие непозволительно допускать в немецкой литературе, наш прекрасный немецкий язык слишком стыдлив и застенчив для изображения таких сцен; нет, правда, я сам убедился, что некоторые места у Мопассана и Анатоля Франса, которые во французском еще вполне «проходимы», по-немецки звучат как откровенно пошлые непристойности. Кстати, действие этого романа, «Любимое лицо», тоже связано с войной, но ее там очень мало…
Знаешь, порою мне кажется, я потому так «непродуктивен», что еще не вполне переварил в себе эту войну, но иногда у меня возникает чувство, что мне требуется всего лишь несколько дней полной свободы, чтобы написать вполне читабельную историю; я как раз подумал о своем романе «В церковном приделе»[110]110
Роман Г. Бёлля «В церковном приделе. Дневник одного грешника» (май – июль 1939 г.) был написан под воздействием произведений Леона Блуа. Его центральной темой являются бедность, абсолютность веры и критика мещанства. Существует в рукописном виде.
[Закрыть], может, удастся что-нибудь сделать из него; ах, если бы только немного тишины и мира, без униформы и телефона, без фельдфебелей и офицеров! Господи, какая же тяжкая ноша эта война! Однако нам дозволено гордиться, вам и нам, вам, женщинам, совершенно иначе, ведь вы страдаете и жертвуете порой большим, нежели мы, но для нас война ужасна совершенно с другой стороны – в этом случае я всегда отсылаю собеседников к одному месту из книги Вихерта[111]111
Г. Бёлль имеет в виду неоднократно упоминаемое в ряде писем высказывание о войне из романа Эрнста Вихерта «Каждый».
[Закрыть], которое на редкость четко и ясно объясняет это на хорошем немецком языке… […]
В принципе, любовь князя в «Идиоте» предназначена только Наташе[112]112
Ошибка Бёлля, он имел в виду Настасью Филипповну.
[Закрыть], как мне думается; по-моему, это ясно уже из их первой встречи; ах, это трудно объяснить и доказать, поскольку он любит все же и Аглаю, но я полагаю, что он последовал бы за Наташей на самый край света. И есть ли в мировой литературе более захватывающая и более прекрасная сцена, чем та, когда оба: князь Мышкин и Рогожин, сидят у смертного одра любимой и Рогожин в подробностях описывает, как он убил ее. Эта сцена необычайно поразила и потрясла меня, когда я прочитал ее, еще будучи мальчиком, и всякий раз, читая и думая о ней, я переживаю все, как в первый раз. Пожалуйста, прошу тебя, вышли мне побольше Достоевского, Раскольникова и еще красный том издательства «Пипер» с короткими историями «В сумерках большого города»; собственно, это книга Альфреда, но именно она нужна мне, в ней есть еще «Кроткая» и «Белые ночи».
Наряду с такой литературой я читаю и не столь прекрасные книги – читаю слишком много и очень это чувствую, меня радует также, что я еще в состоянии реагировать на прочитанное. Как было бы чудесно, если бы вскорости я получил отпуск на полгода, я бы учился, ходил в университет, а в каждый свободный час работал бы с истинной радостью. Собственно говоря, до ноября, когда возможен очередной учебный отпуск, не так уж и далеко, всего семь месяцев, в принципе эти «пропавшие полгода» – канувший в Лету учебный отпуск – пролетели очень быстро. […]
Сегодня после обеда торговец фронтовой книжной лавки пригласил меня и еще одного товарища на чашку хорошего натурального кофе – необычайно редкое наслаждение; я принес твой пирог, чудесное белоснежное творение, который всех просто осчастливил; вот так втроем в нашей уютной маленькой столовой мы выпили восхитительный кофе, в отсутствие фельдфебеля было очень весело и по-домашнему; но в нашей беседе мы не выходили за определенные рамки, мы вообще никогда не углубляемся в суть неких по-настоящему серьезных вещей, поскольку познания моих сотрапезников все-таки весьма поверхностны; есть, конечно, какая-то «образованность», благоприобретенная из толковых газет и определенного круга литературы, но подкрепленная именно этим кругом – это как бег на месте, – который ограничивается прелестными литературными вещицами, доставляющими удовольствие, и собственным вкусом; вообще-то вкус – очень опасный критерий, он вечно сбивает тебя с толку. Помнишь одно место из «Сельского священника»[113]113
Роман французского писателя Жоржа Бернаноса (1888–1948) «Дневник сельского священника».
[Закрыть], где священник из Торси учит юношу тому, что в принципе вовсе не важно: есть ли у того дешевая олеография с изображением святого или дорогостоящая картин. Раньше это место меня немного задевало, но теперь я точно знаю, что это действительно совершенно несущественно. Вообще-то ужасно, насколько искусство бывает иногда абсолютно ничтожным…








