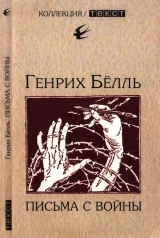
Текст книги "Письма с войны"
Автор книги: Генрих Бёлль
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Наш лейтенант, начальник караула, совсем еще молодой человек, очень ребячливый, аккуратный и немного стеснительный, ему не более двадцати одного года; со своим Железным Крестом первой степени и лицом абитуриента он производит впечатление очень приятного, отличного парня. Он сразу, как пришел, предложил нам свои сигареты, правда-правда, послал за ними наверх одного солдата, тот полностью опустошил его шкафчик; это действительно приятно: столько непосредственности и чистоты и такое сияющее удивительно мальчишеское лицо.
[…] прошли только первые пять часов дежурства, но послеполуденное время самое длинное; ночь пролетает быстро, утро тоже; очень долго тянется время от десяти до часу дня; ужасно скучно и утомительно торчать тут субботним утром, и ждать, ждать, ждать.
Ах, это тоже пройдет, а вот эта ночь мне нужна из-за двух часов двадцати минут, от двенадцати двадцати до четырнадцати сорока; но из-за этих двух часов я должен проторчать тут целых двадцать четыре часа и вообще не имею права без официального разрешения покидать караулку. Да, вот такая она – жизнь в этой безумной солдатчине!
[…]
* * *
Кёльн, 11 марта 1942 г. [61]61
Это первое письмо, отправленное уже не возлюбленной Аннемари Цех, а жене, Аннемари Бёлль. 6 марта 1942 г. в Кёльнской ратуше состоялось бракосочетание Генриха Бёлля и Аннемари. По этому случаю Бёлль получил недельный отпуск. 31 декабря 1942 г. их обвенчали в церкви Св. Павла.
[Закрыть]
[…]
Три часа потратил сегодня утром в санчасти, чтобы попасть к врачу; столько времени простоял в коридоре среди множества больных и раненых солдат, с которыми постоянно обращаются так, будто это они виновники войны, а потому должны теперь сами расхлебывать заваренную ими кашу… но мне, по крайней мере, повезло: мою диету продлили еще на две недели; нет, нет, я не жалуюсь, более того, мне даже здорово повезло, правда-правда; только представь себе, скольких опасностей я избежал во время командировок или при переводе на запад, так что я все больше убеждаюсь в том, что Бог внимательно следит за мной и хранит меня; видимо, у Него есть свой план; ах, как же трудно все это выразить словами! Мне суждено пройти через всякого рода страдания и муки, но, в сущности, я буду избавлен от самого худшего, поскольку после войны мне еще предстоит кое-что сделать; но потом, потом, естественно, никакого прощения. Быть может, моя служба здесь только потому продлевается на столь короткие сроки, чтобы я оказался под рукой, когда из Берлина придет запрос на меня…
Не могу больше писать, поскольку у нас поднялся такой гвалт…
[…]
* * *
Кёльн, 17 марта 1942 г.
[…]
Опять среда, почти час дня, итак, ровно в середине обеденного перерыва мы должны собраться на спевку, потому что сегодня утром мы очень плохо пели. Но я не позволю себе рассердиться… так что укладываться спать сегодня не имеет смысла, все равно нас тут же поднимут, но мне хочется еще почитать Киршвенга[62]62
Предположительно, речь идет о романе Киршвенга «Растущие пределы рейха» (опубликован в 1935 г.), отсюда столь закамуфлированные суждения автора писем.
[Закрыть], по-настоящему хорошая и достойная книга. Тебе непременно надо прочитать ее, не сомневаюсь, что она тебе понравится. Все-таки поразительно и почти удручающе, сколько же у нас, немцев, всякого рода шансов; есть тут у нас один унтер-офицер, типичный глупый казарменный офицер, пруссак, действительно единственный в своем роде, не поддающийся описанию исключительно немецкий шанс.
* * *
18 марта 1942 г.
Вчера сумел написать до сих пор; совершенно неожиданно пришлось оборвать письмо и даже не удалось до конца изложить свою мысль, но, видимо, она не была и такой уж блестящей, чтобы считать, что тем самым погибло нечто невозместимое, – ах, пруссаки! Именно на этом я вчера прервался; они есть и останутся огромной, глубокой и трудно постижимой болью всей моей жизни. Самое ужасное заключается, видимо, в том, что в принципе они иногда даже правы; но во всем, что касается человека, они ошибаются – о нет, беру свои слова назад, – они вообще во всем не правы; эпиграфом к одной из глав романа «Кровь бедняка» является следующая строка: «Унтер-офицер, ты прав. Народная песня».
Эта краткая сентенция потрясла меня уже тогда, когда я еще не носил военную форму. Теперь я ношу ее более трех лет, подумать только – три года! Это 1095 дней, а каждый день – это серая неутешная вечность, а ночи, все как одна, мрачные и смрадные, твои товарищи охают в своих постелях и стонут, а кое-кто даже громко разговаривает во сне. Все это – следствие безумной жизни казармы. А дни! Пробуждение напоминает скорее кошмар: тебя внезапно вырывают из мира грез – а сон, какой бы он ни был, лучше и прекраснее действительности, – вырывают из удушливой атмосферы, которую создают почти двадцать мужчин, они ворочаются в своих грязных кроватях по восьми часов кряду при затемненных окнах, в которых законопачены даже щели, и энергично дышат; просыпаешься от пронзительного свистка, сопровождаемого зверским рыком, таким рыком, который будто старается свалить всю вину за эту войну на бедных поросят, что валяются, притихшие, в своих кроватях; вот так весь день напролет заполнен рыканием и свистками, а в промежутках между ними слышишь набившие оскомину однообразные разговоры твоих товарищей. Ах, три года, три года и один месяц – тысяча сто двадцать пять дней – и почти все до одного в казарме! Действительно невыносимо – болеть здесь, не важно, какой болезнью, но все же я благодарен и рад, хочу надеяться и верить, что нам помогут…
* * *
Кёльн, 2 апреля 1942 г.
[…]
На часах ровно половина пятого утра, за окном светло, почти как днем; мягкая, ветреная весенняя ночь, по небу мчатся облака, и, наводя ужас, завывает ветер; мне порою зябко в этой большой пустой комнате с огромной печкой, которую мы до отказа набиваем угольными брикетами. Через каждые полчаса я выхожу во двор, чтобы посмотреть, не снес ли кто-нибудь бараки, не подпалил ли их, и тогда я вижу пронзительно яркий и ясный лик луны и гряды белых облаков, наплывающих на нее; на меня налетает ветер и пытается закружить, как юлу; я спокойно попыхиваю трубкой и внимательно разглядываю свою бесформенную тень; из всех бессмысленных караулов, которые мне доводилось нести, этот был самым бессмысленным.
В комнате стоят восемнадцать кроватей, но один из троих наших храпунов пренебрег соломенным тюфяком и теперь растянулся во весь рост на столе; моя писчая бумага находится ровно в пяти сантиметрах от его башмаков, но он лежит спокойно и почти неподвижно, и поэтому не стоит опасаться, что он вдруг неожиданно повернется и испачкает ее. Может, он боится вшей и потому отказывается от тюфяка; вчера мы устроили настоящую облаву на этих тварей, у одного из нас нашли аж целых шесть штук; я тут же стащил с себя рубашку, но, слава Богу, пока эти зверушки не утруждают меня своим присутствием.
Когда на несколько минут ветер замолкает, до меня доносится шуршание мышей, для которых такие пустые помещения – настоящий рай. Временами какая-нибудь из них прошмыгнет с кусочком бумаги во рту, и тогда мне приходит на память одна история о мышах, которые построили себе гнездо из стомарковой купюры. Пройдет еще полчаса… и я смогу лечь спать, опять спать…
Мои руки ужасно грязные, вечно эта противная липкая грязь, откуда только она берется; мое заспанное лицо тоже грязное, я устал, устал и не знаю, когда же кончится война со всеми ее ужасами, мракобесием и бесконечной тупостью. Я чувствую, как никнет моя фантазия и постепенно идут на убыль силы, а мое напряжение растворяется в обыденных и повседневных мучениях и заботах пехоты; моя юность продана, она закончилась, по-настоящему так и не начавшись, а вокруг все такое серое и безутешное.
Я ужасно ленив, инертен, зато не лишен предприимчивости; мне хотелось многое делать, от чего потом отказывался из-за все той же лени и ненормальной, сумасшедшей жизни, царящей вокруг…
[…]
* * *
Кёльн, 10 апреля 1942 г.
[…]
До сих пор значительная часть моей солдатской жизни уходила на то, чтобы подметать полы; сегодня впервые я хочу заставить других проделать это, по правде говоря, последнее не лучше первого. Конечно, не так уж трудно обучить этому безропотных поляков; но во взгляде некоторых из них есть нечто такое, что сбивает меня с толку, и я пугаюсь: у людей, которым уже нечего терять, весьма странное понимание свободы. Большинство из них очень робкие и мягкие люди, по-своему покорные и необычайно боязливые, меня это крайне удручает, потому что получается, будто я виновник всех их несчастий. Мне действительно неприятно и очень тяжело руководить ими и тем самым отождествлять себя с ненавистными им пруссаками. Однако я не думаю, что останусь в их памяти таким уж плохим, а мне как раз не хочется и никогда не хотелось, чтобы кто-то запомнил меня как одного из тех, кто своим рявканьем наводит смертельный страх. Поэтому мне будет очень неприятно, если они окрестят меня «руководителем».
На дворе ветрено и пасмурно, очень пасмурно и неприветливо, отличная погода для тех, кто сидит в комнате и может читать и писать; наступит ли снова такое время, когда я смогу радоваться своим книгам и мыслям? За моими плечами уже более трех лет бесплодного служения; но разве не факт, что не возделанное долгое время поле становится очень плодородным, хотя выглядит весьма неприглядно и производит впечатление бесплодного? Во всяком случае, оно зарастает всякими сорняками, и его обработка стоит великих усилий. Но они не безнадежны, мои сорняки и моя целина. […]
Скоро со службы вернутся новобранцы, и тогда работы у меня прибавится; удивительное, однако, дело – иметь под началом четыреста человек и держать их постоянно в узде. Это работа для какой-нибудь злой овчарки, но вовсе не для меня…
[…]
* * *
Кёльн, 28 апреля 1942 г.
[…]
У меня опять дежурная команда, и теперь я торчу здесь до половины девятого, потом мне еще надо как-то изловчиться, чтобы подойти к воротам и хотя бы увидеть тебя сегодня; кажется, с нашей командировкой опять ничего не выйдет; все-таки странно, нас швыряют туда-сюда, действительно трудно понять, что хочет от нас судьба.
Мне кажется, эта ужасная ночь немного успокоила меня; я был у Шпеллербергов и видел, как горел целый квартал красивых зданий и изумительная церковь, я таскал воду и выносил мебель, этой ночью спал всего два часа и тем не менее не устал; не знаю даже, как тебе это объяснить, но нынешней ночью до меня кое-что дошло: когда сегодня утром я вошел в эту зловонную комнату и увидел усталые пустые лица своих товарищей, которым совершенно безразлично, сколько людей лишилось крова или погибло, то впервые по-настоящему пожалел, что не обладаю властью, в противном случае я приказал бы выпороть их всех подряд; в течение долгих часов я не мог отделаться от такого дикого желания, и ненависть в сердце все-таки осталась – ах, ну не знаю…
Если однажды с нами приключится подобное несчастье, первое, что мы должны спасать, это наши книги; спасти книги и сохранить их, они бесценны и невосполнимы.
Теперь я опять дрожу, дрожу за завтрашний день, за послезавтра, потому что не знаю, переведут меня или нет. Если выяснится, что перевод не состоится, то вполне возможно, я получу на четырнадцать дней отпуск, но если нас все-таки оставят в списке для перевода, то на отпуск надеяться нечего, конечно, я изо всех сил стараюсь быть спокойным и ждать… Когда-нибудь я расскажу тебе, что за странность приключилась со мной этой ночью и что нового произошло, но не раньше, чем сам разберусь в происшедшем.
Похоже, я совсем измотался, пойду лучше посплю; все равно не напишу ничего путного… Я окончательно свихнусь – стол липкий от повидла, а грубости возвращающихся из города отпускников напрочь выводят меня из себя; вдобавок ко всему еще и разгорается скандал из-за ведерка с повидлом и кусочков колбасы; Боже, ничего не меняется, все та же жалкая нищета, все та же гнетущая атмосфера…
[…]
* * *
7 мая 1942 г.
[…]
Шлю очередную весточку – пока еще с территории Германии, мы в товарном вагоне, сильно качает и довольно темно; как же тяжело покидать Кёльн. Все ужасно безнадежно, можно с ума сойти, все те же горластые парни и та же болтовня, год за годом; недавние новобранцы всего за полтора месяца стали такими же глупыми, как и все остальные.
А я… я хочу попросить Бога сохранить мне жизнь и дать силы жить. Я не хочу умереть ни физически, ни психически. Благоденствуй на земле мир и свобода, жизнь могла бы стать непередаваемо прекрасной, овеваемая этим нежным, сладким весенним ветром; ах, идти бы вот так под деревьями и только вдвоем, мы тоже еще не познали мир и свободу, но однажды, однажды мы воссоединимся… Подъезжаем к Аахену, попробую отправить письмо, последнее перед границей…
[…]
* * *
Западный фронт, 11 мая 1942 г.
[…]
Сегодня утром впервые командовал подразделением новобранцев и обучал их; не знаю, кто как, но после такого ора я охрип и чувствую себя каким-то несчастным; ощущение такое, будто это вовсе не я, а кто-то другой; это «фюрерство» в отделении не осчастливило меня, к тому же я совсем не уверен в себе, но, может, у меня все еще наладится и я буду счастливее?
Я совершенно охрип и устал, сильно устал. Господи, помоги мне; часто во время перерыва я отхожу куда-нибудь, чтобы усмирить свое сердце, и молюсь… В общем и целом такую жизнь можно выдержать, начальники вполне сносные, куда лучше, чем толстокожие и тупые рекруты; но мне грех жаловаться, потому что помню, каким строптивым был в свое время сам…
Лейтенант – очень приятный аккуратный парень, совсем молодой, за ранение награжден Железным Крестом первой степени, по-настоящему человечный, достойный уважения; правда, об один острый камушек он спотыкается, но именно благодаря ему я сумел преодолеть в себе антипатию к этой местности; идеальный северянин, симпатичный во всех отношениях. К примеру, я не мог бы его обмануть, и мне не стыдно в этом тебе признаться; вероятно – порою я в этом почти уверен, – с этой ротой я отправлюсь на фронт, и поэтому очень отрадно, что будет такой ротный.
Вчера еще раз попробовал всевозможные французские горячительные напитки, правда, они стали менее крепкими, но до чего же приятно: стоит только заказать, как тотчас получаешь все, что тебе нравится, – все ликеры, вот только, к сожалению, очень мало вин; в кафе, или estaminets[63]63
Маленькие, почти домашние, кафе и закусочные в Бельгии и на севере Франции.
[Закрыть], как их тут называют, хозяева не очень церемонятся; зал для посетителей одновременно служит и семейной столовой; дети приходят сюда прямо с улицы, получают бутерброд, да еще тайком залезают в масленку, затевают тут потасовки, делают уроки и приводят с собой друзей; все это необычайно естественно и очень умиляет; поэтому до боли стыдно, что нас всегда, всегда заставляют только воевать, на нас всегда только униформа… […]
Как же несбыточно далеко то время, когда однажды нам позволят жить…
[…]
* * *
Западный фронт, 17 мая 1942 г.
[…]
Еще вчера вечером я так радовался, намереваясь провести несколько часов в одной тихой кофейне за письмом к тебе, но все вышло иначе. Поначалу я стал писать домой, потом пошел поесть, а когда собрался было опять уйти, чтобы заняться письмом к тебе, за мной зашли и потащили на пьянку постоянного состава, от чего я просто не имею права отказаться. Попойка продолжалась до двух часов ночи, поистине варварское, сумасшедшее пьянство, но все дело в том, что из-за этого я сегодня совершенно разбитый, именно в воскресенье, которому заранее так радовался. Как всегда по воскресеньям я до трех дежурил, а потом улегся на боковую, чтобы проспаться после пьянки…
Моя личная жизнь, ты и мои родные, которых я тоже очень люблю, все это часто куда-то исчезает, и я об этом даже не вспоминаю, я как во сне; очень странное состояние, я становлюсь тогда ефрейтором Бёллем, командиром отделения, с некоторой долей садизма, полный отвращения, глубокой ненависти к войне, не счастливый, однако и не столь глубоко несчастный, полный своеобразного цинизма; и этот Бёлль командует отделением.
Другой же Бёлль иногда все это сознает и приходит в ужас от первого, но только поначалу, потом он свыкается с ним, в общем, оба хорошо ладят друг с другом, для них это только игра; но тот, кто не командует отделением, вообще не солдат и мне нравится больше, он мой единственный друг; он не хочет даже видеть оружие и мечтает, страстно мечтает, полный тоски и мрачных мыслей, об отказе от любого насилия, всяческого крика и рявканья в армии; этот мой друг – необузданный, фанатичный индивидуалист, ему очень редко позволяют проявлять инициативу, и у него есть одно очень важное, ответственное задание: не забывать ничего из того, что оскорбляет достоинство человека и что направлено и сказано против Бога. Сегодня ночью я «по службе» пьянствовал до двух часов; ты знаешь, я не борец с алкоголем, я и сам не прочь выпить, но неистовая, безумная пьянка только из-за пустого невежества, сопровождаемая непристойностями и фразерством, была сущим безобразием; я ни на секунду не был по-настоящему пьян, я сознавал все, что делал, однако здорово надрался, так что мне было плохо и муторно; и когда сегодня ночью под великолепным чистым небом, предвещавшим чудесный день, я неверным шагом возвращался тихой деревенской улицей домой, держа под руку моего старого друга Цильке, который был в стельку пьян, то вспоминал все мои негативные высказывания об армии и о войне, и я поклялся никогда не забывать их и всегда, всегда хранить в своем сердце. Да, не забывать ничего – это задача моего друга, первого, а другому я позволяю быть рядом со мной, но пока еще точно не знаю, как к нему относиться: стоит ли его ненавидеть, любить или только жалеть, вероятно, я еще направлю его на путь истинный.
Сегодняшнее утро было ослепительно прекрасным, когда я с тяжелой головой поднялся из своего угла, мои люди уже чистили оружие, не хватало только того, чтобы к нам вошел лейтенант. После обеда во время осмотра оружия я должен был проверить штыки в строю, но я не хотел портить воскресенье и никого не записал назло нашему солдафону-фельдфебелю.
Сейчас почти пять часов. Я только что прослышал, что у первой батареи лежат два тяжелых мешка с почтой для нашей роты, думаю, там и для меня кое-что найдется; хоть бы их вскрыли сегодня! Мне кажется, я только потому бываю иногда безразличен и безучастен, что не приходит почта; но когда она добирается до нас, то нами овладевают другие, повседневные радости, а не одни лишь воспоминания.
Курение – это единственное, что мне еще осталось, читать я не могу, писать – тем более, а пить в моем нынешнем состоянии вообще невозможно, потому что несколько дней тому назад снова дала о себе знать, и довольно ощутимо, моя застарелая болезнь, приключившаяся со мной во Франции; слава Богу, не дизентерия, все же с помощью опиума и голодания я ее уже немного приглушил.
Скоро отправлюсь на прогулку в соседнюю деревню; я специально подал рапорт об отпуске да еще заявку на выходной, чтобы лишний раз выйти за пределы части; как-нибудь сообщу Эди[64]64
Эдуард Имдаль – брат Аннемари Бёлль, тоже солдат, находился в это время во Франции.
[Закрыть], где нахожусь; мы расквартированы в довольно большой деревне неподалеку от морского продовольственного управления, не исключено, что у него тут найдутся дела и он объявится здесь, тогда он сможет навестить меня. Однако я не думаю, что мы тут надолго застрянем, очень скоро нас отправят отсюда…
[…]
* * *
Западный фронт, 18 мая 1942 г.
[…]
Наконец-то уже полдесятого, и я могу распечатать твои письма; долго же мне пришлось носить их в кармане, прежде чем настал этот момент, только вот ответ придется писать в спешке; неимоверно много работы, однако отчасти в этом мое спасение.
Сейчас сижу один во французской пивной с бутылкой красного вина; кроме меня здесь только старая хозяйка заведения, она примостилась возле печки и штопает чулки; моя голова полна разных мыслей о завтрашнем дне, потому что мне предстоит еще многое сделать: я должен приготовить бумажные фигуры солдат и мишени и надо еще как следует проштудировать боевой устав пехоты…
Сегодня на утренних полевых занятиях я произвел очень хорошее впечатление на командира полка, обер-лейтенанта, он наблюдал за нашим отделением, в общем, я справился; его визит почти такой же, как вашего министериальдиректора…[65]65
Министериальдиректор – министерский чиновник, занимающий высокий пост.
[Закрыть]
Вчера вечером был в соседней деревне, хотел купить для вас масла, но ничего не вышло; тогда я заглянул в пивную и попросил хозяйку приготовить для меня омлет из трех яиц, потом поболтал с ней немножко; она поведала мне о том, что ее муж сейчас в Германии, в лагере для военнопленных в Бохольте, и показала его фотографию, я счел себя обязанным показать ей твою. Она решила, что я расстроен и нуждаюсь в утешении, и сказала, что война должна кончиться через три месяца и тогда я снова буду со своей «bien aimée Annemarie»[66]66
Любимой Аннемари (фр.).
[Закрыть], мне пришлось назвать твое имя, к сожалению, к великому сожалению, я не могу поверить в ее пророчество; естественно, она имела в виду, что война кончится потому, что мы ее проиграем; так считает большинство здешних жителей; ах, эти французы вообще ничего не знают… Пора закругляться, надо ложиться спать, а рано утром придется еще кое-что выучить. Мне бы очень хотелось заполучить отдельную комнату, тогда стало бы значительно легче, мне это даже положено, просто на сей раз не повезло, но, когда нас снова переведут в другое место, я надеюсь, что буду жить в отдельной комнате, это мне обещал наш переводчик и квартирьер. […]
Да, чуть не забыл: вышли, пожалуйста, денег, они здесь так быстро тают…
[…]
* * *
Западный фронт, 22 мая 1942 г.
[…]
Только что пришли твои письма от воскресенья и понедельника и письмо и бандероль из дома… менее четырех писем я еще ни разу не получал; видишь, как мне хорошо; правда, служба изнурительная, поскольку для командира отделения в тринадцать человек я очень робок, это верно, а еще потому, что слишком долго длится моя служба и никак не кончается, даже по воскресеньям: приходится следить, чтобы каждый выстирал свое белье, вымылся, проверил, нет ли вшей, и т. д., то есть нет ни минуты, ни одной минуты свободного времени; но вот когда раздают почту, его у меня хоть отбавляй, я имею право курить, пить хорошее вино, а также наслаждаться другими прекрасными вещами douce Франции; здесь прекрасная плодородная земля, и по утрам, во время учений в нашем лесу или поблизости от него, повсюду, на пологих склонах и холмах видны рабочие лошади, вплоть до самого горизонта можно разобрать серую лошадь в яблоках и сивую, а лес – я уже писал тебе – это настоящий волшебный ковер из диких цветов под зеленым шатром, да еще в ярких солнечных пятнах.
Вот через все поле к нам скачет лейтенант, элегантный и юный нордический блондин с орденом; есть что-то удивительное в том, как он, подобно юному властелину, скачет по освещенному солнцем полю прямо по молодым всходам, которые гибнут под подковами его лошади; о, я не солдат и никогда им не стану, и я плохой, очень плохой командир отделения, но этот скачущий юный господин, властитель роты, вообще являет собой что-то очень странное; ах, у меня сердце бродяги, я скорее бы заплакал, увидя этот чудесный лес, в котором должен рычать, как солдафон; я плакал бы, завидя прекрасные холмы, по которым должен гонять свое отделение; охотнее всего я бы один, совершенно один улегся на одном из них под лучами солнца и мечтал; я никогда добровольно не стану солдатом и в глубине души зачастую ужасно сержусь на велосипедистов из моего отделения, которые старательно произносят «господин ефрейтор» и все время норовят почистить мои сапоги; ах, Господи, пусть чистят, но… нет, нет. Однако в общем и целом здесь вполне достойная жизнь, достойная человека, вот почему я не несчастлив, именно не несчастлив, но я страдаю, я по-горло сыт всем этим.
Сегодня у нас были стрельбы, с двенадцати до восьми без перерыва, потом еще придумывали пароль и обсуждали младших командиров; сейчас уже половина десятого, и многое из того, что мне предстояло сделать, осталось невыполненным, но завтра суббота, как же я этому радуюсь…
Я сижу в каком-то французском кабаке над названием «У господина бургомистра», я – единственный посетитель; все шумное семейство хозяина – старики, молодые с детьми и две служанки – собралось во время обеда за круглым столом; они отлично живут; я бы тоже, пожалуй, не отказался от хорошей отбивной; у них сегодня маленький праздник, потому что родился бычок, я уже видел его, бедовый малый, проворный, крепкий; вчера малыша еще не было, его мать стояла во дворе с тяжелыми боками и грузным выменем почти до земли и, отупев от боли, печально смотрела на нас, а крестьяне суетились вокруг нее, похлопывали по бокам и изрекали «советы»…
…я безумно устал и завидую маленькой белокурой внучке моих квартирных хозяев, которой ее юная мать буквально перед моим уходом нежно и проникновенно напевала: «Et quand la Guerre finie, les Allemands partis…»[67]67
А когда кончится война и все немцы уйдут… (фр.).
[Закрыть]
[…]
* * *
Западный фронт, Троицын день 1942 г.
[…]
Сегодня Троица, действительно наступила Троица; уже скоро пять часов, а я все никак не могу уединиться, чтобы написать тебе письмо. Может быть, завтра будет потише, пока у меня еще очень много дел; надо позаботиться о белье, разыскать прачку, получить маркитантские товары, самому как следует изучить новое оружие, о котором должен рассказывать завтра утром, и т. д. и т. д. …
Твое письмо от девятнадцатого немного печальное… Ну посмотри же, у меня все хорошо, никакой опасности я не подвергаюсь, а если подвергаюсь, то не больше, чем ты, и я вовсе не грущу, бывает, правда, иногда, но крайне редко, и я не несчастен; просто мне все и вся опостылело, все, что связано с униформой, но я уже свыкся со службой и полностью справляюсь со своими обязанностями, так что житье вполне сносное. Жизнь – совсем иная штука, в этом я убедился. Ведь она в нас самих, это не нечто, существующее вне нас, или то, что мы обязаны устроить и что происходит вокруг нас; нет, нет, мы делаем сами нашу жизнь, и когда я нахожусь в среде младших командиров и слушаю их абсолютно идиотские и бесстыдные разговоры, то считаю, что мне до этого вообще нет дела и что тому, что я подразумеваю под словом «жизнь», это никоим образом навредить не может, что все расцвеченное, любая фантазия и любой дух, который на самом деле существует и живет, Бог и душа, – все это неуязвимо именно благодаря этой утратившей всякую силу пене. Возможно, это звучит слишком высокопарно, но мне сие совершенно безразлично; я не могу позволить этому сброду уничтожить мою жизнеспособную силу, не могу позволить так называемым «обстоятельствам» задушить мои сердечные радости, мою любовь к тебе и все-все, что вообще составляет для христианина жизнь. Я ни с кем не спорю, нет, но я молчу… вероятно, это хорошо, что у меня так много работы, у меня ее действительно выше головы…
На дворе безумствует непогода. Вчера вечером и сегодняшней ночью разъяренный ветер с воем носился вокруг нашего маленького домика, тут уж никаких тебе самолетов и воздушных боев, как это случается иной раз. Сегодня днем во время построения – было еще довольно солнечно – мы снова услышали тявканье зенитных батарей и треск пулеметов, а потом они налетели на нас целыми звеньями; все небо было испещрено полосами от конденсата. Здесь великолепно, и стоит мне подумать о том, что, быть может, когда-нибудь мы проедем с тобой по тем местам Франции, где я служу сейчас, мое сердце готово выпрыгнуть из груди в предвкушении радости от такой поездки. Вся местность, насколько хватает глаз, изобилует невысокими холмами, поросшими кустарником и низкорослыми деревцами, любой маленький клочок собственности обнесен густой живой изгородью; отличные места, где можно «faire l’école buissonière», что означает «прогулять уроки в школе», то есть «провести урок на природе». Ах, как хочется хотя бы еще раз прогулять уроки! За эти годы я, конечно, не поглупел, это уж точно, но я по-настоящему очень жалею, что мне не часто доводилось прогуливать уроки, ибо тогда каждый такой день принес бы больше пользы. Вчера вечером мы вернулись лишь полдесятого, и такое в Святую субботу! И все только потому, что были в кино, хотели получить удовольствие. После ужина, не мешкая ни минуты, мы отправились мыться, полтора часа на дорогу и четверть часа под холодным душем, а в завершение – традиционно в прусском духе – медосмотр. Потом до семи проторчали в пустом пансионате для девочек, где в ожидании фильма еще раз помылись, потом до половины девятого просидели в кино, а напоследок – марш-бросок уже назад; в пехоте любое удовольствие связано с маршем, поэтому для нас удовольствие как таковое практически не существует. Коротая время перед фильмом, я листал разбросанные по всему классу книги и тетради девочек; было очень интересно читать написанные изысканным языком сочинения и их благозвучные названия. Потом неожиданно произошел один инцидент: кто-то из наших новобранцев украл из комнаты через открытое окно шесть мотков пряжи; женщина, вся в слезах, обратилась к фельдфебелю, однако тот отослал ее к нам, а поскольку нашего переводчика на месте не оказалось, разбираться с женщиной, насколько это было возможно, пришлось мне; лишь по прошествии нескольких минут я понял, что произошло, а затем был вычислен и виновник происшествия, который стыдливо вытащил пряжу из брюк. А потом наши сердца прямо-таки обливались кровью: мы видели, как в кухне монастыря, где располагается пансионат, пекли сказочный пирог – много-много масла, много сахара, много молока и муки; это было необыкновенно, а уж от пирогов мы все просто с ума сходим. Как же я был счастлив, получив вчера вечером, твои знаменитые прянички. Сколько же бандеролей ты мне послала, их прямо не счесть. Сегодня или завтра я вышлю вам посылочку, пока точно знаю, что положу в нее несколько апельсинов… Теперь здесь вообще невозможно что-либо купить; единственный раз повезло с маслом, если бы я смог послать его вам, то был бы счастлив.
…сижу тут в пивной один-одинешенек и пью великолепное красное вино… сейчас пойду взгляну на свое отделение, надо, чтобы они, согласно предписанию, были готовы к тревоге; потом необходимо еще изучить свое оружие; определенно, я единственный, кто теперь без дела торчит в пивной…
[…]
* * *
Франция, 5 июня 1942 г.
[…]
Сегодня у меня дежурство с девяти вчерашнего вечера до девяти сегодняшнего; я считаю эти сутки своего рода отдыхом, пройдет ночь, и я буду свободен, никакой службы, ничего не слышать о ней и не знать; ах, как же прекрасно на воле, уже очень тепло, хотя нет еще и девяти часов, то есть по французскому времени сейчас нет даже семи; вчера вечером я был ужасно зол и раздражен, узнав, что не смогу уехать до тех пор, пока сюда не поступит свидетельство из Управления полиции; я уже полностью все упаковал, к тому же мне недвусмысленно дали понять, что я смогу уехать не позднее сегодняшнего утра; я безумно нервничал, потому что все еще пребывал в неведении, как обстоят дела у вас, хотя знал, что не получу от вас писем, поскольку вы думаете, что я уже в дороге; но самое архиважное заключается в том, чтобы ни с кем ничего не случилось; ты, конечно, можешь представить себе, до какой степени выматывает ожидание официальной бумаги; я по-настоящему не находил себе места, но сегодня утром уже не так раздражен и зол, как накануне вечером; по рассказам одного отпускника, который вчера вечером вернулся из Кёльна, дела там действительно обстоят ужасно.








