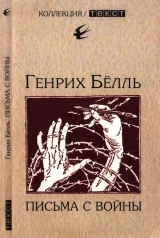
Текст книги "Письма с войны"
Автор книги: Генрих Бёлль
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
Сегодня утром я так радовался предстоящей торжественной мессе, но перед самым ее началом раздался сигнал воздушной тревоги, а после отбоя никто о ней уже и не вспомнил. Да, наше поколение постигла злая участь – война, тяжелейшая из всех предыдущих войн… Каждый день жду от тебя писем […], но вот уже восемь дней, как нам не приносят почту, да и кому по-настоящему есть до этого дело. У врача полно работы, помимо этого он должен обслужить два эвакуационных пункта, а больничный персонал – как и в любом тыловом районе – озлобленные, безразличные люди, в особенности эти поганые канцелярские крысы…
Надо же, в такой лучезарный июльский день пятого года войны, когда все, буквально все стараются с достоинством нести свою тяжелую ношу, я стенаю и громко ругаюсь, словно озлобленный батрак. Это сущее безобразие. Я необычайно измотан беспрерывным кочевьем по госпиталям и измучен нашей бестолковой немецкой организованностью, которая всех нас держит в своих лапах. Виды на будущее как никогда ужасающие, тем не менее я не теряю надежды на свидание с тобой; как только мне официально разрешат ходить, я проконсультируюсь у ортопеда и глазного врача, чтобы в очередной раз проверить, есть ли еще такие доктора, которые больше следуют зову совести, а не безумным, абсурдным распоряжениям, потому что все, в приказном порядке признанные годными к строевой, не находят себе применения на передовой и являются балластом; ах, вся эта война подобна слабоумной змее, жалящей себя в собственный хвост…
Вчера вечером, когда я удрал с больничной койки во двор, я разговорился с одним старым венгром, и меня ошеломил его рассказ о настроении народа. Он сказал, что у них между «образованными» и богатыми с одной стороны и бедными с другой существует вопиющий антагонизм и что они все надеялись, что мы, немцы, придем в Венгрию как враги и изменим лицо страны, потому что тогда, как говорил старик, все богатые, естественно, сбежали бы и у народа появилась бы возможность создать собственное правительство. Все это лишено логики и звучит наивно – ведь ежели большая страна оккупирует маленькую, то об увеличении свобод вообще не может быть речи, однако я был потрясен заботами этого старика, ненавидевшего богатых. Господи, в любой стране одно и то же. В Румынии это ощущается еще сильнее, еще разительнее; если по улице, смеясь и приплясывая, идет офицер со своей проституткой, а вслед за ними в трех шагах от них крадется бедный верный батрак, который, вполне вероятно, через восемь дней будет мертв, знай, это денщик господина офицера или его невольник. Война – такая же стихия, как вода и огонь… ни положительная, ни отрицательная, сама по себе безобидная, но горе тому, кто ее призовет…
[…]
* * *
Дебрецен, 5 июля 1944 г.
[…]
Сегодня мне значительно лучше, вызванная температурой апатия исчезла, и я снова чувствую себя здоровым. С утра принял чудодейственный душ и смыл весь мерзкий пот после высокой температуры, после чего надел новое белое белье; как все-таки хорошо, когда ты более или менее здоров. Вчера испытал нечто прекрасное […] ах, ведь это так просто; вечером, когда все уже улеглись, мне стало очень душно, я встал с постели и подошел к окну на лестничной площадке; землю объяла необыкновенно мягкая, безмолвная лунная ночь; сладкие летние ароматы насыщали воздух, и было очень приятно вот так смотреть на тихие аллеи, ведущие к нашей большой школе; улица еще жила спокойной жизнью, тут и там между цветущими деревьями мелькали пестрые платья, до меня долетало щебетанье гуляющих пар и тихое пение молодежи, однако вскоре все смолкло, и я оказался наедине с собой, впервые за очень долгое время остался по-настоящему совсем один.
Какая мирная, дивная и светлая лунная ночь! Не хочется все время роптать на то, сколь прекрасной могла бы быть жизнь, ибо она прекрасна вопреки всей этой мерзости.
Нынче мой покой нарушали дважды; сначала это был визит врача, перед которым мы проходили строем, и он заглядывал каждому в глаза и выписывал очередные, еще не испытанные на больных пилюли. Мне он объявил сегодня окончательный диагноз: «волынская лихорадка», это какое-то до сих пор еще не изученное заболевание, возбудитель которого пока неизвестен; у нас его лечат красноватого цвета таблетками с хинином и каждые семь дней кровопусканием, только и всего. Моя рана потихоньку затягивается. Я с удивлением замечаю, как все-таки удивительно быстро уменьшается глубокая дыра в спине.
А потом к нам нагрянуло венгерское варьете, выступление клоунов было превосходным, чего нельзя сказать о прекрасном венгерском чардаше в исполнении очень моложавой, но беззубой и флегматичной блондинки. Но тут разразилась гроза, и всем пришлось спешно укрыться в помещении, поэтому нам не довелось увидеть искусные фокусы иллюзиониста.
Моим соседом по палате оказался очень приятный невысокого роста горный стрелок, необычайно жадный до знаний; я поделился с ним своими довольно скудными познаниями в истории литературы со всеми ее направлениями и неизбежной при этом литературоведческой критикой; я играл с ним также в шахматы, впервые с тех пор, как я расстался с моим товарищем Яком Янзеном, поистине великим шахматистом, у которого я многому научился; это действительно был редкий человек и хороший товарищ, просто необыкновенный парень. Так вот, теперь рядом со мной лежит этот коротышка стрелок, охваченный необычайной жаждой знаний, он высасывает из меня все соки, иногда мне становится просто не по себе, мне стыдно, что я не могу удовлетворить его наивное мальчишеское любопытство и отделываюсь пустыми фразами, ведь за моими плечами всего лишь один семестр, и о школьной философии я не имею ни малейшего представления…
Все дни напролет, с семи утра до десяти вечера, комната буквально накаляется от политических дебатов; после вторжения противника на Западе и катастрофы на Восточном фронте очень многими солдатами овладело необычайное волнение. Что следует ожидать от нашего Южного фронта, пока остается под знаком вопроса, но я не верю в наступление русских, а о том, сможем ли мы атаковать сами и принесет ли подобное наступление вообще какую-то пользу, судить не решаюсь. Во всяком случае, во время нападения я охотнее оказался бы среди атакующих, нежели среди атакованных. Желание попасть на запад пока по-прежнему остается мечтой, самой желанной после заветной мечты об окончании войны, так как мне, видимо, суждено участвовать в этой войне до конца. Уже одно только упоминание о русской армии с ее несущей смерть тяжелой боевой техникой пробуждает во мне страх и ужас, усугубленные к тому же страхом и ужасом, вообще присущими войне; видимо, на русских сказалось наследие азиатского прошлого, проявляющееся в таком важном событии, как война; в подобном случае в характере народа открываются подспудные возможности, некогда заложенные в него. Это не боязнь и не страх, овладевающие мною, а необъяснимый ужас, который, однако, можно преодолеть усилием воли. Но я хотел бы повоевать и с европейцами, коль скоро приходится участвовать в этом ходе истории…
По-прежнему не теряю надежды на окончание войны в ближайшие месяцы, это желание настолько сильно владеет мною, что порою одна только мысль об этом пьянит меня, мысль, что однажды можно будет снять с себя эту ненавистную униформу!
В последнее время почта приходит в Германию с большим опозданием, поскольку теперь бомбовые удары парализуют и Венгрию.
[…]
* * *
Сентеш, 12 июля 1944 г.
[…]
Странные вещи случаются иногда в солдатской жизни. Пока я по-настоящему тяжело болел, то валялся в поту от высокой температуры и с огромной зияющей раной на спине на грязных соломенных тюфяках и грязных кроватях, а теперь, когда начинаю постепенно выздоравливать, у меня чистая белая постель; в этом госпитале действительно все очень красиво и чисто, воистину благодать: совсем рядом роскошная ванная комната с блестящими раковинами и зеркалами, и у каждого застеленная белым постель.
Во время сегодняшнего обхода врача у меня было хорошее самочувствие, температура спала, рана почти зажила, поэтому скоро меня выпроводят из этого прекрасного госпиталя, но на какое-то время я тут еще задержусь, по крайней мере, до получения от тебя вестей. Тебе нечего беспокоиться, я все еще не теряю надежды каким угодно путем попасть в Германию; ты знаешь, не обо всем можно написать, эта война уже стоит у меня поперек горла, и порою целыми днями не могу вымолвить ни слова; Господи, будь милостив к нам!
Здесь, конечно, великолепно, но меня это не радует, хоть я и снял с себя на какое-то время униформу, а вот получится ли снять ее насовсем… Помоги нам, Господи, покончить наконец со всем этим бесчинством.
[…]
* * *
Сентеш, 21 июля 1944 г.
[…]
События под Яссами со временем стерлись в моей памяти, но иногда из самой глубины сердца вдруг поднимается до боли знакомый необъяснимый ужас, именно сейчас, когда остались считанные дни до моей выписки из госпиталя и решения начальства, куда меня отправить: назад на фронт или же домой, к тебе. Теперь госпиталь лишен права принимать какие-либо решения, все отдано в ведение фронтового командования. Прямо из госпиталя бывших раненых отправляют в прифронтовой командный пункт, где и решается дальнейшая их судьба. Поэтому не исключено, что в начале августа или уже в конце июля, благодаря счастливому стечению обстоятельств, я пересеку границу Германии. В это, конечно, верится с трудом, однако все может быть… Если не получится с этим ранением, будем рассчитывать на следующее и ждать…
Ежедневная зарядка по утрам мне в общем-то даже нравится, но малейшее напряжение вообще лишает меня сил; к сожалению, плавать мне по-прежнему нельзя, потому что рана пока еще не совсем зажила. Наш доктор очень хорошо и с пониманием относится к нам; это по-настоящему умный человек и умелый врач. Хочу сегодня во время обхода попросить его обследовать меня на предмет малярии, все-таки я опасаюсь, как бы не оказалось у меня в крови возбудителя малярии. Это ведь легко установить.
Только что вернулись с великолепного концерта небольшой женской группы, устроенного организацией «Сила через радость». В их вокальном и инструментальном исполнении прозвучали песни Бетховена, потом они прочитали несколько прекрасных стихотворений Рильке. А «дома» нас ожидало известие о попытке группы офицеров совершить революционный переворот и о покушении на жизнь Гитлера. Можешь представить себе, какое волнение охватило нас; мы всю ночь просидели у радио и вели жаркие дискуссии. В нашей комнате и без того всегда страстно и жарко спорили; вопреки моей привычке, я принимал в этих спорах самое горячее участие и какое-то время даже возглавлял их; но меня потрясло, как мало на свете истинных христиан […] после войны мы должны с полной отдачей трудиться во благо царства Божьего…
Сегодня перед нашим домом, открытку с видом которого я тебе посылал, открылась грандиозная ярмарка. Это что-то необыкновенное: на большой, поросшей зеленой травой площади разместилось множество ларьков и прилавков, а между ними раскинул свой шатер цирк, рядом установили и качели. Тут можно купить лошадей, волов, кур, гусей, яйца, паприку, голубок, всевозможные картины, ужасающий китч, разномастные бонбоньерки, в общем, моему взору предстала пестрая многоликая жизнь, которую невозможно было охватить одним взглядом…
[…]
* * *
Сентеш, 22 июля 1944 г.
[…]
Последние дни у нас царило неописуемое волнение из-за покушения на Гитлера, происходило что-то невообразимое; большинство интересовали не политические подоплеки и мотивы, а лишь вопрос о том, это конец войне или нет; многие полагали, что прямо отсюда отправятся пешком к границе Германии. Ты даже не можешь вообразить себе, до какой степени в госпиталях накалилась обстановка. Война длится уже пять лет, но ни один человек не имеет даже малейшего представления о том, что значит пять лет носить униформу.
Сегодня во время обхода доктор дал мне понять, что в ближайшие дни выпишет меня; надеюсь остаться тут хотя бы до понедельника, то есть до двадцать четвертого, потому что тогда должна прийти почта. Многие из твоих писем идут на полевой номер Дебрецена, поэтому их еще дошлют. Может быть, сегодня получу почту с большими подробностями о тебе.
Перед окнами нашего дома, вид которого я тебе уже посылал, в полном разгаре ярмарка. В ней очень заметны балканские традиции, ведь мы находимся почти на самом юге Венгрии. Но товары необычайно дороги, тем более для нас, с несчастными двадцатью пятью пенгё в кармане, которые нам выдают раз в десять дней. Иначе можно было бы купить много роскошных вещей.
[…]
* * *
Сентеш, 27 июля 1944 г.
[…]
Сегодня подошел срок моей выписки, но, видимо, из-за чрезмерных стараний во время физических упражнений рана опять начала гноиться, поэтому придется остаться тут еще на несколько дней. Мне уже не терпится уехать отсюда, к тому же я опасаюсь, что со временем предписания о новом назначении будут более жесткими и даже исчезнет возможность попасть в резервную армию. Надеюсь, вчерашняя речь Геббельса не возымеет соответствующих последствий и тебя не лишат драгоценных и заслуженных каникул[128]128
Бёлль имеет в виду речь Геббельса по поводу событий 20 июля 1944 г., в которой тот, в частности, сказал об отправке на фронт резервных дивизий, находящихся на территории Германии, и о формировании вместо них новых частей из новобранцев, которые должны пройти обучение.
[Закрыть]. Политическое положение тоже очень беспокоит меня, очень хочется еще разок попасть домой и посмотреть, что там у вас. В остальном у меня все отлично, это правда, и я бы уже сегодня с огромной радостью уехал отсюда, а о решении, отправят ли меня в Германию или нет, мне бы, конечно, хотелось узнать заранее, пока еще не вышел приказ, который сделает это решение просто невозможным. […] Да поможет нам Бог!
В этом городе чудесно, народ тут мирный и сметливый, однако постоянно находится под бдительным оком неправедного государства. При виде марширующей в направлении вокзала колонны парней, призванных в армию, сразу понимаешь, что это беднейшие из бедных, босой и оборванный люд; вечерами же по улицам города шляется без дела «лучшая» часть сброда, юные подонки в штатском платье. В Венгрии живут либо бедные, либо богатые; кто богат, тот офицер или штатский, а уж коли ты беден, то непременно солдат; в феодальной системе нет ничего хуже рабского угнетения.
Война все больше приобретает безумные формы; как же мне хочется получить от тебя весточку, но едва я улавливаю в строках твоих писем отзвук последних событий…
Наши каждодневные и еженощные дебаты становятся более взволнованными и жаркими. Нервы у всех окончательно расшатаны. Минуло уже пять с половиной лет, как на меня надели униформу, это мрачные, бесцельно прожитые годы, целый кусок жизни и молодости, лето за летом, осень за осенью, и шесть суровых зим, и шесть сияющих весен. […]
Я полон уверенности и надежды на встречу и всерьез рассчитываю на нее, вот только очень нервничаю и вконец расстроен.
[…]
* * *
Сентеш, 28 июля 1944 г.
[…]
Военное положение ужасающе мрачное, так что я уже не лелею надежду попасть в Германию; сегодня врач объявил мне окончательный срок выписки – понедельник; итак, во вторник на командном пункте в Дебрецене решится моя, наша судьба! […] Если мне все-таки удастся попасть в Германию, то конец войны я непременно отпраздную в Метце, долго она уже не продлится – да убережет нас Бог и защитит от большой неразберихи последних месяцев…
Сегодня вечером благодаря предстоящей вскорости выписке мне было разрешено выйти в город, где я чудесно погулял несколько часов; невероятно красивая страна Венгрия, мирная и первозданная в истинном значении этого слова; в городе (35 тысяч жителей) две короткие благоустроенные улицы, все остальные – длинные и скорее напоминают проселочные дороги с невысокими зелеными деревьями и аккуратными, ухоженными канавами; одноэтажные и необычайно опрятные дома построены, как на Востоке, с плоскими крышами; все выглядит довольно мирно, но с оттенком страха, его можно прочесть и в глазах венгерских мужчин; фрукты в этой стране: светло-зеленые стручки сладкого перца, абрикосы и яблоки – кажутся на удивление унылыми и неухоженными; все это полно очарования и своеобразной красоты, но, думаю, и опасно для нас, холодных представителей Запада, потому что мы и вправду холодные.
Обстановка тоже под стать старой славной Австрии: здороваясь, многие люди, в особенности военные, употребляют слово «привет»; чрезмерная любезность делового люда кажется мне чересчур вычурной «к. и к.»[129]129
Королевский и кайзеровский – сокращенное обозначение обеих суверенных частей Австро-Венгерской монархии во главе с австрийским кайзером, который одновременно являлся и королем Венгрии.
[Закрыть], что тоже, видимо, придает привлекательность и очарование этой неприкрашенной первозданности. Впрочем, здесь много толстых женщин, очень красивых и необычайно подвижных, типично южная черта.
[…]
* * *
Дрезден, 21 сентября 1944 г.
[…]
Я уже дежурил, таскал кофе в огромных тяжелых флягах; да, становится совсем неуютно. Потом еще это ночное дежурство в службе противовоздушной обороны. Однако надолго я тут не задержусь, вот только получу от тебя письма и вскоре после этого так или иначе буду у тебя.
До сих пор все ночи, за исключением одной, были очень тихими; единственная за четыре дня тревога и никакого разрушения в городе; все это довольно странно.
Передай привет маме!
* * *
Дрезден, 26 сентября 1944 г.
[…]
Только что вернулся с медосмотра, решено, что меня выпишут в пятницу; врач нашего отделения, очень молодой, очень порядочный, прекрасно знающий свое дело специалист, настаивает на предоставлении мне двенадцатидневного отпуска для поправки здоровья, его рекомендации лежат пока у главного врача, весьма щепетильного человека. Будем надеяться, все закончится хорошо. Уже завтра многое прояснится, нет, пожалуй, в четверг. Господь будет милостив ко мне; ежели не суждено будет получить отпуск, что ж, смиримся, во всяком случае, перед отправкой в резервную часть имею полное право повидаться с тобой.
Последние дни были довольно безрадостными! Никакой тебе почты, ни курева, меня попросту ошеломила моя чудовищная зависимость от никотина. Несколько дней я буквально изнемогал от желания курить и даже попробовал было побороть эту тягу, однако из этого ничего не вышло, что меня ужасно огорчает. Сегодня один мой приятель одолжил мне немного денег в счет предстоящей выплаты в октябре, так что теперь я по-настоящему блаженствую, затягиваясь дымом столь драгоценной отравы…
[…]
* * *
Дрезден, 27 сентября 1944 г.
[…]
Оба последних дня перед выпиской живу в огромном напряжении, нетерпение почти убивает меня; здесь стало просто невыносимо, все раздраженные, злые и голодные, к тому же нет курева; я рад предстоящему скорому отъезду. Затянувшаяся война порядком истрепала мне нервы. Надежд на скорое ее окончание почти не осталось. Видимо, придется ждать еще не менее полугода. Боже милостивый, ниспошли нам мир, уж очень долго длится это мучение…
[…]
* * *
Бад-Нойенар, 22 ноября 1944 г.
[…]
Я готов сколь угодно долго терпеть такую «тюрьму», лишь бы каждый день видеть тебя. […] Мне не страшен фронт; либо быть с тобой, либо на передовой, только не в этой промежуточной инстанции. Да, я немного побаиваюсь собственной тоски и леденящего душу ужаса, но вовсе не чрезмерных трудностей, хотя последнее время я как-то избаловался, боюсь увидеть тебя и всех остальных, задавленных страхом неизвестности.
Переполненные госпитали, грязные палаты, почти конюшни уже никого не волнуют; сумасбродный пруссак все превращает в казармы, этот абсолютный институт тупости; я никогда не соглашусь с тем, что необходимо истязать людей, доводя их почти до самоубийства в этих, напоминающих тюрьму заведениях, прежде чем им дозволят умереть геройской смертью за отечество. Ни один солдат не познает войну в казарме, он даже не станет сильным, только тупым!! Атак называемую задачу воспитания «индивидуальности» […] я просто ненавижу, ненавижу этот милитаризм, как ничто на свете, потому что в нем сосредоточено все, достойное ненависти.
[…]
* * *
Бонн, 23 ноября 1944 г.
[…]
Быть может, я задержусь здесь[130]130
Имеется в виду пункт сбора раненых, признанных годными к службе в армии, который располагался в Бонне в местной школе.
[Закрыть] еще на несколько дней. Врач очень выдержанный и внимательный; во всяком случае, завтра я не уеду, хотя теперь этого не знает никто. Пока подожду, а там как получится. Так или иначе, но я еще раз приеду к вам. У меня родилась абсолютно новая идея. Попытаюсь позвонить тебе сегодня вечером. […] Классная комната, в которой нас разместили, полна тетрадей со школьными сочинениями боннских девочек. Я как раз просматриваю их и одновременно болтаю по-французски с одним американцем, девятнадцатилетним ньюйоркцем, который со вчерашнего дня лежит рядом со мной. Чудные, наивные, словно дети, эти американцы, они еще не сполна вкусили всех «прелестей» войны.
Всем привет, и расскажи им о моем положении.
[…]
* * *
Бонн, 24 ноября 1944 г.
[…]
По-прежнему не могу сообщить о себе ничего нового и определенного. Врач еще не приходил. Вполне вероятно, что сегодня вечером буду у тебя.
Вчера вечером с грустью вспоминал о наших письмах в подвале дома в Кёльне и представлял себе, как чьи-то грязные руки раскрывают их; ах, я больше не могу писать тебе красивые письма, уже давно не могу, война, как мельничными жерновами, перетерла меня. Подумать только: всю войну, более пяти лет, пробыть в пехоте с моими несчастными ногами. Часто мне кажется, что мы уже на пороге великих свершений, которые наконец подарят мне свободу, но, видимо, нам планида такая – вечно находиться между жерновами… Однако я уповаю на помощь Господа Бога и уверен, что ничего плохого со мной не случится, и тем не менее страшусь любого ужаса, нужды и лишений. […] Очень, очень тоскую по отцу и остальным родным, в особенности теперь, когда нет в живых мамы. Я едва сдерживаю слезы при мысли о ее могиле в Арвайлере[131]131
Мать Генриха Бёлля умерла 3 ноября 1944 г. неподалеку от Кёльна в Арвайлере, где и была похоронена, а спустя две недели Аннемари Бёлль вместе с сестрой Генриха Бёлля и его отцом перебрались в Мариенфельд.
[Закрыть] и об одиночестве отца. Мне страшно подумать о том, что совсем скоро придется опять отправиться на фронт и тем самым доставить новые волнения и заботы отцу; нас с тобой я вообще не беру в расчет. Быть может, это подозрительность и малодушие заставляют нас так думать, но ведь в подобных случаях нельзя оставаться совершенно равнодушным, это не по-человечески. Чем дольше длится война, тем сентиментальнее мы становимся, и с каждым месяцем все ощутимее становятся наши муки и боли.
[…]
* * *
Оберауэль, 31 марта 1945 г.
Страстная суббота.
[…]
Мы по-прежнему скрываемся в большом коровнике, спим уже значительно меньше, потому что приходится днем и ночью стоять в карауле, да еще выполнять специальные задания. Вчера в деревню совершенно неожиданно нагрянули американцы, они заходили в каждый дом и наивно допытывались, нет ли в нем немецких солдат. После небольшого сражения, во время которого был тяжело ранен один из американцев, мы взяли их в плен. Раненый лежит тут же, рядом с нами. Как же все-таки ужасна солдатская судьба в этой мерзкой войне, и как мало заботятся о «неизвестном солдате», о «каждом»[132]132
Бёлль намекает на роман Эрнста Вихерта «Каждый», повествующий о Первой мировой войне.
[Закрыть] из нас. Боже, помоги нам.
В остальном жизнь тут почти такая же неопасная, как и у вас, поэтому волноваться не стоит… За три дня, что я здесь, никто из нас еще не ранен. Да почти и не стреляют. Чудной фронт. Жители, включая беженцев из Кёльна и Зигбурга, почти все еще здесь и целыми днями спокойно разгуливают по городу. Ночью они спят в подвалах. За вас я спокоен, потому что вижу, как здешнее население неделями живет всего в трехстах метрах от линии фронта… лишь бы не быть солдатом, о, Боже, как же ненавижу я эту войну и всех, кто ее любит…
Я был необычайно счастлив, когда сегодня утром выкроил время прочитать двенадцать пророчеств Страстной субботы. Мой старенький Шотт[133]133
Имеется в виду «Требник святой церкви» Ансельма Шотта (1843–1896; монах-бенедектинец), книга с молитвами для совершения богослужебных обрядов, где содержались и пророчества Страстной субботы.
[Закрыть] всегда со мной, я еще ни разу не расставался с ним и постоянно ношу его в своем рюкзаке. Рюкзак и пальто Алоиса – вот и весь мой багаж, его пополнила лишь походная фляга одного американца…
[…]
* * *
Оберауэль, 3 апреля 1945 г.
[…]
Уже восемь дней, как я опять на фронте; у меня все в порядке, только сплю мало, но зато мы хорошо живем. Кормят неплохо и, кроме того, временами дают по паре яиц, а через день – полный котелок молока. До сих пор во всей роте ни одного убитого и даже раненого. Так что здесь, как видишь, очень спокойно; иногда, правда, бывает сильный обстрел тяжелой артиллерией и гранатометами… Одолевает безумная усталость. Приходится денно и нощно, с небольшими перерывами, стоять в карауле, а днем по полдня, а то и целый день торчать на крыше сарая, ведя наблюдение. Вчера с семи утра до семи вечера следил в бинокль за американцами на том берегу, в Бланкенберге, Штайне и Гройельзифене… Мария знает эти места. Мы находимся в Оберауэле, напротив бланкенбергского вокзала. Ни здесь, ни там никто из жителей не уехал, они довольно свободно ведут себя, правда, им приходится как-то приноравливаться к артиллерийским обстрелам. Вчера видел на «американской» стороне много женщин с молочной посудой… девушек, ребятишек, подростков. Старики, опираясь на трости, свободно разгуливают вблизи позиций переднего края обороны, многие беседуют с американцами, которые, впрочем, ведут себя довольно непосредственно и неосторожно. Если бы у нас было достаточно оружия, к тому же последнего образца, мы бы играючи разделались с ними. Мы абсолютно недееспособны, днем нам не дают даже носа высунуть, нас тотчас обстреливает американская артиллерия, в то время как мы вообще ничего не можем им сделать. В ночь под Пасху, с наступления сумерек до самого рассвета, я находился в карауле возле моста всего в двадцати метрах от американцев, промерз до костей, да еще и покурить нельзя было. В настоящее время мы уже перебрались из хлева в дом; за отсутствием хозяев, которые дни и ночи проводят в подвале, мы обретаемся на кухне. Чтобы согреться, топим печь даже ночью, поскольку ни у кого из нас нет ни пальто, ни одеяла, нет даже плащ-палатки, чтобы укрыться от дождя, а он льет, льет и льет, не переставая, почти с самой Пасхи. Дороги настолько развезло, что вообще не пройти. Однако, несмотря на явную безвыходность нашего положения, я полон надежд, потому что уверен: на этой неделе война окончится. Да, еще только одна неделя, и всё. Человеческому безумию есть предел, и он настал…
К сожалению, я не могу теперь ежедневно читать молитвы из моего Шотта, в хлеву мне удавалось все-таки находить укромный уголок где-нибудь подле коров, и я молился. Однажды ночью, когда мы спали, родился теленок, очень тихо, без шума, так что мы даже не заметили. Только рано утром, когда хозяйка пришла доить коров, мы увидели новорожденного, еще мокрого, неловкого, невероятно боязливого хорошенького малыша, которого мирно вылизывала умиротворенная мамаша.
Ночью мы спали в проходе между стеной и яслями, и коровы частенько выедали сено и солому из-под наших голов, неопасно, но довольно-таки неприятно. Я быстро подружился с коровами и, лежа на земле, подолгу смотрел, как они ели сено, а потом пережевывали жвачку. Более приятных животных, кроме лошадей, мне не доводилось встречать…
Надеюсь, что в Мариенфельде вы не очень сильно страдаете от налетов. Артиллерии нечего особенно опасаться; когда фронт приблизится, в подвале Леманов у вас будет вполне надежное убежище…
[…]








