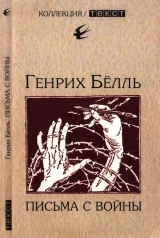
Текст книги "Письма с войны"
Автор книги: Генрих Бёлль
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Генрих Бёлль
«Нет ничего страшнее войны…»
Почти двадцать лет тому назад ушел из жизни один из корифеев немецкой литературы, лауреат Нобелевской премии Генрих Бёлль (1917–1985). Это был истинно немецкий писатель, «совесть нации», европеец в самом лучшем понимании этого слова, борец за права человека любой национальности. Как сказала писательница Сара Кирш, он был «целой инстанцией, куда всегда можно было обратиться». Своими произведениями, своей политической и общественной деятельностью он помогал укреплению связей Германии с другими странами и способствовал тому, чтобы после Второй мировой войны немцы восстановили свою репутацию в семье европейских народов.
Полагаю, нет необходимости много говорить о месте Г. Бёлля в мировой литературе и о значении его творчества, лучше всего об этом свидетельствует тот факт, что его произведения переведены на сорок восемь языков мира, и то, что он единственный среди немецких писателей послевоенной поры был удостоен в 1972 году Нобелевской премии по литературе.
Читательский бум не обошел стороной и нашу страну. Начиная с 1957 года, когда в журнале «Иностранная литература» вышло несколько рассказов Бёлля, он стал и по сию пору остается в России одним из любимых немецкоязычных писателей, наряду с Маннами, Ремарком, Стефаном Цвейгом, Фейхтвангером, Фришем, Музилем и др. Он близок русскому читателю умением тонко понимать человеческую душу и мастерски передавать мысли и чувства своих героев, в первую очередь угнетенных и страждущих, своим непримиримым отношением к войне, фашизму, к любой социальной несправедливости, своей добротой, бескомпромиссностью и бесстрашием в критике современной ему действительности.
В СССР и теперешней России о Бёлле и его творчестве написано много прекрасных статей; менее чем за десять лет после первой публикации тираж его произведений в нашей стране достиг двух миллионов экземпляров; именно в России, в Театре им. Моссовета, раньше, чем в самой Германии, был поставлен спектакль «Глазами клоуна» по одноименной повести писателя. Первое шеститомное собрание избранных сочинений вышло тоже не на его родине, а в России, в издательстве «Художественная литература».
Россия и русская литература с детских лет привлекали к себе внимание будущего писателя. Из классиков он очень высоко ценил Льва Толстого, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Лескова, Есенина, Блока, Пастернака и многих других, однако наибольшее тяготение испытывал к Достоевскому, героями которого были люди «униженные и оскорбленные». По мнению Бёлля, «он тесно связан со временем, народом и страной, Достоевский – писатель вневременной, то есть всегда современный». Любовь к русской литературе отражена в творчестве Бёлля – беллетриста и публициста. Так, в романе «Групповой портрет с дамой» одним из центральных персонажей является советский военнопленный Борис Колтовский. В этом же романе есть эпизод, напоминающий мотивы из гоголевских «Мертвых душ»: на вымышленном предприятии имеется фиктивный список русских военнопленных, «мертвых душ», по фамилии Чичиков, Собакевич, Свидригайлов, Разумихин. Бёлль посвятил ряд эссе русским и советским писателям и ученым. Находясь в армии, он старался выкроить время для занятий русским языком. К сожалению, Бёлль не много преуспел в своих стараниях, что, однако, не помешало его общению с русскими людьми во время своих неоднократных визитов в СССР, где он приобрел много друзей и массу почитателей своего таланта.
Несвоевременный, довольно ранний уход из жизни Бёлля с горечью был воспринят людьми разных национальностей и политических убеждений. Тогдашний президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер назвал его «одним из великих представителей немецкой литературы». Датская газета «Политикен» написала, что Бёлль «освободил немецкую душу от Бисмарка и Гитлера», а под словами известного писателя Зигфрида Ленца подпишется любой человек, знакомый с творчеством и деятельностью Генриха Бёлля:
«Мы ничего не можем поделать с равнодушием смерти, выбирающей себе жертву. Но мы можем противопоставить ей наши воспоминания. Не будет забыт Генрих Бёлль, писатель, который… писал на все времена. Хочется пожелать, чтобы в памяти остался и человек, стоящий за этими произведениями: по-дружески свойский, излучавший юмор и тепло… всегда готовый встать на защиту безгласных и беспомощных. Не сосчитать всех, кто должен благодарить его».
Пожелание Ленца исполнилось, Бёлль не забыт, его именем названа площадь в родном ему Кёльне, многие школы Германии носят его имя, есть литературная премия его имени. В девяностых годах после относительного затишья интерес к нему снова вырос, появились не печатавшиеся при жизни романы, рассказы и эссе. Романы «Ангел молчал», «Крест без любви» и сборник «Бешеный Пес» в России были опубликованы издательством «Текст». С 2002 года в Германии, в издательстве «Kiepenheuer & Witsch», выходит рассчитанное на девять лет двадцатисемитомное собрание его сочинений. Но самой значительной публикацией, проливающей свет на творчество Бёлля и его гражданскую позицию, является издание фронтовых писем, адресованных родным и подруге Аннемари Цех, которая в марте 1942 года стала женой будущего писателя. Можно сказать, фронтовые письма – это еще одно его новое произведение, удивительное, откровенное, честное, правдивое, смелое, имеющее чрезвычайное значение для понимания всего его творчества и общественной деятельности.
Надо было обладать большим мужеством и смелостью, чтобы в то время позволить себе уничижительные высказывания в адрес германского вермахта и ближайших соратников Гитлера – Геббельса и Геринга, проклинать ненавистную, преступную войну, которая несет неисчислимые беды как виноватым в ней, так и невинным. Однако Бёлль не связывает эту войну с Гитлером, для него «война есть война», «нет ничего страшнее войны», «война жестока», «война – это ад», «война, любая война – преступление; я на всю жизнь останусь непреклонным антимилитаристом», «ненавижу войну… а всех тех, кому она в радость, ненавижу еще больше», «это рабство, унижение, беспрекословное подчинение и полная зависимость от примитивных тварей… ненавижу войну, всей душой ненавижу». Подобные слова звучат почти в каждом письме Бёлля с войны. Он всей душой жаждет ее окончания, однако не допускает и мысли, что Германия будет повержена. Даже в 1944 году, когда немецкая армия терпела поражение на всех фронтах, он по-прежнему пишет, что «мы непременно выиграем эту войну», «пусть Германия победит», «я уверен, что мы победим Россию» и т. д.
Бёлль-пацифист во многих письмах с фронта сожалеет о том, что не может принять участие в боевых действиях, хотя «именно теперь, когда опять началось наступление… было бы здорово углубиться в бесконечные просторы огромной России, я ужасно страдаю оттого, что всю войну провожу… в тени…», а за две-три недели до капитуляции Германии он пишет такие слова: «Если бы у нас было достаточно оружия, к тому же последнего образца, мы бы играючи разделались с ними» (имеются в виду американцы). Считал ли он так на самом деле или писал это с оглядкой на цензора, сейчас сказать затруднительно. Скорее всего, он просто не мог доверить бумаге свои истинные, крамольные для того времени мысли, потому что знал о перлюстрации писем. Вермахт создал специальную цензуру, следившую за тем, чтобы в почте не содержалось важных военных сведений и какой-либо критики действий верховного командования или политики правительства рейха. Но поскольку между фронтом и родиной ежемесячно курсировали миллионы писем, на долю каждого цензора приходилось в день примерно сто семьдесят писем, и вероятность того, что именно твое «крамольное» письмо станет объектом пристального внимания проверяющего, была не слишком велика. К тому же у Бёлля был ужасный почерк, разобрать который стоило огромного труда. Тем не менее, согласно некоторым данным, во время Второй мировой войны в Германии было вынесено почти 15 000 смертных приговоров, в частности за содержащиеся в письмах «пораженческие высказывания». В своем «Письме моим сыновьям» (1985) Бёлль приводит другую цифру: «Число казненных немецких служащих вермахта точно не известно; известно только, что их было более тридцати тысяч».
В начале войны Бёлль был осторожен в суждениях, но со временем его высказывания становились все более смелыми и весьма опасными для его жизни. Он очень рисковал, критикуя поздравительную речь Геббельса по случаю Рождества 1942 года.: «Омерзительно слышать из уст этого человека строки стихов великого немецкого поэта Гёльдерлина… ужасно, что столько болтают и врут…»; а незадолго до покушения на Гитлера в его письме встречаются такие слова: «Однажды мы все-таки освободимся от этих предателей». По меньшей мере легкомысленными были его уничижительные высказывания о солдатском мундире, который он пренебрежительно называет «серой униформой», о казарме: «казарма – это институт тупости», об унтер-офицерах: «унтеры – это сброд в расшитых позументом мундирах»; об армии: «вермахт – это сборище людей, чуждых и равнодушных друг другу» и т. д. Заметим, что автор этих писем был тогда еще очень молод.
Бёллю не исполнилось и двадцати двух лет, когда его призвали в армию. Ему выпало пройти войну от начала до конца и остаться в живых. Правда, из шестидесяти восьми месяцев военных действий он провел ровно сорок на территории Германии в специальных частях по охране военнопленных и секретных объектов вермахта, двадцать в оккупированной Франции, работая в немецкой администрации переводчиком, снабженцем, секретарем и телефонистом, а также охранял от англичан береговую линию, и только семь месяцев провел в восточных государствах; его непосредственное участие в военных действиях ограничивается примерно четырьмя неделями: тремя в Крыму и двумя днями в Румынии под городом Яссы. В обоих случаях пребывание в горячих точках закончилось ранением. Вообще же за время войны Бёлль был ранен четыре раза, по счастью, не очень тяжело. Последние дни войны, спасаясь от террора немецкой полевой жандармерии, он вновь оказывается в действующей армии, противостоящей вошедшим в Германию американцам. Незадолго до официальной капитуляции Германии, в середине апреля, он попадает к ним в плен и 15 сентября 1945 года возвращается домой, в разрушенный Кёльн.
Солдат Бёлль писал домой почти каждый день: родителям, родным, но главным образом – своей возлюбленной и будущей жене Аннемари. Письма родителям были спокойные, уравновешенные, иногда ироничные, с многочисленными благодарностями за посылки, денежные переводы, с вопросами о здоровье, с заверениями об отличной службе и т. д. «О чем пишет солдат домой? Что он несказанно счастлив, поскольку ему доверили участвовать в этом великом событии, которое изменит лик всей Европы; что настроение отличное, еда вкусная и ее вдоволь, денежное вознаграждение сказочное. Вот о чем пишет немецкий солдат домой». И лишь в письмах любимой женщине он дает себе волю и откровенно высказывает все, что накипело у него на душе.
Первое письмо Аннемари Цех – довольно формальное, со значительной долей иронии. Позже, когда отношения молодых людей стали более доверительными, характер писем в корне изменился. Их пишет уже совсем другой человек, более серьезный, желающий произвести впечатление на любимую женщину. Письма становятся более страстными, откровенными; многие эпизоды из них словно уже знакомы читателю. У Бёлля нет произведений в полном смысле автобиографических, но так писать о войне, как он, мог лишь тот, кто сам испытал ее смертельную опасность и на собственном опыте познал жестокий абсурд немецко-фашистского казарменного быта, кто понял всю нелепость и преступность войны. Многое, о чем Бёлль сообщал Аннемари, впоследствии нашло отражение в его художественной прозе и эссеистике. Бёллю-солдату был необходим собеседник, и, хотя ответных писем Аннемари здесь нет, создается впечатление, будто она разговаривает с ним, она – единственный человек, кому он доверяет свои самые сокровенные мысли, например об отношении к Богу, войне, женщине и т. д. Благодаря Аннемари он, судя по письмам, никогда не оставался один. Естественно, не все можно было рассказать, и не только из-за цензуры, порою он просто не хотел волновать жену.
Составителем сборника писем является Аннемари Бёлль, которая сочла нужным опубликовать лишь три четверти фронтовой корреспонденции, к тому же с некоторыми сокращениями, отмеченными в издании квадратными скобками. Она объяснила это тем, что такова была воля автора писем.
Последнее письмо с фронта датировано 3 апреля 1945 года, и кажется, что должны быть еще письма, поскольку война не закончилась, но она закончилась для обер-ефрейтора Бёлля. Как уже было сказано, в середине апреля Бёлль попал в плен к американцами, после чего его переправили в лагерь для военнопленных в Бельгию без права переписки. Однако он остался верен себе и в течение пяти месяцев лагерной жизни вел дневник, представлявший собой скрепленные проволокой самодельные страницы, вырезанные из пакетов. К сожалению, этот дневник не уцелел, при освобождении из лагеря английский фельдфебель отобрал его у Бёлля и выбросил в отхожее место. Этот факт своей биографии писатель запечатлел в рассказе «Когда кончилась война».
Публикуемые письма дают не просто представление о событиях далеких военных лет, это автопортрет будущего знаменитого писателя, тогда еще безвестного молодого человека, даже не помышлявшего о том, что когда-либо его письма станут достоянием широкой читательской аудитории.
Русский перевод фронтовой корреспонденции Бёлля состоит из писем, адресованных жене, которые дают нам представление о том, почему их автор так ненавидел войну, милитаризм и почему впоследствии он стал горячим заступником бесправного «маленького человека» и совестью своей нации.
И. Солодунина
Письма с войны
Оснабрюк, 13.02.40 г.Милая фройляйн Цех!
Необычайно признателен Вам за посланные Вами книги, которые я получил на прошлой неделе. Кроме Фуке, я не читал ни одной. Правда, Барбе д’Орвильи теперь у меня у самого есть, получил в подарок на Рождество, однако в таком неудобном формате, что просто не мог взять его с собой, чтобы читать здесь.
К сожалению, оттепель промелькнула, как мимолетный сон; сначала здесь все превратилось в слякоть и воду, словно подготовилось к тому, чтобы покрыться гладкой ледяной коркой. В течение восьми дней температура упала с восьми градусов тепла до двадцати двух мороза. К тому же опять, не переставая, сыплет снег. Естественно, с усилением холода пропорционально уменьшаются шансы на отпуск, который постепенно превращается в иллюзию. Но, как известно, германская пехота славится прямо-таки возмутительной невозмутимостью.
Свободные часы «прекраснейшего периода моей жизни» я трачу на размалевывание самыми несуразными, ядовитого цвета, красками моего наихудшего периода; довольно изнурительное и в то же время приятное времяпрепровождение, более, однако, приятное, нежели изнурительное, ибо «человек есть Бог, когда он мечтает, и нищий, когда размышляет»[1]1
Цитата из романа «Гиперион, или Греческий отшельник» известного немецкого романтика Иоганна Кристиана Фридриха Гёльдерлина (1770–1843): «Человек есть Бог, когда он мечтает, и нищий, когда размышляет, а ежели у него пропадает вдохновение, он, подобно строптивому сыну, которого отец прогнал из дому, считает жалкие пфенниги, подаренные ему из жалости». (Здесь и далее примеч. переводчика).
[Закрыть].Милая фройляйн Цех, еще раз горячо – насколько это позволяет мой темперамент – благодарю Вас за Ваше любезное содействие по части заполнения «наипрекраснейших» часов «самого прекрасного периода моей жизни».
Ваш Генрих Бёлль
* * *
Мюльгейм, 29.10.40 г.
[…]
По вечерам, когда я никуда не выхожу, я почти физически ощущаю потребность написать Вам письмо, но вполне допускаю, что, вероятно, досаждаю Вам своим столь приятным для меня вечерним занятием. Поэтому не читайте дальше, если у Вас нет на то желания или времени. […]
Часто после несказанно удручающей монотонности службы и пустых никчемных разговоров в свободные часы, когда ты оглушен набившими оскомину избитыми пошлостями, а глаз воспринимает исключительно серый цвет в этой непередаваемо унылой обстановке, о которой непосвященный может лишь догадываться, я просто счастлив, что мне дано возрадоваться музыкой этой картины, которая, как драгоценная мелодия, волнует меня. Однако порою мной по-настоящему овладевает дикая тоска, так что приходится до боли стискивать зубы, чтобы не завопить, как сумасшедший. Быть может, Вам тоже знакомо чувство отчаяния. Кажется, будто ты со всех сторон зажат огромными, черными, как ночь, глыбами, которые непрестанно надвигаются на тебя, медленно, угрожающе, и не отступают назад, и тебе кажется, что ты изойдешь в мучениях, и потому молишься с неистовой верой, которой, пожалуй, достало бы, чтобы опрокинуть на землю небо, но ничего утешительного не происходит. Это крест. Потом, когда все уляжется и превратится в тупую, с оттенком цинизма грусть, которая неотъемлема от тебя, как цвет твоих волос и глаз, тогда ты спросишь себя, чем заслужил такую великую, великую милость – не лишиться рассудка. Бог снова и снова подает тебе надежду, это призрачное дитя своей благости.
Но очень часто печаль исчезает так, будто ее и вовсе не было. Тогда мое настроение улучшается, я становлюсь терпимым, и все люди представляются мне если уж не прекрасными, то, во всяком случае, вполне достойными сожаления. И уже ни в ком из них я не ищу своего палача. Такое состояние может длиться иногда часами, но овладевает мной как-то неимоверно быстро и всегда неожиданно, словно блеснувшее на миг из-за плотной завесы облаков солнце, которое я часто ненавидел с поистине одурманивающей ненавистью. И если Вы полагаете, будто мне известно, что я без особого труда могу достичь такого счастливого состояния, во время которого делаю наброски к своим блестящим романам, только после восьми – десяти стопок водки, то легко можете представить себе, какую яростную борьбу я веду с его величеством алкоголем. Как должен сдерживать себя, переступая порог этой до отвращения ненавистной мне казармы, лишь бы не подпасть под влияние влекущих к себе мрачных пивных, где можно по-настоящему забыться. Вам они неведомы, эти грязные забегаловки, которые еще ни одной женщине не принесли счастья. Ах, именно они, эти смрадные, мрачные притоны, где задыхаешься от табачного дыма и где какой-нибудь изощренный мошенник подаст тебе сомнительное пойло, – именно они и дают забвение. Однако мои успехи в этой борьбе просто ошеломляющи. Я и подумать не мог, что у меня достанет столько силы воли. Можете мне поверить: я действительно ни разу – за то время, пока нахожусь здесь, – даже не помыслил о водке. Я почти горжусь этим. Снова и снова, когда порою я буквально изнемогаю от тоски и нежелания жить так дальше, мною овладевает искушение отдаться течению обстоятельств и призвать к себе безумие. И тут – Вам это может показаться странным – мне помогает мысль о Вас. Мне не хотелось бы объяснять почему, но это чистейшая правда. Вспоминайте иногда обо мне в Ваших молитвах или, быть может, в часы досуга, ежели Вам не придет в голову что-нибудь поинтереснее.
Однажды я, наверное, с благодарностью отплачу Вам за Вашу доброту, за разрешение писать Вам. Вы даже не представляете себе, сколь облегчают письма мою душу. […]
Нести эту ношу одному было бы мне не по силам.
С искренней благодарностью
Ваш […]
* * *
Мюльгейм, 4 ноября 1940 г.
[…]
Вчера, примерно в это время, я еще был у тебя…[2]2
Если Г. Бёлль не получал воскресного отпуска, то Аннемари приезжала к нему в Мюльгейм.
[Закрыть] напрочь забыв о предстоящем утре, которое теперь превратилось для меня в сегодняшний день. Со вчерашнего вечера, не переставая, льет дождь. И в такую непогодь нам пришлось долго шагать до нашего поста, расположенного вдали от города в чистом поле[3]3
Видимо, имеется в виду охрана аэродрома, расположенного примерно в четырех километрах от Мюльгейма.
[Закрыть]. Все вокруг поблекло, промокло и обдает холодом. Но мне очень тепло, и я могу писать тебе письмо. Скоро, когда я заступлю на дежурство, я в течение целых двух часов буду думать только о тебе, и разве вправе я жаловаться, что моя одежда и сапоги насквозь промокли? […]
Обычно мы заглядываем в свое будущее на такую глубину, насколько это позволяет нам наше счастье. И всегда от свидания до свидания. Потому что наше будущее состоит лишь из одной войны и сплошных несчастий и, может быть, еще из разлук. Мне страстно хочется стать однажды – совсем ненадолго – слепым и глупым. Не знаю, сумею ли я выдержать такое в течение трех часов, но мне бы этого очень хотелось. […]
Я считаю секунды и перевожу их в часы, часы, громоздясь один на другой, переходят затем в дни, и так, пока не завершится долгая неделя. Завтра присмотрю себе более подходящий поезд. Через две недели я так или иначе приеду в Кёльн, если, конечно, у меня не будет дежурства. Ах, ежели вдруг в следующее воскресенье мне выпадет дежурить или будет объявлена боевая готовность, это станет еще одним подтверждением того, что нам хотят дать почувствовать, какие мы неудачники. Во всяком случае, часть дня я все равно буду свободен: либо утром, либо в середине дня, или же мне придется принимать тебя – упаси Бог! – в казарме. Знаешь, ужасно, когда унтер-офицер, или пусть даже офицер, громогласно рассуждает об искусстве, пренеприятно, когда в кино играют Бетховена или Моцарта, но все это более или менее естественно, ибо представляет эстетическое зло, но увидеть в казарме тебя – это самое что ни на есть непостижимое. Не знаю, вправе ли я ожидать от тебя такого. Я ни в коем разе не обижусь на тебя, если ты откажешься приехать. Так что хорошенько над этим поразмысли. Знаешь, пока у меня недостает сил запретить тебе это. […]
Так хочется написать тебе красивое письмо, но нет ни минуты покоя. Капрал и оба сослуживца болтают без умолку да еще и свистят, а один из них все норовит заглянуть мне сзади через плечо. Может, сегодня ночью, когда все уснут и я останусь совсем один, я напишу тебе что-нибудь хорошее. Или завтра; тогда уж я постараюсь отыскать какое-нибудь тихое кафе, спокойная обстановка которого настроит меня на более прочувственное письмо. Здесь же меня постоянно отвлекают и только мешают. […]
Сегодня у нас нет причин жаловаться, и я надеюсь, что в ближайшие недели они тоже не возникнут, а «недели» – это уже много. […] Нет, не могу. Не стану больше писать, не дают сосредоточиться. К тому же без четверти пять – я много раз принимался за письмо и опять бросал, а в пять мне заступать в караул. Быть может, вечером получится, когда все вокруг утихнет и все уснут.
[…]
* * *
Мюльгейм, 5 ноября 1940 г.
[…]
Я напрочь забыл, что должен был посоветовать тебе, какие книги почитать. К сожалению, многого предложить не могу, не хочу склонять тебя к явному компромиссу. О современной литературе тоже имею весьма приблизительное представление, поскольку за время моей солдатской службы читал лишь развлекательные истории и ничего для учебы. Поэтому назову для начала всего несколько имен. Попробуй начать с Иоганна Киршвенга[4]4
Киршвенг Иоганн (1900–1951) – священнослужитель, теолог, поэт и писатель, с творчеством которого Бёлль познакомился еще в 1936 г.; участник Первой мировой войны.
[Закрыть] или же Генриха Лерша[5]5
Лерш Генрих (1889–1936) – поэт, писатель; добровольцем участвовал в Первой мировой войне.
[Закрыть]. Понимаешь, обучая, не так часто подвергаешься опасности метать жемчуг перед свиньями, потому что ты неустанно стремишься растолковать своим слушателям истинную ценность таких жемчужин. Во всяком случае, Отто Гмелина[6]6
Гмелин Отто (1886–1940) – автор исторических по духу романов, действие которых происходит на закате средневековья; отрицал всякую возможность познания объективной истины, поскольку, по его мнению, все знания человечества полностью относительны и условны.
[Закрыть] ты почитать можешь. Его вещи не оскорбительны и к тому же сравнительно не опасны. Есть один премилый рассказ у Франца Тумлера[7]7
Тумлер Франц (1912–1998) – очень популярный в свое время австрийский поэт и прозаик, автор многочисленных романов, новелл и эссе.
[Закрыть], молодого австрийца, кажется, он называется «Путешествие к бурной реке», маленький томик, вышедший в серии «Малая библиотека» (кстати, он стоит на моей книжной полке во втором ряду сверху). «Отпуск под честное слово» вышел тоже в серии «Малая библиотека», его автор Килиан Колль[8]8
Колль Килиан (псевдоним Вальтера Юлиуса Блёма; 1898 – май 1945, пропал без вести) – по образованию филолог; участник обеих мировых войн; сборник его историй о войне «Отпуск под честное слово» вышел в 1937 г. По одноименному рассказу сборника был поставлен фильм.
[Закрыть]. За четыреста тридцать четыре дня солдатской жизни моя память сильно сдала, поэтому прости меня за столь куцый список. Завтра поищу какие-нибудь каталоги и к воскресенью сумею предложить тебе больше имен. Я бываю самым счастливым человеком, когда мне удается что-то сделать для тебя, хотя бы даже такую малость. Если считать, что ты приедешь в воскресенье около одиннадцати, то мне осталось ждать всего сто десять часов, это уже не очень долго…
Теперь я всегда добровольно заступаю в караул, так быстрее проходит время. Кто знает, что будет на следующей неделе; а что, если произойдет чудо? Но часто на меня нападает страх: вдруг мне придется уехать отсюда куда-нибудь далеко-далеко, и я не смогу больше встречаться с тобой. Это, конечно, совершенно беспричинный страх, но случиться такое может…
[…]
* * *
Мюльгейм, 5 ноября 1940 г.
[…]
Ты, конечно, представляешь себе, что может значить для солдата музыка. Мне тут еще ни разу не посчастливилось услышать хорошую музыку, хотя за свою солдатскую жизнь я побывал в самых разных кафе и пивных. Но сегодня, сегодня для меня будут играть Бетховена и Моцарта. Правда, только по радио, но все равно это настоящая музыка. Пожалуй, нет ничего, что привязывало бы меня к себе так, как музыка, и могло бы совершенно внезапно и в корне изменить мои чувства и настроение. Она – мой властелин. Мною овладевает глубокая, но в то же время какая-то блаженная печаль, и меня уже не раздражают ни эти обычно столь непереносимо омерзительные мелочи моего окружения, ни удручающие покойницкие или звериные рожи, ни все те муки мученические, какие я непрестанно претерпеваю в казарменной жизни. Ни одно из искусств, только музыка создает едва уловимое и радостное, но в то же время необычайно грустное представление о Рае; такое легкое напоминание о вечности, такое легкое и, однако же, достаточно отчетливое, чтобы мы осознали необходимость на какое-то время забыть о тяготах нашей бренной жизни, которая, в сущности, коротка, очень коротка, и тем не менее – хотя я точно знаю, что сама по себе жизнь не стоит этих тягот и что прожить ее можно, лишь помня о кресте и вечности, – тем не менее я люблю эту жизнь с какой-то неистовой страстью так же пылко, как иногда проклинаю; я радуюсь любому человеческому лицу, которое озарено счастьем жизни и страстностью. Но я не знаю, почувствовала ли и ты хоть однажды, что мы живем среди покойников. Эти бесчисленные лица, которые я изучаю со рвением художника, не отмечены печатью любви, страстности и даже ненависти. Ты тоже нигде не встретишь – или, возможно, редко – живое искусство. Ах, если бы они были способны хотя бы на непристойный грех подобно язычникам! Но они все бесцветны, бесформенны и безчувственны, и поэтому ни на одной из этих рож ты не отыщешь и следа креста, который есть воплощение любого жизненного начала и всякого страдания. Они не живут и не страдают. Они прозябают, существуют ради их собственного существования. Среди них нет способных на самопожертвование женщин, как нет и одержимых мужчин. Ах, я бы отдал часть своей жизни за то, чтобы со всем тщанием разглядеть душу современного человека. Быть может, я обнаружу в ней чуточку тщеславия и жалкие остатки жизнеспособности, собранные в серую груду усталости. Безнадежно жить среди этой массы. Я жгуче ненавижу все современное и непреклонен и безжалостен в своей ненависти. Все это презренное легкомыслие, которое никогда не истекает кровью и никогда ничем не рискует. Ах, мы часто подолгу мучаемся в поисках какого-нибудь определения, пока вдруг внезапно не прозреем: Библия в ее непостижимой простоте одним-единственным словом объясняет все, что мы никогда не сумели бы описать. Она говорит: «равнодушный»; пусть Бог проклянет этих равнодушных!! […]
Я просто бессилен против этой бесцветной, злобной массы, которая при встрече со мной оскорбляет меня и пытается уничтожить. Но я не сдаюсь. Я считаю, что эти горы тупости, гигантские башни слабоумия должны где-то иметь изъян, и, возможно, придет час, когда мы станем свидетелями их гибели. И тогда вместе с немногими уцелевшими, кто еще знает, что такое крест, любовь и искусство, мы устроим такую жизнь, в которой представление о Рае, возможно, окажется просто представлением. Возможно, возможно… это жестокое слово скрывает в себе нерешительность!
[…]
* * *
Мюльгейм, 9 ноября 1940 г.
[…]
Раннее утро, я сижу здесь, в комнате, в нервном ожидании, что вот-вот откроется дверь и войдет какой-нибудь капрал или ефрейтор и схватит меня за шиворот. Казарменный двор буквально сотрясает солдатская брань. […]
Но однажды наступит мир; если Господу Богу будет угодно, то я еще увижу его. Можно будет опять радоваться цветам лета, и сердце будет одурманено яркими красками осени, одурманено без боли. Лучшие из нас, как водится, останутся навсегда на полях сражений, и мы не будем печалиться об этом, поскольку так и должно быть […]: молодыми умирают любимцы богов. Мы не будем больше носить военную форму, а это означает, что нам будет дозволено – хотя и с очень большой оговоркой – быть самими собой. Но зато везде будет царить мир вплоть до следующей войны. И однажды, прекрасным летним солнечным днем мы отправимся с тобой на прогулку по Рейну, который является воплощением нашей родины. Такое невозможно даже представить себе… Я не смею додумать свою мысль до конца, слишком тяжко давит на меня груз войны. […]
Жизнь – не простое арифметическое действие, в противном случае торговые люди, эти глашатаи скрупулезно выверенного баланса, стали бы самыми великими художниками; именно они, эти пророки стоящих выше всяких подозрений постоянных рядов чисел, именно они, представители определенного рода стабильности и порядка, являются антиподами художественным натурам. Художники знают, что нам нет спасения, что мы по уши увязли в долгах и, вполне возможно, наш беспредельный кредит один прекрасный день будет прощен. Художники знают, что неуспокоенность есть жизнь, а то, что общепринято считать порядком, столь же далеко от него, как далеки от истинного искусства выставляемые летом в Мюнхене картины. […] Жизнь – будем оперировать красивыми коммерческими понятиями – это счет Бога и никогда не дает желаемого результата. Даже если я буду принужден целых пятьдесят лет исполнять эту абсолютно чуждую мне работу прусского солдата, то есть все эти пятьдесят лет буду только страдать, даже в этом случае – в чем я убежден – […] я все еще буду находиться в большом долгу перед Богом и сгину без Божьей милости, безвозвратно сгину. Окажись философы от коммерции правы, жизнь стала бы одинаково скучной и простой; всегда можно было бы подсчитать, сколько выпало на нашу долю часов счастья или несчастья, и мы вечно смотрели бы на циферблат, подобно скряге (современному скряге), который постоянно проверяет, насколько увеличился его банковский счет.
Был только один-единственный человек на земле, который совершенно спокойно мог обходиться без того, что мы – как бы сентиментально это ни звучало – называем счастьем, и этим человеком был Бог, Христос. Он один выстрадал столько, сколько нам всем пришлось бы страдать, если бы Бог – о ужас! – будь Он коммерсантом, принял в расчет масштабы этого мира. Бог дал нам три возможности, чтобы увидеть последний отблеск Рая и обрести счастье: быть художником, любящим сердцем и ребенком; они зачастую разбросаны по всей земле, но их число мало по сравнению с толпой; они бесконечно страдают, но часто необычайно счастливы. Кто имеет глаза видеть, да видит[9]9
По аналогии с библейским выражением: «Кто имеет уши слышать, да слышит!». Евангелие от Луки, 8, 8; 14, 35.
[Закрыть], несмотря на любые маски и профессии… На свете нет более интересной науки или искусства – по крайней мере, я не знаю, – чем физиогномика. Вглядывайся в лица встречающихся тебе людей. Тогда ты будешь представлять себя врачевателем, который после ужасающей битвы идет по безмолвному полю сражения в тусклых сумерках угасающего дня. Повсюду трупы, трупы, трупы – и только иногда, ах, твое сердце вздрагивает, вздрагивает от радости: ты находишь живого, живого человека! Ты видишь лица, сияющие от счастья, и те, на которые, словно от мрачного огня, пал отсвет несчастья, но они живы… живы. Они не умерли в один из дней и вовсе не ждут, чтобы однажды, когда случайно остановится их сердце или откажут легкие, их смерть, случившуюся тогда-то и тогда-то, зарегистрировал отдел, ведающий актами гражданского состояния. […]








