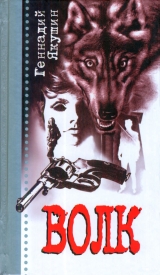
Текст книги "Волк"
Автор книги: Геннадий Якушин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Глава V
– Почему с моей дочерью не дружишь? – никак не реагируя на мои заключительные слова, ни с того ни с сего вдруг спрашивает дядька.
– У меня с Ленкой нормально, – сбитый с толку, отвечаю я ему.
– Нормально! Какое слово нашел. Сестра она тебе, – ядовито замечает он и, помолчав, продолжает: – Сейчас пойдем домой, возьмем твою тетку Прасковью, Ленку и двинемся на кладбище. Большой грех забывать своих предков. До тех пор пока мы их помним, молимся о них, мы неуязвимы.
– Дядь, ты партийный, а говоришь о какой-то молитве, – пытаюсь теперь я зацепить его.
– Они, предки, основа нашего духа, а партийным, пожалуй, больше, чем другим, нужна сила духа, – усмехается он в ответ и продолжает: – Жизнь имеет смысл, если существует связь между нами и всеми теми поколениями, которые создали нас, а через грядущее поколение – с нашим будущим. Недаром люди говорят, когда знакомятся: «Скажи, кто ты был, а кто ты есть, я сам узнаю».
На кладбище, а точнее, на его остатках, мы оказываемся часа через три. Мне пришлось сбегать на конюшню за лошадью, дядьке – сходить в школу за женой, где она учительствовала, потом Ленка куда-то пропала…
На месте тетя Прасковья берет инициативу на себя. С ней мы пересекаем погост, выходим за его ограду и останавливаемся у расколотого замшелого камня.
– Здесь, – говорит она, – похоронен Джелал, твой пращур. Он был мусульманин, и поэтому его схоронили за оградой.
– Мы же русские, при чем здесь мусульманин? – удивляюсь я.
– Олег Юрьевич Якушин владел этими землями, – раскидывая руки и как бы охватывая все окрест, говорит тетка. – Он участвовал в русско-турецкой кампании и привез пленного турка себе в холопы.
– Так значит, получается, что этими землями владели Якушины? И почему же мне никто не говорил, что я потомок орловского помещика? – ядовито спрашиваю я дядьку.
– Зачем задавать вопросы, на которые всем известен ответ, – сухо бросает он.
– И двух лет не прошло, как Сталина не стало, а его соратники уже успели перелицеваться! – с язвительной усмешкой констатирую я. – А я помню, как вы, здоровенные мужики, тогда размазывали слезы кулаками. Как плакал, уронив голову на стол, мой отец.
– Дурак ты или прикидываешься? Неужели ты в самом деле думаешь, что о происхождении, скажем, твоего отца в органах не знали? Он же с сорок шестого года был в охране Сталина! Люди, преданные Отечеству на генетическом уровне, нужны были Сталину.
Кстати, тебе известно о том, что твоего деда Максима Максимовича красные расстреляли? Он воевал на стороне белых. Заболел тифом, и те, отступая, завезли его к жене, то есть к твоей бабушке Екатерине Дмитриевне.
Пришли красные. Согнали всех мужиков в центр села. Дед твой тоже оказался среди них. Он еще не оправился от болезни, и его сильно лихорадило. А был Максим Максимович только в нательной рубахе. Один из солдат, по акценту латыш, говорит: «Папы, тайте теплое что-то этому. Смотреть плохо, он трясется». Мать и принесла отцу шинель. А на ней погоны! Его тут же к стенке и поставили.
Закончили свое пребывание в селе эти борцы за счастье русских рабочих и крестьян тем, что взорвали церковь, мельницу, сожгли помещичий дом и капище Перуна. Погибли не только родовые документы, с капищем сгорели древние фолианты, свитки, дощечки, хартии со священными текстами. Так-то, племянник, решай задачку!
– В войну немцы осквернили кладбище, – дополняет мужа тетя. – Они сровняли с землей захоронение Максима Максимовича. По его и другим могилам, вминая кресты, ползали их танки. Гитлеровцы увезли в Германию мраморные надгробия Максима Денисовича и его жены.
– А пленный турок, говорят, был красивый, – невпопад встревает в разговор Лена.
– От этого красавца и забеременела Маша – единственная дочь вдовца Олега Юрьевича, – зло вставляет дядя. – Для дворянина это не только позор, но и изгнание из общества. Турка он засек до смерти. А насчет дочери сговорился с малоземельным, но многодетным казаком Щербаковым. Маша была просватана за старшего сына казака – Дениса. В приданое Олег Юрьевич пообещал пять десятин земли.
– И случилось неожиданное! – восклицает Лена. – Соседский помещик стеганул Дениса плетью за то, что он не поклонился ему. Тот выхватил у него ногайку и отхлестал ею самого помещика. Его приговорили к каторжным работам за самосуд. Вернулся Денис домой через шесть лет, но уже не Щербаковым, а Самосудовым. Такую фамилию ему дали на каторге. Маша его ждала. Вот могилы Дениса и Марии, – указала Лена на два грубо вырубленных из камня креста. – Это казацкие кресты.
– Значит, Денис и Мария поженились? – переспрашиваю я.
– Да, и Мария первого ребенка назвала Максимом. Кроме него, было у нее еще четверо детей, – отвечает дядя.
– За год до возвращения Дениса Олег Юрьевич вместе с пятилетним Максимом, которому дал свою фамилию, уехал за границу. Он считал, что отмена крепостного права и события, которые последуют за этим, – настоящее безобразие. Жил Олег Юрьевич со своим внуком то в Германии, то во Франции, потом в Москве или в Питере. Он дал первенцу Марии прекрасное образование. А вот в какой из столиц или в какой стране похоронил Максим своего деда, мы не знаем.
Хозяйство Олег Юрьевич оставил на управляющего поместьем Владимира Вячеславовича Кузнецова, пращура стоящей перед тобой тетки. Он был язычником, поклонялся богам, что были у русов, до принятия христианства. Владимир Вячеславович вел добропорядочный образ жизни, питался как вегетарианец и был честен до идиотизма.
– Был у меня еще и брат. Погиб в войну, – уточняет тетя Прасковья. – Вера, его жена, одна сына растит. Ты, я знаю, с ним дружишь. Ее считают ведуньей.
– Марии, – продолжает дядя, – хорошо знавшей характер Кузнецова, не стоило большого труда обвести его вокруг пальца. Сумела она заставить управляющего подготовить бумаги, с помощью которых прихватила все земли отца. Момент был очень благоприятный для таких дел после отмены крепостного права. Она оформила земли на себя и на всех детей, кроме Максима.
Максиму Денисовичу было за тридцать, когда он вернулся на родину. Пытался он поправить свое положение выгодным браком. Посетил некоторых состоятельных соседей, имевших девиц на выданье, но всюду встретил холодный прием.
– И на ком, ты думаешь, женился Максим? – спрашивает меня Лена. И сама же отвечает: – На дочке Кузнецова. Тот, видимо, хотел загладить свою вину перед Максимом Денисовичем.
– Мой пращур оказался далеко не бедным, – перебивает дочь тетя. – Максим Денисович с его помощью построил водяную мельницу и зернохранилище. Кузнецов на первых порах выделял ему средства на развитие его деятельности по скупке, продаже и переработке зерна. И Максим Денисович здорово преуспел в этом.
У него родились три дочери и сын, которому при крещении тоже дали имя Максим. Все они получили образование в Питере. Девочки там и замуж повыходили, и следы их в годы революции потерялись. Один Максим вернулся в родной дом и продолжил дело отца.
Погиб Максим Денисович по чистой случайности. Его придавило деревом во время заготовки дров. Натура у него была такая – во все дела влезал. Сам все контролировал до мелочей.
Революция нарушила традицию рода в вопросах образования. Не было возможности своевременно учиться ни у моего мужа, ни у твоего отца, ни у Анны.
– Грех не вспомнить и о твоих дедушке и бабушке по матери, хотя здесь и нет их могил. Они ведь из деревни Вороновки, – вступает в разговор дядя Кирилл. – Семья Щербаковых состояла из шести человек. Сами родители: отец Иван Федорович и мать Марина Ивановна, да детей у них было четверо: Яков, Ольга, Мария и самая младшая Александра – твоя мать.
Ивана Федоровича в армию не призвали из-за грыжи. Хозяйство Щербаковых сохранилось, несмотря на войну и революцию. Они даже немного разбогатели. В двадцать четвертом году твой дед Иван построил большой кирпичный дом. Он был строг, и все, включая и детей, трудились в полную силу. Мать твоя с малолетства за скотиной ходила. Особенно она дружила с телочкой. Та ее так любила…
А в двадцать девятом году в их деревню тоже явились красные. Их командир, росточком маленький, кудрявенький, в пенсне, поселился в доме Ивана Федоровича и от твоей бабушки требовал, чтобы Марина Ивановна ему к обеду каждый день подавала курицу. Был кудрявенький еще и часовых дел мастером, починил давно стоявшие у них ходики.
Первым делом эти «воины» запретили всем деревенским петь и плясать на улице и играть на гармошках и балалайках. Заметят, у кого из парней музыкальный инструмент в руках, тут же и отберут.
Потом начали обходить дома и лазить по сундукам. Все праздничные платья и костюмы у людей унесли. А ведь они у них передавались из поколения в поколение и были дорогие, многие из китайского шелка, женские костюмы и головные уборы, мужские кушаки золотом да серебром шиты, речным жемчугом отделаны.
Особенно досталось староверам.[8]8
Иногда в быту староверами называли и язычников (как людей старой веры – дохристианской). Не путать со старообрядцами.
[Закрыть] Они ничего не хотели отдавать и взялись за топоры. Немало их расстреляли на месте. И часовщик при расстрелах кричал: «Мы уничтожим ваш великодержавный русский шовинизм!» Комиссары подчистую выгребли у них зерно и забрали всю скотину, а потом сожгли скит. Людей же погнали на стройки в Омскую область. Но староверы держались стойко. Твоя мать хоть и маленькой была, а помнит, как общинник староверов говорил: «Мы русы, и нам ли страшиться чужеземцев. Ликуя, мы возвращаемся в скит на Оми, в наш Асгард на берегу священного Ирия». Это Александра мне доподлинно рассказывала.
– Кстати, в этой связи, – перебивает мужа тетя Прасковья, – скажу тебе, Гена, вопреки школьной программе, как русская учительница. Царь Петр Первый, которого в учебниках представляют великим, был не лучше лихоимцев-комиссаров. Один пример! Он отменил русский календарь и ввел зарубежный юлианский. Русский календарь прекратил свое существование в 7208 году. Значит, русы, до введения юлианского календаря, осознавали себя народом, нацией уже не менее 7208 лет. Новый календарь пошел с 1 января 1700 года. Следовательно, Петр украл у нас пять с половиной тысяч лет родной истории. И еще к этому же. Русы использовали для обозначения годов не цифры, а буквы. Таким образом, письменность у нас существовала к 1700 году также без малого 7208 лет.
– Да хватит тебе, Прасковья! – сердится дядя Кирилл. – Ты думаешь, он что-то понял? Я сомневаюсь! – И продолжает свое: – Деревня и скит староверов располагались километрах в трех друг от друга. Праздники вместе справляли, детей женили, в тяжелую минуту помогали друг другу. И в этот раз мужики из Вороновки и Шарлино многих детишек, стариков да старух из скита у себя попрятали.
Щербаковых солдаты не трогали до самого последнего дня. А перед тем как уходить, обчистили до нитки. Твоей матери тогда двенадцать лет минуло. Крепенькой она росла. Смотрит, ее телочку кудрявый выводит, а она рвется, бедная, мычит. Не выдержала Александра такого злодейства, подскочила к этому часовщику да как толкнет его. А он возьми и упади прямо на борону, которая лежала вверх зубьями. И распорол себе мошонку. Его отправили в больницу, а Щербаковых присоединили к староверам. Всех, кроме Якова. Его не нашли.
Состав из щелястых вагонов с нарами для сна пригнали в Омск уже с первым снежком. Однако семью Щербаковых встречал не конвой, а Яков в каракулевой кубанке, шикарном пальто и хромовых сапогах. Расцеловавшись с родителями и сестрами, он объявил, что они едут в Москву. Документы на них оформлены и билеты куплены.
В тебе и твоих братьях кровь Якушиных, Самосудовых, Щербаковых и Кузнецовых. Ведь Максим Максимович взял в жены Самосудову Екатерину Дмитриевну. А твой отец женился на Щербаковой Александре Ивановне.
– И все-таки с Джелалом вся история чушь! – нервно восклицаю я.
– Сегодня очень сложно, почти невозможно что-либо доказать или отрицать со стопроцентной уверенностью, – говорит тетя Прасковья.
– Неправда! Неправда! Все это ложь с Джелалом! – кричу я. И вдруг все мое тело пронизывают судороги. Дергаются руки, ноги, голова. Я теряю сознание.
Придя в себя, я вижу тетю Веру Кузнецову, которая держит в своих ладонях мою голову, глядит мне в глаза и, улыбаясь, говорит:
– Очнулся, соколик, очнулся! Услышала Богородица молитвы наши! – А потом шепчет: – Завтра сядешь в поезд и он увезет тебя в Москву. Потихоньку-то все затрется. Залижет ветер, как ямку в снегу. Ты еще вырастешь, парень. Деревце смолоду в стволе тончит, а потом, как заматереет – руками не обхватишь. Ты еще знаешь какой будешь! Знай, род наш силен земледельцем Юрием, честью дорожащим Денисом, купцом Максимом, борцами с сатанинской властью и внутренними врагами державы Российской Максимом и Василием. В тебе благородство происходит от самих корней рода. Ты все трудности житейские не можешь не выдюжить! У тебя сын будет мужественный человек и внук, честью предков дорожащий.
Провожал меня на вокзал дядя Кирилл и на прощание сказал:
– Мой брат ради твоего спасения пожертвовал своей карьерой в органах. Помни это, парень.
Глава VI
Дверь в московскую квартиру я открываю своим ключом и прохожу в большую комнату. В ней за столом восседает вся моя семья и поет «Вот кто-то с горочки спустился…». Стол завален готовыми искусственными цветами и деталями к ним. Братья, увидев меня, выскакивают из-за стола и повисают на мне. Расцеловавшись с ними и родителями, я интересуюсь, указывая на искусственные цветы:
– Что это?
– Работа, – усмехается отец. – Как видишь, трудимся всей семьей. Ты прямо с поезда?
– Да, – отвечаю я.
– Пошли, пока мать тебе приготовит что-нибудь поесть, поговорим.
Мы проходим в его кабинет. Он подходит к окну и, стоя ко мне спиной, спрашивает:
– Ты знаешь, что главное для человека? – И сам же отвечает: – Не оскотиниться! В любой, самой сложной ситуации остаться человеком. – Затем резко поворачивается ко мне и жестко спрашивает: – Правда, что ты на хуторе стоял на часах?
– Да, – пораженный странностью вопроса, отвечаю я.
– В тебе, в том шестилетнем мальчике было что-то от одинокого «лесного царя», который охраняет священную поляну день и ночь с мечом в руке. Он охраняет святыню, не представляющую собой никакой материальной ценности. Он обреченно и воистину по-царски несет вахту высшего спасительного одиночества. Последний оплот мира традиций в деградирующей современности.
– Ерничаешь! – злюсь я.
– Нисколько! – говорит батя. – Кончились твои университеты. Я без работы. Правда, друзья меня в беде одного не оставили, предложения есть, но пока без работы. Как видишь, искусственными цветами на хлеб зарабатываем. – Отец снова отворачивается к окну, а заглянувшая было в кабинет мать, зарыдав, убегает.
– Пап, я на целину поеду. Там, говорят, неплохо зарабатывают. Буду вам деньги высылать! – С жаром говорю я.
– Это несерьезно, – охлаждает мой пыл отец. – Если ты хочешь работать на земле, то зачем отдавать свой труд где-то на стороне. Езжай к своему дядьке и работай в его колхозе. Я вообще не могу понять, зачем затрачивать огромные средства для развития земледелия у скотоводов. Казахи всю жизнь занимаются отгонным, кочевым животноводством. Надо поднимать земледельцев центральной России. Здесь кругом разор! Обеспечить бы техникой колхоз Кирилла, платить бы его людям как следует! Кому нужна эта целина? Ты, Ген, городской. Тебе надо идти на завод и приобретать специальность.
– На какой завод идти? – спрашиваю я.
– Ну, положим, на завод Ильича. Я читал в газете, что там набирают учеников токарей, – отвечает отец. – Да, вот еще, – поворачивается он ко мне, – приходила учительница из школы и сказала, что тебе осенью надо пересдать экзамены. Теперь это станет труднее. Надо совмещать подготовку к экзаменам и работу. Справишься?
– Думаю, что справлюсь, – отвечаю я. Да и что другое я могу ответить? Сказать, что я никогда толком не учился? Зачем? Он и так знает.
И вот я на заводе. Мастер подводит меня к длинному ряду металлических шкафов и, раскрыв один из них, говорит:
– Этот твой. Спецовку получишь на складе. Пока поработаешь подсобным. У нас токарно-револьверный участок. Мы главным образом делаем болты и гайки. Работают в основном женщины. Твоя задача подавать и заряжать пруты соответствующих размеров и граней. Детально все объясню тебе на месте. – И пропадает.
Почти час ищу я склад, а когда нахожу, то выясняется, что пришло время обеда. Кладовщица, крепко сбитая девушка с очень светлыми волосами, собранными в «конский хвост», какое-то время вглядывается в меня так, что я невольно одергиваю свой пиджачок. А потом строго, но и заботливо спрашивает:
– Ты обедал?
– Нет, – отвечаю я как-то глухо.
– Пошли в столовую. – Это приглашение, но звучит оно почти как приказ.
Я отмечаю про себя, что она очень хороша собой. Красота у нее вызывающая. В ней есть что-то породистое, тонко очерченный нос, несколько удлиненный подбородок и большие голубые глаза.
По рельсовому пути мы идем мимо рядов станков. Затем поднимаемся на второй этаж, где расположена столовая. За столами, покрытыми цветными клеенками, обедают рабочие, обслуживая их, суетятся официантки. Через пару минут одна из них находит нам свободные места. И тут же на столе появляются борщ, котлеты с картофельным пюре и квашеной капустой, граненые стаканы с компотом из сухофруктов.
– Ты пользуешься здесь большим авторитетом, – отламывая кусочек хлеба, говорю я кладовщице, чтобы как-то снять затянувшееся и не очень приятное мне молчание.
– Если у этой девушки, – указывает она на официантку, – стол окажется пустой, а кто-то из рабочих не успеет пообедать вовремя, она лишается премиальных. Хотя авторитет у меня тоже есть. Я комсорг цеха. Звать меня Света, а тебя? В накладной на спецовку только твоя фамилия.
– Геннадий, – отвечаю я.
– Комсомолец? – аппетитно уминая борщ, спрашивает она, не поднимая глаз.
– Не успел. Ты, кажется, не на допрос, а на обед меня пригласила? – сквозь зубы цежу я. Меня уже злит ее манера обращения со мной.
После обеда я получаю спецодежду, и на этом, как мне тогда казалось, мои отношения со Светланой должны закончиться. Но не тут-то было…
После первой получки, в конце рабочего дня, ко мне подходит парень:
– Меня звать Мирон. Я с товарищами работаю в соседней бригаде. Хотим с тобой поближе познакомиться.
– Хорошо, – соглашаюсь я. Через раздевалку и душевую мы идем в самый конец цеха и по металлической лестнице спускаемся в небольшое помещение. В центре его верстак с четырьмя тисками по бокам. С краю на широком вафельном полотенце бутылка водки, стаканы, буханка черного хлеба, крупно порезанная селедка, пара луковиц и с десяток сарделек. На скамье, придвинутой к верстаку, разместились трое мужчин. У старшего по возрасту на лбу шрам. Жестом он приглашает меня сесть с ним рядом. Я сажусь. Мирон, разлив водку, поднимает свой стакан.
– Выпьем за знакомство. Меня ты знаешь. А это Игорь Николаевич, – указывает он на мужчину со шрамом. Мы еще под стол пешком ходили, а он уже воевал. Вот Слава, – поворачивается Мирон к молодому человеку с несоразмерно большими руками и ступнями. – И наконец Федор, – кивает он в сторону белобрысого парня.
– Геннадий, – представляюсь я и как все беру стакан, но не пью.
На верстак возвращаются четыре пустых стакана и мой с водкой.
– Ты это что? За знакомство ведь. Не обижай товарищей, – давит на меня Федор.
– Нет, пить не буду, – отвечаю я.
– Уважаю людей, которые могут сказать твердо нет, – говорит Игорь Николаевич. – Не хочешь пить – не пей, но от закуски не отказывайся.
– Спасибо, – благодарю я и делаю себе бутерброд с селедкой.
– Мы тупорылые скоты и нам не нравятся человеческие лица, – продолжает свою мысль Игорь Николаевич. – Но если ты, Геннадий, поработаешь здесь год-полтора или более, то тоже станешь скотом. Суть в том, что эти существа, – кивает он в сторону своих приятелей, – не имеют будущего. Я тоже его не имею, хотя и закончил войну в звании лейтенанта. Образования не хватает. Солдат поднимать в атаку образования хватало, а пришел на завод – аут! Хотел в техникум поступить, куда там. Жена шум подняла. И правильно. Детей настрогал, значит, кормить надо. У меня их трое. Вкалываю в две смены. А что касается Мирона, Федьки и Славки, то им по линии образования война вообще кислород перекрыла. Понятно, кто к чему-то в жизни серьезно стремится, вечернюю школу заканчивает, потом вечерний институт. Уважаю их и завидую. Высокие, сильные люди, рукой не достать! Ты как по части образования?
– Не очень, – смущенно отвечаю я. – Наверное, я тоже не имею будущего.
– А конкретнее? – требовательно спрашивает Игорь Николаевич.
– Вначале я учился в барачной школе, – мямлю я.
– Вот что, парень, выкладывай все как есть, – сердится мой собеседник.
– Да, уж все как есть, – поддерживает Игоря Николаевича Мирон.
– А я и говорю как есть. В войну меня с матерью эвакуировали в Юго-Камск. Там она работала на заводе. Жили мы в бараке. Среди жильцов барака были и педагоги. А дети учились не все. Старшие, от двенадцати до шестнадцати лет, работали на заводе по десять, а то и по двенадцать часов. У младших не было зимней одежды. И городское руководство приняло решение о проведении учебных занятий с эвакуированными детьми не только в школах, но и прямо в бараках. С четырех до пяти лет, хотел я того или нет, но тоже был учеником. Поэтому я и говорю, что учился в барачной школе.
– А дальше? – строго спрашивает Игорь Николаевич.
– А дальше московская школа, – отвечаю я. И в памяти всплывает, как мы гурьбой входим в обшарпанный класс. Половина окон забита фанерой. Наша учительница Елена Никитична начинает урок со слов: «Дети, сейчас мы будем завтракать. Подходите по одному», – и выставляет на стол бутылку с рыбьим жиром, большой алюминиевый чайник с горячим желудевым кофе, кладет пакеты с яблоками и бубликами.
Мне не нравится пить каждое утро рыбий жир, но мне нравится ходить в школу и получать пятерки. А еще я люблю кататься у школы с ледяной горки. Я забираюсь на самый верх и скольжу вниз на ногах. Чаще я падаю, но иногда получается, и я доезжаю до конца. И сейчас я мчусь с нее бочком, чуть согнув колени. Еще немного, и победа! И тут ко мне подбегают Филька Николаев и Борис Дадонов. «Генка! – кричат они. – Беги скорее домой! У тебя мать в пожаре сгорела!»
Я мчусь сломя голову и у дома вижу отъезжающую «скорую помощь». С криком «Мама!» я припускаюсь за ней и догоняю, когда она замедляет ход на выезде из арки. Вцепившись в задний бампер, я какое-то время тащусь за машиной по асфальту, покрытому грязным снегом, но скоро, обессилев, падаю.
Я поднимаюсь. Кровь сочится с содранных коленей, пальто разорвано, шапки нет, но я ничего не замечаю. Ребята окружают меня и ведут домой…
– Ген, ты что замолчал? – спрашивает меня участливо Федор. – Если не хочешь, не рассказывай. Но если серьезно, у всех у нас детство как под копирку. Мы же твои товарищи…
И во мне что-то ломается. Я рос на других отношениях. У блатных одно понятие – бей своих, чтоб чужие боялись, или того хуже – убей своего! Сегодня из моих бывших корешей на свободе уже никого нет…
– Я попробую. Если, конечно, вам интересно. – И начинаю рассказывать: – Моя мать заправляла горящую керосинку, и произошла вспышка. Она хотела сбить огонь кухонным полотенцем, зацепила им керосинку и уронила ее на стоящую в углу десятилитровую бутыль с бензином, которую накануне зачем-то принес муж моей тетки с работы. Пламя мгновенно охватило всю кухню, но мать не растерялась. Она пробилась в комнату, схватила с постели ватные одеяла и стала сбивать ими огонь. Вызванным соседями пожарным делать уже было нечего. А у матери на теле не осталось живого места. Мать спасли, но в больницу к ней три месяца никого не пускали.
А дома мне становилось все хуже и хуже. Бабушка, как к ней ни подступайся, только ругалась. Ей было не до меня. У нее на руках внучка Таня, родители которой задыхались от туберкулезного кашля с кровью.
Мой двухлетний брат Валера тоже болел туберкулезом и находился на излечении в диспансере. А младший брат Володя чуть не умер без материнского молока в грудничковой лечебнице.
В школу я не ходил. Я каждый день ездил к Валере в диспансер. Подходил к окну его палаты и стучал. Старшие ребята меня уже знали. Они ставили моего братишку на подоконник, и мы смотрели друг на друга. Ему нравилось, когда я был так вот рядом.
Я не бросал брата до тех пор, пока мать не выписали из больницы. Естественно, что моя забота о брате сказывалась на учебе не лучшим образом.
– И все? – удивляется Игорь Николаевич.
– Да! – отвечаю я.
Все-таки инстинкт вора сработал во мне. Я сказал истинную правду, но в то же время я ничего не сказал. Я только поплакался.
– Ладно, Гена. Будем считать, что наше знакомство состоялось, – завершает разговор Игорь Николаевич.
– У каждого своя судьба! – восклицает беззаботно Слава. – Всё – баста! По домам пора. Пошли, Генк, выведу, а то заплутаешь.
Мы поднимаемся наверх. Слава протягивает мне руку:
– На занудность Николаевича не обижайся. Он в голову ранен, видел шрам? Два плюс два сложить не может. Раньше, наверное, очень хотел учиться, и сейчас, видно, охота не пропала. Всё к образованию сводит. Заходи, если что. – И, махнув на прощание, уходит.
Я иду в душ. Прежде чем повернуть кран, я смотрю сквозь окно на небо, сверкающее ярким, быстро растекающимся светом, а мысли мои здесь, на земле. Меня не отпускает то, что я утаил от Игоря Николаевича и ребят…
Я слышу музыку и вижу танцующих парней и девчат. Они пьяны. Мои братья в испуге забились за шкаф и тихо плачут.
В нашу квартиру входят соседи. Они ругают меня, кричат, что не станут терпеть этот притон, этот шум и грохот, у них с потолков осыпается штукатурка, а на меня управа найдется.
Я не знаю, что значит слово «притон», но чувствую – плохое. Мне хоть и десять лет, но я не могу понять, как и почему наша квартира превратилась в этот самый притон. Может, потому, что все произошло неожиданно и очень быстро?
С утра мы все грузим машину. Бабушка с тетей Аней, ее мужем и дочкой переезжают на новую квартиру. Они ее получили как туберкулезники. А когда они уезжают, маме становится плохо. Она просит меня вызвать врача. Я вызываю его по телефону. Доктор приходит через полчаса, осматривает маму и тут же вызывает «скорую». Мама подзывает меня:
– Деньги в гардеробе под постельным бельем. Завтра съезди к бабушке и попроси побыть с вами, пока я не выпишусь или пока отец не вернется из командировки. Если бабушка не сможет сама, пусть позовет кого-нибудь из родных. Хорошо бы одну из моих сестер пригласить.
Под дружный рев моих братьев – Валеры, которому было пять лет, и Володи – четырех лет, – маму выносят из дома на носилках.
Телефон звонит, когда я, успокоив своих братьев, готовлю ужин. Сухой женский голос в трубке, даже не спросив, кто слушает, сообщает, что у Щербаковой Александры Ивановны туберкулез почек и ей будет произведена срочная хирургическая операция.
Я видел немало фильмов о войне, где показывали работу хирургов. И в моем сознании тотчас возникает картина операции, только на операционном столе не абстрактный герой, а моя мать. Мне страшно, и я плачу.
Ни в первый, ни во второй, ни в третий день к бабушке я не еду. Денег в гардеробе много, и я с братьями живу, как мне нравится. В школу я снова не хожу. Завтракаем, обедаем и ужинаем мы в круглосуточной железнодорожной столовой, и обязательно с лимонадом, мороженым, а то и с конфетами. О маме мы тоже не забываем. Накупив разных сладостей, мы едем к ней в больницу, но нас не пускают и гостинцы не принимают.
Да, именно в тот день, когда нас не пустили к маме в больницу, в доме появляется рыжий Юрка из четвертого подъезда. Мы его угощаем, и он говорит:
– Богато живете. Мне бы хоть денек так пожить.
Потом какое-то время болтается по квартире, играет с братьями и уходит. На следующее утро я как обычно одеваю Валеру и Володю, чтобы идти в столовую на завтрак, открываю гардероб, сую руку под белье, но шуршания купюр не чувствую. У меня в руках жалкие гроши.
– Вот что, ребята, – обращаюсь я к братьям, – раздевайтесь. Столовая отменяется. Денег у нас осталось совсем мало, и каждую копейку мы теперь станем считать.
– А Юрка рыжий, – перебивает меня Валера, – у нас не копейки, а большие рубли из гардероба брал.
Юрка старше меня года на два и сильнее. Я сую за пояс кухонный нож и, плотно запахнув пальто, выскакиваю во двор. Рыжего я нахожу очень скоро. Он сидит, подняв воротник, в скверике напротив детской больницы и, перебирая струны новенькой гитары, с зажатой в зубах «беломориной» сипит:
– «Старуха ждет, когда мы с мухами подохнем, сначала друг мой, потом уж я…»
Я подсаживаюсь рядом.
– Хочешь, оставлю? – поворачивается он ко мне с «беломориной».
– Давай целую. На мои кровные папиросы-то покупаешь! Вот и гитару новую прибрел на деньги, что увел из гардероба.
– Сукой буду, у тебя ничего не брал! – Юрка щелкает ногтем большого пальца о зубы и проводит им под подбородком.
– Хотел бы тебе поверить, да не могу. Брат о тебе сказал. А он малец и врать еще не может.
Я распахиваю пальто и выхватываю из-за пояса нож. Юрка вскакивает со скамейки, но, не сделав и шага, падает от моей подсечки. Я кидаюсь на него и поднимаю нож.
– Генка, не надо! Меня заставили. Кабан заставил. Я ему деньги отдал.
– Ох! Какое дитятко невинное! – над нами, ухмыляясь, стоит Ундол. – Волк, перышко дай мне, – вырывает он из моей руки нож. – А эту суку бей. Не будешь ты его лечить, буду я! Вот, бери на прокорм детишкам, папаша безусый, – и Ундол сует мне за пазуху деньги. – Здесь в три раза больше того, что свистнул у тебе этот хмырь. – Затем броском, почти без взмаха, всаживает нож в спинку скамейки и, уходя, мягко как бы просит:
– Ты, Волк, загляни завтра в котельную. А ты Рыжий – сегодня.
Я выдергиваю свой нож из скамейки и направляюсь домой, даже не взглянув на жалобно скулящего Юрку…
Нет, я не должен давать волю воображению. Не раздумывая больше, я включаю душ. Горячая вода возвращает меня в реальную жизнь. За тонкой перегородкой я слышу голоса и смех моющихся женщин, а рядом со мной, в соседних кабинах мужчины обсуждают последний футбольный матч.
Я беру с полочки, прикрепленной к стене душевой, мыло и мочалку и, не жалея сил, начинаю быстро намыливать и тереть свое тело. Вода множеством струй, свистя, падает на меня и под лучами уже осеннего, но еще яркого солнца, проникающего через окна, вспыхивает, как ртуть или бездымное пламя, и мне кажется, что я весь горю.
Завернувшись в полотенце, я прохожу в раздевалку к своему шкафу и, одевшись, выхожу через проходную на улицу. Я иду по разбитому тротуару Люсиновской улицы, поднимая ботинками облачка пыли. Затем поворачиваю направо и, пройдя мимо нескольких домов с облупившейся штукатуркой, оказываюсь у метро «Добрынинская». Сегодня занятий в вечерней школе нет и я сразу еду домой. Спустившись по эскалатору в метро, я вхожу в подошедший поезд и привычно подпираю противоположную от выхода дверь. Поезд трогается и мчится по тоннелю. И этот тоннель меня уводит опять от действительности в воспоминания…








