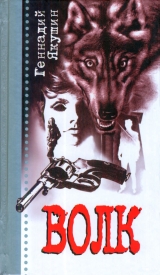
Текст книги "Волк"
Автор книги: Геннадий Якушин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Глава XIX
Я слышу негромкий стук, приподнимаю голову и вижу перед собой комбата. Он постукивает носком сапога о ножку моей кровати. На руке у него висит плащ-дождевик, который носят офицеры. На табурете у постели лежит мое обмундирование.
– Товарищ капитан, где я?
– В санчасти. Вчера я нашел вас валяющимся в бессознательном состоянии в капище.
– Ни в каком капище я не был. Я был у храма, а вернее, в нем.
– Да-да! Но изначально этот храм назывался капищем, а теперь все забросили. Врачи нащупали у вас на голове шишку. Одевайтесь.
Мы выходим на улицу.
– На вас напали? – Я киваю головой. – А вы можете опознать нападавших?
– Они были в белых капюшонах и комбинезонах. Как их опознать? – отвечаю я.
– Ну да ладно, разберемся. Отдыхайте сегодня, – завершает беседу комбат и уходит.
Я захожу в казарму и вижу Евстратова.
– Привет, земеля! – взмахиваю я рукой.
Евстратов оборачивается, на лице его самое простодушное удивление. Голубые глаза распахнуты во все лицо:
– Бог ты мой, Генка! Я так перепугался за тебя. Все, о чем мы говорили, оказалось куда серьезнее на самом деле. – Я вижу, что он пытается скрыть за словами свой страх. – Ну, рассказывай же, рассказывай, как все случилось?
Я все ему подробно описываю и вижу, как мой земляк бледнеет. Мой собственный пересказ и самого меня пугает. До меня только сейчас доходит, что меня могли убить. И никто не смог бы прийти мне на помощь. Эта тройка была ослеплена яростью и злостью! По мне пробегает судорога смерти. Что это со мной? Я весь дрожу.
Но главное для меня по-прежнему остается неясным – что со мной было после драки? Сон? Видение? Это неуловимо и в общем-то непонятно. Однако это было и продолжает во мне существовать. Опустив руку в карман галифе, я натыкаюсь пальцами на какую-то штуковину и вытаскиваю ее. О Боже, каменная свирель! Но тут к нам подходят находящиеся в казарме солдаты. К своему удивлению, я чувствую, что мне приятно их всех видеть. И хоть я каждый день с ними общался, они мне не надоели. Мне приятно ощущение постоянства, неизменности, ощущение, которого я раньше не знал. И прошедшее меркнет, желание разгадывать его проходит. Поверх ушедших событий наслаивается реальность будней, конкретная, пестрая, шумная и потому целительная.
Перед обедом появляется и взводный. Горло его перевязано бинтом, он в новых современных очках, а справа на лице, похоже, синяк, подмазанный и припудренный. Воробьев необычайно энергичен и резок в движениях.
– Здравствуйте, здравствуйте, Якушин. Где это вы пропадали? Вся часть была из-за вас на ногах! – необычайно заинтересованно спрашивает Воробьев.
– Так случилось, товарищ старший лейтенант, – отвечаю я холодно.
– Вечно с вами что-то случается, – смеется злорадно он. – А не были ли вы под хмельком?! Я прав? И ничего здесь нет особенного. – Его глаза за стеклами очков бегают по сторонам, оглядывая группу солдат вокруг меня. – Знаете ли вы хоть одного человека, который не пьет? Вы и сами любитель выпить, Якушин. Разве нет?
– А как же, товарищ старший лейтенант! Но почему вас это так волнует? – растягиваю я губы в улыбке. – Действительно, что в этом плохого? А вот что тут плохого! – резко поворачиваю я разговор: – Я вас величаю товарищ старший лейтенант, а вы меня будете величать пьянчугой! А если я пьянчуга, то и дела по моему избиению никакого не может быть. По пьянке подрался, а с кем, не помнит. Вот и весь сказ!
На другой день меня для беседы вызывает замполит. Я иду по коридору. Все комнаты заперты, а из кабинета комбата сквозь неплотно прикрытую дверь доносится прелюбопытнейший разговор. Разумеется, я не приставляю ухо к щели, мне и без того все отлично слышно.
– Итак, Воробьев, вы будете сами все рассказывать? – сурово спрашивает комбат.
– Товарищ капитан, я вам уже докладывал, – раздраженно объясняется взводный. – Якушин был в самоволке. Пьянствовал! Вы же сами нашли его в невменяемом состоянии.
– Я такого объяснения не принимаю! Что вы мне одно и тоже долдоните! Отвечайте, кого еще, кроме Якушина, в этот промежуток времени не было в подразделении? Молчите? А я знаю, что не было Коваленко и Савельева. Кстати, у них, как и у вас, есть повреждения на лицах и в других местах. Что вы скрываете?
– Товарищ капитан, я напишу рапорт в генштаб! Вы меня допрашиваете, как обвиняемого! – возмущается Воробьев. – Я не знаю, что вы имеете в виду, задавая мне эти вопросы, но я задам и свой. У вас солдат, быдло, увел жену! Вам на это начхать? Или болит сердечко?
– Хотите честный ответ?
– Желательно!
– Во время войны Понько, как настоящий русский офицер, пристрелил бы вас, если бы вы при нем назвали солдата быдлом! Для него солдат – чадо, дитя! А он его отец. Это первое. А второе – ту женщину, которую вы называете моей женой, я выгнал сам! Она не стала матерью для моего сына. Она не любила его. Больше того, она его ненавидела! Да и вообще я, видно, однолюб. Мать моего сына погибла. Она была радисткой. А больше по-настоящему я не смог полюбить ни одной женщины.
– Что-о-о? Но говорят-то люди другое, а людей не обманешь!
– При чем здесь обман? Я попросил солдата-москвича, который демобилизовывался, ее сопроводить. Вот и вся история, старший лейтенант! Скажите, у вас есть честь? Я, товарищ старший лейтенант, очень уважаю вашего отца генерала Воробьева, но не прикрывайтесь вы уж так откровенно им. «Направлю рапорт в генштаб!» Кстати, вам не хочется сходить в санчасть и освидетельствовать свои раны? Очень мне интересно, откуда они у вас появились.
– Неужели вы всерьез?
– А вы разве не всерьез решаете свои проблемы с помощью «казарменной малины»? И я действительно вас обвиняю в том, что вы организовали избиение Якушина, а вернее всего, и участвовали в нем!
– Это просто чудовищно! У солдата всего лишь шишка на голове, и больше ни царапины, а вы говорите об избиении. И еще, неужели вы всерьез думаете, что можно вытравить то, что вы называете «казарменной малиной»? Так везде!
– Значит?..
– Значит, за порядок у себя во взводе я спокоен! А синяки, даже если бы они и были, заживут! Это все. Разрешите идти?
– Идите!
Старший лейтенант выскакивает из кабинета и остолбеневает, уставившись на меня. Но я смотрю на него совершенно пустыми глазами, как разведчик, работающий по легенде «немого». Решив, видимо, что я ничего не слышал, Воробьев хлопает дверью и вылетает на улицу.
Да, комбат – мощный мужик, никому спуску не дает, будь у тебя родитель хоть генерал, хоть адмирал.
Я вхожу к замполиту. Он сидит за столом, обхватив голову руками и не смотрит на меня даже после моего доклада о прибытии. Я стою перед ним навытяжку. Наконец он говорит:
– Присаживайтесь. – Я сажусь у его стола. – С завтрашнего дня я гражданский человек и судьба нас может больше не свести. Хочу с вами попрощаться, поскольку часть направляется на боевые стрельбы. Мне думается, вы станете журналистом. Может быть, вы закончите, к примеру, в МГУ, факультет журналистики, где вас научат использовать слово. А оно обладает могучей силой, иногда даже опасной. Слово может быть обычной разменной монетой, но может стать и ключом, открывающим двери и к людскому счастью и к несчастью. Все дело в том, кто владеет словом, – союзник Бога или дьявола. И если вы станете писать о нашей армии, учитывайте несколько истин, и пусть вас не пугает, что некоторые из них связаны с религией. С религией связана вся история человечества.
Мы, русские, в своем могуществе всегда были сильны евангельской мудростью: «Ищи, прежде всего, Царствия Божия, а все потребное приложится». Держава даровалась нам, как Крест Христов, для защиты добра, а не как сугубо земное объединение людей, питающееся завистью, похотью, жадностью, чревобесием.
Дух победы – есть подлинный дух, который создал великую Русь. И суть национальной идеи русских – побеждать всегда, побеждать во всем! Русь – носительница мистической силы, удерживающей мир от окончательного падения во зло.
С древнейших времен существует богоборческая идея овладения миром. И сейчас «лавры» Нерона, Троцкого, Гитлера вполне определенным силам не дают покоя. Этому богоборческому проекту препятствует наша армия.
– Простите, товарищ полковник, я, наверное, что-то не понимаю… А Красная Армия, которая расстреливало священников?..
– Дорогой мой, это уже две разные армии. В Великую Отечественную батюшка у нас освящал «катюши» перед боем, а маршал Жуков, чтобы вы знали, носил на груди иконку Пресвятой Богородицы. И стоит сегодня нашей армии ослабнуть, как тут же начнут реализовываться богоборческие идеи. Будет уничтожена наша экономика, самобытность народа. И слабые превратятся в покорных обезьян. А затем: уничтожение православия и самой России, как главной крепости, защищающей мир от воцарения антихристовых сил. И последнее – полное уничтожение самого непокорного русского народа.
Я думаю, что вы запомните хоть что-то из сказанного мною. Прощайте!
Глава XX
Спустя неделю после этого разговора поезд, груженный техникой, оборудованием и всевозможным хозяйственным барахлом, от картофелечистки до табуретки, отправляется на восток. Я стою в дверях вагона и гляжу на проносящуюся и растворяющуюся в далях Россию. И мне кажется, что не километры отсчитывает поезд, а года – прочь от настоящего времени к какому-то постоянству, которое было и раньше, есть и теперь, и будет всегда.
На пятые сутки пути эшелон оказывается на одноколейном пути железной дороги и начинает отстаиваться в каких-то тупиках, ожидая своей очереди отправиться дальше. Теперь передо мной простирается пустыня. Она тянется туда, где небо сливается с землей. А вот и юрты, около них верблюды. Одни мирно лежат, другие стоят, что-то пощипывая. А над всей этой первобытной красотой вечернее солнце.
Наконец эшелон прибывает к точке назначения – одиноко стоящей в степи платформе. Вокруг нее белесая пыль пустыни, над головой кружат огромные птицы, солнце слепит глаза – и все!
Уставшие в дороге от безделья, мы дружно принимаемся за разгрузку. Три дня, обливаясь потом, мы перетаскивает на платформу ящики, металлические бочки, кровати, шкафы, столы. Из вагонов на нее выползают тягачи, машины, фургоны, тележки с замаскированными ракетами. А потом далеко в степь вытягивается уходящий к горизонту шлейф пыли от двигающейся колонны. Она довольно быстро преодолевает около десяти километров и останавливается. Я гляжу во все стороны, ожидая увидеть городок, наподобие нашего, что был в селе Медведь. Но вблизи ничего не видно, кроме покосившихся пьяных столбов с колючей проволокой, за которой три серых некрашеных щитовых домика да огромный ангар.
Колонна начинает втягиваться в пространство за колючей проволокой, транспорт и техника выстраиваются побатарейно. Тележки с ракетами, боеголовки и цистерны с топливом загоняются в ангар и возле него сразу же выставляются часовые. Мы соскакиваем с машин на землю и строимся в две шеренги привычным порядком.
За всем происходящим с холодной деловитостью следит не пропускающий никаких мелочей генерал Юрий Серафимович Иванов. Его лицо от усталости и пыли серое.
– Батарея! – зычно командует Капустин. – Равняйсь! Смир-рно!
Мы подравниваемся, звякнув оружием, и замираем. И комбат, как обычно, мощным строевым шагом подходит к генералу, пружинисто отдает честь и докладывает:
– Товарищ генерал, первая батарея построена!
После рапортов командиров других батарей Иванов вскидывает руку к фуражке и приветствует нас:
– Здравствуйте, товарищи артиллеристы!
И в ответ раздается:
– Здравия желаем, товарищ генерал!
– Поздравляю вас с прибытием к месту боевых стрельб!
Раздается громогласное «ура!».
Генерал некоторое время прохаживается перед строем, а потом говорит:
– Командование дает неделю на обустройство, а затем нам предстоит работа на стартовой площадке. Конкретная работа! Разойдись! Командиров батарей прошу следовать за мной…
И вскоре без суеты и криков, как бы сами собой, в расположении нашей и других батарей, появляются дежурные и дневальные. У ворот вырастает грибок и под ним – часовой. К походным кухням выстраиваются очереди за ужином, а после него свободные от нарядов солдаты и офицеры, не тратя лишнего времени, устраиваются прямо под открытым небом на отдых. Укладываюсь и я, расстелив на земле бушлат и укрывшись шинелью. К вечеру задувает свежий ветерок. Немножко поворочавшись с боку на бок, я засыпаю.
После подъема туалет и выдача воды. С ней напряженка. Я подхожу к цистерне, и старшина ставит в своем списке напротив моей фамилии пометку. Несмотря на утро, жара злая, как враг, солнце палит нещадно, и я с бесконечным удовольствием делаю глоток из фляги.
Голос Жукова гудит под жарким солнцем. А солнце неподвижно повисло, как медный диск, не желая опускаться, уходить, не желая даже спрятаться за лоскутом облачка, которое так и не появляется на этом небе. Голос старшины да тарахтение движков – единственные звуки окрест. Мы копошимся молча. На разговоры нет сил. Мы устанавливаем взамен деревянных металлические столбы вокруг лагеря, привариваем к ним уголки и крепим новую колючую проволоку. Под непосредственным руководством старшины Жукова готовим основы для палаток. Копаем, подрезаем лопатами, трамбуем – сооружаем земляные столы, нары. Особо устанавливаем пирамиды для оружия, размещаем печки. А затем на основы, укрепленные досками, натягиваем зимние палатки.
К концу недели обустройство лагеря в основном завершается, и мы переходим к работе на стартовой площадке и подготовке техники к боевым стрельбам. В общем, работы невпроворот.
Предваряет подготовку приветствие высокопоставленного военного чиновника. Говорит он высокопарно, уделяя основное внимание восхвалению личности Никиты Сергеевича Хрущева за заботу о развитии ракетных войск, не касаясь существа дела. На этом же построении объявляется о присвоении мне звания младшего сержанта, назначении командиром отделения и заместителем командира взвода. Таким образом, я занимаю должность Воронова, который уже демобилизовался.
Стартовые площадки располагаются в трех километрах от палаточного лагеря. Вдали видны какие-то гряды, не вписывающиеся в ландшафт, в которых можно распознать сборно-разборные щитовые бараки. Далее между низких беленых одноэтажных построек – ангары, пыльное шоссе и всевозможных конфигураций и размеров антенны и локаторы. На них грустно и сентиментально играет ветер, подчеркивая беспредельность степи. Стоят готовые к старту практичные пятерки,[18]18
Так называли определенный тип ракет.
[Закрыть] которые несложно оснастить атомными боеголовками.
Утро моего взвода начинается, как обычно, с построения и постановки задачи. Но слушают меня солдаты невнимательно и команды выполняют шаляй-валяй. Без разрешения устраивают себе перекуры. Нет и взводного. Я и по-хорошему, и угрозами наказания пытаюсь создать нормальную рабочую обстановку, но добиться ничего не могу. Моя требовательность вызывает у солдат и даже у моего земляка Евстратова лишь злость. Люди раздражены непосильными нагрузками, каждодневной изнуряющей жарой и нехваткой питьевой воды.
К тому же я замечаю, что некоторые из бойцов настроены против меня лично, так что надо быть начеку. Мне теперь и спать-то следует одним глазом.
Перед обедом появляется Воробьев. Равнодушно выслушав мой рапорт, он становится во главе взвода, и мы покидаем площадку. Взвод идет вразброд, кое-как держа автоматы; там, где на гимнастерках полагалось бы быть пуговицам, у солдат висят обрывки ниток. Воробьев вышагивает впереди с гримасой такого отвращения, будто его насильно приковали к подчиненным ему бойцам. Стекла его очков настолько покрыты пылью, что появляется сомнение, видит ли он вообще что-то перед собой. Мы проходим через КП, и солдаты, не дожидаясь команды, разбегаются по палаткам, ставят в пирамиды автоматы и бросаются, не раздеваясь, на нары.
После обеда я узнаю, что взводного положили в санчасть с подозрением на дизентерию. О сложившейся обстановке я докладываю Жукову. Он советует мне поговорить откровенно с комбатом. Я иду к Капустину. Открываю дверь щитового домика, где он разместился, и вижу его стучащим на машинке. Вся комната увешана схемами и фотографиями ракет на старте и в полете. Один связист разматывает проволоку, другой ее тянет. Воздух в помещении наэлектризован. Несколько офицеров, видимо, только прибывших, заполняют какие-то документы и разговаривают на повышенных тонах.
– Там, откуда я прибыл, рай по сравнению с этим диким захолустьем! – говорит молоденький лейтенант.
– А вы не печальтесь, что попали сюда. Не вы первый, не вы последний, – с поддевкой замечает сидящий напротив офицер.
– Не понимаете вы! Сегодня в таких местах и делаются самые большие дела! Понятно, и самый быстрый рост! – успокаивает их лейтенант, чуть старше остальных прибывших. При виде меня спорщики замолкают. Только я намереваюсь обратиться к комбату, как входит старшина. Капитан ему приказывает:
– Позаботьтесь об этих офицерах.
– Слушаюсь, товарищ капитан. Не разместить ли их в палатке за ангаром, где штаб части?
– Нет! Только в подразделения, куда они назначены.
– Товарищ капитан, – обращается к комбату тот, что чуть старше других, – а как бы в баньке помыться с дороги?
Капустин, ухмыляясь, отвечает:
– Устроим. Жуков, выделите офицерам по две шайки воды. А вы, Якушин, попросите старшего лейтенанта Воробьева построить взвод. Через десять минут я подойду.
– Товарищ капитан, старшего лейтенанта положили в санчасть. У него дизентерия, – докладываю я.
– Тогда сами постройте!
Я выхожу из штаба вслед за офицерами. Самый молодой из них, оглядываясь окрест, восклицает:
– И в такой стороне я вынужден служить, гробить свои юные годы! Ой, братцы, меня уже тоска берет! – и падает на землю.
Жуков поворачивается к нему:
– Хватит комедию ломать! Девок нет!
Вернувшись к своему взводу, я даю команду строиться, но никто даже не шевелится. Все валяются на нарах. И тут появляется Жуков. Он молча заглядывает в одну палатку, во вторую, в третью и многозначительно подмигнув мне, громко говорит:
– Сержант, а что это ваши валяются? Не видите, комбат идет!
Через секунду взвод стоит, встречая Капустина. Комбат обходит строй, затем останавливается и очень тихо спрашивает:
– Кто хочет остаться в этом благословенном краю на пару лет или хотя бы на год? – И, подождав секунду, командует: – Выйти из строя. – Взвод замирает. – Вы поняли, на что я намекаю? Боевые стрельбы есть боевые стрельбы! А в боевой обстановке вы сами знаете, как поступают с теми, кто не выполняет приказ командира. Отсюда для отправки в дисбат транспорта не надо. В двух километрах от нас он строит новый объект. Если вам трудно, то подумайте, каково им. Старший лейтенант лежит в санчасти. Командовать взводом, пока болеет Воробьев, будет сержант Якушин. Да, да, Якушин, вы сержант, и пришейте себе еще одну лычку. Первое, что я вам приказываю. Приведите свой взвод в человеческий вид. И пока ваш взвод не поймет, что такое дисциплина, каждый день после ужина до отбоя строевая подготовка. Все! Дальше, Якушин, командуйте сами.
После ухода комбата никто даже не шелохнется. Все взоры солдат устремлены на меня. Для самоутверждения я прохожу перед строем, держась как можно непринужденнее, и говорю:
– Боевые стрельбы не за горами. Я вас должен научить тому, чему меня научили в Алмазе, поэтому нужны тренировки и дисциплина. А вы о ней забываете, наглеете на глазах! Я буду делать все, что в моих силах, чтобы привести вас в порядок. А как я умею это делать, некоторым следовало бы не забывать. Я умею наводить дисциплину. Не правда ли, Савельев? Да и Коваленко, наверное, помнит. Я же ничего и никогда не забываю. Разойдись!
С Воробьевым и его женой встретиться мне больше не довелось. Взводным в нашем подразделении становится один из вновь прибывших офицеров. Часть с поставленной перед ней задачей успешно справляется. Мы получаем хорошие оценки за стрельбу, но в село Медведь не возвращаемся. Мы отправляемся в Германию, где я благополучно и заканчиваю свою службу.
Глава XXI
Мне сегодня идти на занятия в институт, и я после работы забегаю перекусить в столовую, что напротив метро «Новослободская», которая мне хорошо знакома. До армии я нередко участвовал в пирушках, устраиваемых в ней моими корешами. Теперь здесь не гуляют, а пьют втихую на троих, на двоих, а то и в одиночку.
С подносом, на котором тарелка с гречневой кашей и котлетой и стакан чая, я подхожу к кассе и вдруг чувствую спиной чей-то пристальный взгляд. Я оборачиваюсь и чуть не роняю поднос. Боже, Стопарик! Но как она одета! Вызывающе яркое, полосатое то ли платье, то ли халат, из-под которого выглядывают такие же яркие шаровары. На ногах шлепанцы, а на голове тюбетейка. Жестом она приглашает меня сесть за ее столик.
– Откуда ты явилась и что это за маскарад? – спрашиваю я ее, освобождая поднос. Не отвечая, Лора придвигает к себе тарелку с котлетой и кашей и с жадностью набрасывается на еду.
– Опять сбежала? – горько ухмыляюсь я.
– Угу!
– Откуда?
– Из Узбекистана, от мужа. Хочу щей и еще чего-нибудь мясного, – поднимает она голову от опустошенной тарелки. Я приношу ей комплексный обед, а себе снова кашу с котлетой и чай.
Теперь Стопарик ест уже спокойнее. Я подцепляю на вилку котлету и верчу ее перед глазами, оценивая ее качество.
– Что, не нравится? Давай мне, – говорит она.
– Нет, ее я съем сам, не все же тебе да тебе, – смеюсь я. – Что с тобой случилось? Куда ты пропала? – спрашиваю я, заметив слезы, навернувшиеся ни с того ни с сего на глаза Лоры.
– А! Махнула в Среднюю Азию, – с деланной беспечностью отвечает она. Лицо ее вдруг приобретает какую-то не свойственную ей в прошлом жесткую сухость. – Не хотела подставлять тебя и твоих родных. Чернокнижник когда-то толковал, что в Средней Азии проще сделать ксиву. В Самарканде я уговорила одного чурку вступить со мной в брак, фиктивный, конечно, за кольцо с камушком, что ты мне дал. Расписались, и стала я Комалетдиновой, получила новый паспорт. Ну, а чурка, кроме колечка, еще и сладенького захотел. Всадила я ему вилку в горло и отправилась в путешествие по Узбекистану, Туркмении, Таджикистану. А в Москву я боялась возвращаться, думала, Кабан жив. Но мир, в самом деле, тесен. Неожиданно встретила в Ташкенте Сову. Та мне про тебя все и рассказала. И вот я здесь.
– В этом одеянии тебе по городу шастать не стоит, – принимаясь за чай, по-деловому говорю я. – Попробуем сейчас же тебя приодеть.
Выйдя из столовой, мы пересекаем Новослободскую улицу и закоулками добираемся до полиграфического техникума издательства «Молодая гвардия». Заходим туда и, прошмыгнув по коридору первого этажа, оказываемся у мужского туалета. Заглянув в него и убедившись, что там никого нет, зову Лору. Затем распахиваю в туалете окно, что выходит во двор типографии, помогаю вылезти через него Стопарику и выпрыгиваю сам. Секунда, и мы, проскочив мимо печатного цеха, поднимаемся по металлической лестнице на второй этаж и останавливаемся у служебного входа в клуб. Перочинным ножом я отжимаю язычок накладного замка на двери, и мы проникаем в зрительный зал, бежим между рядами стульев к сцене, поднимаемся на нее, сворачиваем в левую кулису, где я тем же ножом открываю костюмерную.
В четверть часа одежда самодеятельного театра издательства перевоплощает Лору. Передо мной прекрасная москвичка. Мы складываем ее старый костюм, заворачиваем в лежавшие на столе костюмерной старые газеты и тем же путем возвращаемся на улицу.
В эти полчаса в моем мозгу даже не колыхнулась мысль о том, что я, секретарь комитета комсомола издательства «Молодая гвардия», ворую в своем же издательстве.
Но на этом я со Стопариком не расстаюсь. Я веду ее в комитет комсомола швейной фабрики, которая соседствует с «Молодой гвардией». Здесь секретарем комитета комсомола работает моя хорошая знакомая Юлия Потанина, дородная девица чуть старше двадцати. Я с ней постоянно встречаюсь в райкоме комсомола и на всевозможных совещаниях, а вот подружился недавно на субботнике. Точнее, после него. Крепко мы тогда гульнули. И она показала себя своей в доску.
После моего рассказа о неудачном браке Лоры с узбеком, который оказался многоженцем, Юлия внимательно оглядывает мою подопечную и говорит:
– Отказать я тебе, Гена, как соседу, не могу, но если твоя Комалетдинова беременна, мы с ней расстанемся.
– Спасибо, Юль! Но ее надо еще и разместить в общежитии. Девке и ночевать-то негде. Она прямо с поезда.
– Это проблематично, но решаемо. Ладно, уж коли взялась, доведу до конца!
На этом я прощаюсь со Стопариком и бегу в институт. В последнее время мне всегда некогда! Одно дело накладывается на другое, и так постоянно. Но большую часть времени я все-таки уделяю учебе. Для меня было далеко не просто сразу после армии, работая, закончить десятый класс вечерней школы и с ходу сдать экзамены в Московский полиграфический институт на факультет журналистики. Я до сего дня испытываю волнение, вспоминая момент, когда лаборантка из деканата, прикрепив список к доске объявлений, перестает его загораживать, и я вижу свою фамилию в числе принятых. «Свершилось главное счастье в моей жизни, – думаю я. – Воплощается в реальность замысленное еще в армии. Вот, одна строчка, а решает судьбу человека. Я теперь студент».
Я работаю и по вечерам хожу на лекции. Учиться мне интересно. А то, что поначалу появляются «неуды» и «удовлетворительно» – это ничего! Знания понемногу приходят. А самолюбие не позволяет оставаться в хвосте. Я с удовольствием слушаю лекции большинства преподавателей, но особенно мне нравятся занятия по истории, да и сам преподаватель. У него высокий лоб, переходящий в залысину, тщательно выбритое лицо, на нем всегда хорошо отутюженный костюм-тройка, белая рубашка, воротник которой украшает галстук-бабочка. Его речь, манерная и старомодная, ни интонацией, ни растянутостью, ни окраской слов, ни даже пресловутыми «сударь» и «извольте» не коробит слух, а напротив, приятна. Он вносит себя в аудиторию всегда неторопливо и плавно. Затем садится за стол, моргает часто глазами и начинает свою лекцию, как всегда, с неожиданного:
– А ведаете ли вы, как прекрасно сейчас, в тоскливую осеннюю пору, в Нескучном саду. На черной земле уже кое-где снег, на длинных грядках-газонах – астры. Белые, они стоят сплошным рядком, – преподаватель вздыхает. – Холодно, заморозки по ночам, а они все цветут и цветут. Но вот что интересно, судари и сударыни, – кроме цвета и красоты у астр, кажется, ничего нет. – Он вдруг встает и начинает ходить. – Как же это нет? А стойкость, а мужество, с которым они сопротивляются морозам? А то, что они, несмотря на снег, цветут? За мужество я их люблю, за стремление жить, даже когда жить уже нельзя.
«Да, жить и выжить, даже тогда, когда жить уже нельзя», – повторяю я про себя слова историка.
В одной группе со мной учится девушка по имени Наташа, живущая на противоположной от моего дома стороне Можайки, в доме ЦК партии, как раз в том, где разместилась семья Брежневых. ЦК КПСС построил себе дома, разорив кладбище. В институт Наташа ходит в строгом темно-коричневом платье.
В пятницу, после занятий, как уже повелось, Наташа ведет меня к себе домой. Она живет только с отцом, и по договоренности с ним, с пятницы на субботу день и ночь ее. Мать Наташи два года как умерла, а вся ответственность отца за дочь заключается в том, что он снабжает ее деньгами почти без ограничения. И ничто в мире не способно помешать ей делать то, что заблагорассудится.
– Это ко мне, – говорит она охраннику.
Каждое наше свидание в ее доме традиционно начинается с ужина, состоящего из шампанского и легких закусок. После ужина Наташа принимает ванну и выходит ко мне в немыслимо пестром халате, который при каждом шаге обнажает добрую половину ее тела. Ее уже трясет от возбуждения. И когда все кончается, мы замираем…








