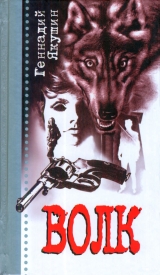
Текст книги "Волк"
Автор книги: Геннадий Якушин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
А она в ответ на эти мои слова вдруг криком кричит, что я ей совсем чужой, что я не понимаю ее.
– Почему? – удивляюсь я. Но библиотекарь ничего объяснить не может, да, видимо, и нельзя этого объяснить – сама толком, наверное, не понимает.
Ирина набрасывает халат. Я спрашиваю ее:
– Ты с замполитом говорила?
– Еще бы, – отвечает она. – Он поручил мне все, что ты напишешь, на машинке перепечатать. Я же курсы машинисток кончила.
Одевшись, я выхожу на улицу. Пора мне и поработать. Для начала я разгребаю снег у крыльца найденной в сарае лопатой и очищаю дорожку, ведущую от калитки к дому, а потом принимаюсь за дрова.
Колоть их я умею и люблю. Еще на даче в Чепелево я прославился как замечательный дровосек и в этом качестве зарабатывал дополнительные деньги к заводской зарплате. Я умею это делать так, что всем кажется, будто дрова у меня раскалываются мгновенно, почти без усилий, при легчайшем прикосновении топора. Потом я ловко укладываю их в замечательные по стройности и емкости поленницы.
Уже по темноте я захожу в дом. Ирина ставит на стол сало, обсыпанную репчатым луком и политую подсолнечным маслом селедку, порезанную на куски и уложенную в селедочницу. Потом водружает на средину стола самовар и приносит вазочку с вареньем из шиповника. После этого ловко достает ухватом из печи горшок и сковороду, кладет в стоящую передо мной тарелку упревшую рисовую кашу, ломоть поджаренной шейки и завершает все это графинчиком с водкой. Я усаживаюсь на кухонную табуретку и приступаю к еде. Ирина смотрит, как я ем, и губы ее трогает легкая улыбка:
– По-городскому ты ешь, красиво. Ты правда из Москвы?
– Правда, – отвечаю я.
– Мать, отец у тебя там, да?
– И еще два брата.
– А живете где?
– Как где? В квартире.
Во время этого диалога я почему-то испытываю неловкость за то, что живу в Москве, в столице, а Ирина – в этом стареньком домишке. И я льстиво спрашиваю библиотекаря:
– Где ты научилась управляться с русской печью и так классно готовить?
– Я из малюсенького городка, где кирпичными были лишь казармы военного училища да райком партии с исполкомом. Остальные дома – деревянные, с печным отоплением. Мать работала уборщицей одновременно и в райкоме, и исполкоме. Начинала с вечера и убиралась до полуночи. Утром вставала в пять и прибиралась дальше, а к восьми бежала вкалывать на прядильную фабрику, хотя отец и получал неплохую пенсию.
Ему в войну ноги оторвало, а сила мужская у него, видно, оставалась, мать еще двух девок родила. Пятерым прокормиться на одну пенсию можно ли? Отец, правда, сапожничал. Но кто в таком городке будет отдавать обувь кому-то в ремонт?! Как правило, все мужики сами с этим управлялись. Только офицеры из училища приносили иногда. В восемь лет я уже не просто помогала матери, а считай, сама готовила. В девять подменяла ее, убираясь в исполкоме по вечерам, чтобы начальство не заметило. Детям-то работать нельзя. Отца уже не было. Умер…
Окончив десятилетку, я, оглушенная духовым оркестром военного училища, ослепленная золотом погон его выпускника, выскакиваю замуж, а через пару месяцев понимаю, что все у меня наспех, что не разобралась…
Ирина по-бабьи подпирает кулаком щеку, смахивает набежавшую слезу и с дикой, выкормленной годами злобой, продолжает: – Никакого счастья мне не было. Сроду сладкого не едала, платья красивого не одевала.
«Кто передо мной? Где принцесса?» – думаю я. И грубо осаживаю Ирину: – Давай, заголоси еще! Тебе же восемнадцать, от силы девятнадцать. Боль у всякого есть. Ешь одну черняшку, а фасон держи! – гаркаю я на весь дом, ощущая внезапный прилив энергии. И, подхватив библиотекаря на руки, хохочу. Раскачивая ее, как ребенка, бегаю по кухне, а потом, задохнувшись, с маху падаю с ней на диван, который под нами чуть не проваливается до пола.
Подурачившись еще немного, мы усаживаемся на скамью у печи, и библиотекарь, делая вид, что устала от игры, кладет мне голову на плечо, замолкает и прижимается к нему щекой. Поначалу она несколько раз пробует его мягкость и надежность – будет ли удобно и тепло? Мне кажется, что она примеряется ко мне, и я жду, чем же все это кончится, успешной ли будет примерка. Отвечаю ли я тем требованиям, которые хоть и негласно, но уже очевидно предъявлены мне. Я кладу ей руку на запястье, а она мне шепчет:
– Еще только полдевятого, ты не волнуйся! Воробьев, когда дежурит, никогда домой не приходит. Начальства опасается.
Я поворачиваюсь к окну. Там, под редкими электрическими столбами на снегу желтеют пятна света. Месяца мне не видно. За стволами деревьев просторно белеет двор, а дальше, за штакетником, своей накатанностью выделяется дорога. И на ней вроде бы мелькает тень, а потом скрывается в сумраке забора и кустарника.
– Кто там? – кинувшись к двери, только и успевает с хозяйской строгостью спросить библиотекарь, как дверь с треском распахивается. Я вижу перед собой взводного, который тянется правой рукой к кобуре с пистолетом, а сзади него окаменевшую Ирину. Воробьев делает ко мне шаг, но я его опережаю:
– Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! – Я стою перед ним, вытянувшись, и совершенно тупо, но преданно, смотрю ему прямо в зрачки: – Все дрова переколоты и уложены в поленницы, дорожка к дому очищена. Докладывает рядовой Якушин. Разрешите идти?! – И, не дожидаясь ответа, обхожу обомлевшего взводного и выскакиваю на улицу. Про медальон, оставленный у Ирины, я забываю.
Двое суток, почти без сна, я пишу заметку об учениях, но уже не в библиотеке, а в красном уголке казармы. К утру третьего дня я ее заканчиваю, исписав три ученических тетради мелким почерком. Ставлю последнюю точку и смотрю на часы. До подъема два часа. Толком поспать все равно не удастся. Значит, надо двигать задуманное!
Я представляю себе, как от моего телефонного звонка проснется взводный, как он, включив ночник, прохрипит спросонья в трубку: «Старший лейтенант Воробьев слушает». От шума, наверное, проснется и Ирина. Она сядет на кровати рядом с ним и испуганно спросит: «Олег, что случилось?..»
Дневальный дрыхнет, уложив на тумбочку руки и голову. Я тихонечко, чтобы его не разбудить, беру телефонный аппарат, отношу его как можно дальше, пока хватает провода, снимаю трубку и прошу квартиру старшего лейтенанта Воробьева. Характерный голос взводного неприятно чешется у меня в ухе. Я отстраняю трубку, ухмыляюсь – все, как по писаному, – и обвожу глазами спящих товарищей, затем гляжу в окно, где в темном, почти черном небе беззвучно плывет крест, составленный из разноцветных огоньков с пульсирующей точкой, и говорю:
– Товарищ старший лейтенант, докладывает рядовой Якушин. Приказ полковника Понько выполнен. Заметка для стенгазеты готова. Товарищ старший лейтенант, я хочу прямо сейчас принести ее к вам домой. Очень важно, чтобы ваша жена прочитала.
Трубка несколько раз кашлянула, потом взвыла, будто там у кого-то выдернули больной зуб, и из нее понеслось:
– Вы что себе позволяете, Якушин! Да я вас сгною на кухне! Два наряда вне очереди и сию секунду на кухню шагом марш! – Однако сквозь угрозы Воробьева я различаю в телефонной трубке и взволнованный голос Ирины:
– Олег, что случилось?
– Это сумасшедший Якушин звонит!
И тут же трубка начинает говорить голосом Ирины:
– Гена, обязательно приходи. Я жду тебя с заметкой. Я возьму ее.
– Ирина, меня самого уже взяли в кухонный наряд, – смеюсь я.
– Никаких нарядов, – строго говорит Ирина. – Повторяю, я тебя жду.
Чуть ли не в мгновение ока я оказываюсь у дома старшего лейтенанта и жму на звонок у двери. Ирина выходит на крыльцо в халате, еще розовая со сна, кутаясь в пуховый платок. Кот трется о ее крепкие стройные ноги. Я в восхищении смотрю на нее. А она, сверкнув великолепными глазами, широко открывает обитую изнутри мешковиной входную дверь и пропускает меня вперед.
Я улыбаюсь с лукавой надменностью, пожимаю плечами и вхожу в сени. Через полуотворенную в комнату дверь видно, как маленький, в круглых старушечьих очках, с серыми, как птичий пух, волосами, с папироской во рту туда-сюда бегает по крашенному коричневой краской дощатому полу взводный. Он в галифе, нижней рубашке и тапочках на босу ногу. Пробегая мимо стола, стряхивает пепел в стоящее на нем блюдечко. Увидев меня, он выпячивает острый, как клюв, подбородок и говорит:
– А-а, Якушин! Привет военкору, – и странно вжав голову в плечи, садится на диван.
Я вхожу в комнату и будто с трудом размыкая замерзшие губы, говорю ему: – Здравствуйте! – и мнусь, делая вид, что не знаю, как вести себя дальше.
А старший лейтенант вдруг вскакивает с дивана, подходит к окну, подчеркнуто энергично отдергивает портьеру, опирается обеими руками о подоконник и пружинисто сутулится, касаясь лбом оконного стекла. По его виду я чувствую, что мне еще предстоит с ним объясняться, и не раз. – Извините, конечно, что помешал вашему отдыху, – говорю я нарочито дрожащим голосом и присаживаюсь на краешек дивана.
Ирина демонстративно поднимает в руке принесенные мной тетради и говорит:
– Это я прямо сейчас пойду перепечатывать.
Боковым зрением я замечаю, как обреченно и хмуро взводный кивает жене головой в знак согласия. – Да, чуть не забыла, Олег, никаких нарядов! Все, Гена, иди.
Перед завтраком раздается обычная команда строиться. Однако перед нами стоит не старшина, а взводный.
– Здравствуйте, товарищи артиллеристы! – недружелюбно приветствует он нас.
– Здравия желаем, товарищ старший лейтенант! – отвечает батарея. Воробьев по списку личного состава начинает проводить перекличку. При этом он двигается туда-сюда вдоль строя по-птичьи короткими и резкими рывками, а голенища его сапог кажутся настолько широкими, что тонкие ножки взводного походят в них на пестики в ступах. Список завершает фамилия Якушин. В ответ на мое «Я!» старший лейтенант вперяет в меня круглые стекляшки очков, чувствуя себя, наверное, обалденным психологом.
Перестроившись в колонну по четыре, мы отправляемся в столовую, но путь, обычно занимавший пять минут, на этот раз длится не менее получаса.
– Батарея, шагом марш! – командует старший лейтенант. И в ответ на брусчатку высыпается горох вместо единого удара строевого шага. – Отставить! Кругом! – И мы возвращаемся к казарме, останавливаемся и застываем. Я переминаюсь с ноги на ногу и думаю о том, что как бы ни старался взводный, все равно для офицеров и старшин, спаянных еще фронтовой дружбой, он белая ворона.
– Батарея, шагом марш! – вновь командует Воробьев, решив, что мы все осознали, но снова по брусчатке сыплется горох, правда, более крупный.
– Отставить! Кругом!
И опять мы неподвижно стоим возле казармы.
– Хреновые дела, – шепчет Евстратов, – взводного кто-то разозлил.
Наконец, с третьего раза, когда все мы дружно печатаем шаг, дело идет на лад. В казарме дребезжат стекла и гудит брусчатка.
– Якушин, запевайте! – подскакивает ко мне Воробьев.
Вся батарея, будто стоглазое чудовище, вытаращивается на меня. И я запеваю: «Путь далек у нас с тобою…» С песней повторяется то же самое, что и со строевым шагом, но к казарме мы возвращаемся всего лишь раз. Наконец батарея становится похожей на громыхающий колесами и подающий непрерывный гудок поезд, каждый поет и чеканит шаг из последних сил. И старший лейтенант, несколько остыв от утреннего напряжения, созданного мною, ведет нас на завтрак.
В огромном зале стоит милый сердцу каждого солдата густой звон мисок и ложек…
Воспоминания меня оставляют, веки мои постепенно смыкаются, и я засыпаю.
Глава XIII
Утро я встречаю в прекрасном настроении. Костер потрескивает. Воздух отдает избяным духом. Сушины за ночь превратились в груды горячих углей и источают такой жар, что вокруг тает снег. Я томно потягиваюсь и думаю: «Вставать или поспать еще чуток?»
Два дня я провожу на поляне наедине с застывшими в белом безмолвии лесными великанами, разукрашенными густым инеем, где тишину лишь иногда нарушают надрывный крик кедровки, короткая, как автоматная очередь, дробь дятла, громкий выстрел треснувшего в морозных объятиях дерева или глухой гул снежных глыб, обрушивающихся с отяжелевших ветвей.
На третий день, лишь только забрезжил рассвет, я покидаю поляну. До меня доходит, что сидение на одном месте ни к чему хорошему не приведет. Да и продукты, к моему удивлению, кончаются очень быстро. Я отправляюсь в дорогу в надежде встретить охотников или отыскать зимовье. Я иду на север, так как мне кажется, что по мху и лишайникам мною определено правильное направление. Чтобы не сбиться, я намечаю себе ориентиры через каждые 100–150 метров. Но без лыж, по моим далеко не профессиональным подсчетам, мне удается за сутки проходить не более трех километров, поскольку все вокруг утопает в огромных сугробах. К тому же длинные голубовато-седые космы лишайников, свисающие с отмерших нижних ветвей, густой подлесок вперемежку с зарослями кустарника создают мне трудности на каждом шагу, а гигантские завалы из упавших стволов, становятся раз за разом труднопреодолимой преградой. Я все чаще теряю ориентировку и, как мне кажется, сбиваюсь с пути. Силы мои быстро тают. В конце концов я начинаю паниковать. Словно безумный, я мечусь по лесу, спотыкаюсь о кучи бурелома, падаю, поднявшись, снова спешу, неизвестно куда, но вперед. Я уже не думаю о верном направлении. Мое физическое и умственное напряжение доходит до предела. И наступает момент, когда я не в силах сделать больше ни шагу. Привалившись спиной к какому-то дереву, я сползаю в снег. Я не понимаю, жив я или мертв. Я не чувствую холода, не ощущаю времени. Мне не хочется ни пить, ни есть. Мне ничего не хочется.
Внезапно передо мной вспыхивает багровое пламя костра. Он разгорается все жарче, все сильней, и из пламени появляется женщина. В нет ней ничего такого ужасного. Да и не ужасного тоже. Обыкновенная. Таких на улице сотни, тысячи, но она чем-то притягивает к себе. Чем? И наряд у нее непривлекательный – наряд безразличной к себе женщины, свободный и только. В правой руке хозяйственная сумка. Русые, даже пепельные волосы всклокочены. Глаза большие и скорее серые, чем голубые. Расставлены они так широко, как не бывает.
И тут я вижу глядящего на меня в упор молодого человека. Лицо у него привлекательное, но искажено таким страданием, какое редко встретишь на лицах людей. Подобную маску можно видеть лишь у мифических персонажей, с которыми знакомил нас, студийцев, Тонников. Может, у самой Медузы было такое лицо, когда она увидела собственное отражение. Наверное, я на краю безумия. Парень-то, который смотрит на меня, это я. Этот «я» в бессилии рыдает, а когда успокаивается и снова поднимает голову, то как бы обретает силу…
Как плавно, неуловимо и непрерывно подтягивает меня образ этого моего второго «Я». Он уже готов закрутить и втянуть мое сознание, как воронка. Я прекрасно осознаю, куда сейчас, как в песок, утечет мое сознание. Если я не воспротивлюсь, то и не замечу, как окажусь на внутренней поверхности явлений, проскользнув по умопомрачительной математической кривизне, и выгляну оттуда, откуда уже нет возврата.
– Да, да, ты все правильно понимаешь. Будущее опасно! Это не прошлое! – говорит женщина.
– Так я в будущем? – спрашиваю я, как бы пятясь.
– Все, что ты видишь, будет, – отвечает она. – Время я не скажу. Ты станешь ждать, а я не хочу тебе портить будущее. Ты мечтаешь о высокой любви и о славе. У тебя есть эти возможности, а случится это или не случится, зависит от многих обстоятельств.
– Кто ты?
– Я богиня Макошь. Вместе со своими дочками Долей и Недолей я определяю судьбы людей, плетя нити судьбы.
– Тогда скажи, что и когда? Хоть намекни!
– Да нет же! Все, что ты видишь, столь же случайно и бессмысленно, как и все остальное, что ты уже видел. Там все столь же подлинно, как и абсолютно случайно. Можешь считать меня поклонницей поэзии, не удержавшейся, чтобы не нарисовать тебя в будущем. Случайный момент, а никакой не факт твоей биографии. Так, забавы ради…
Но я уже не слышу Макошь. Я снова вижу себя, протягивающего «ЕЙ» руку. И глаз от нее я отвести не могу. Я не осознаю, что я вижу сразу, а что потом, в какой последовательности. Но первое мое потрясение – это ее лицо. Вернее, недоумение перед ее лицом. Оно, как две капли, похоже на лицо Карины, но это не Карина. Потом снова ее лицо, уже более бледное, размытое какое-то, но и удивленное, и мое лицо, искаженное еще большим ужасом – уже от самого себя.
А затем я вижу себя входящим в больничную палату. В нос мне ударяют устоявшиеся, едва переносимые запахи, особенно резок запах мочи. В палате восемь женщин. Слева от окна лежит Стопарик. Грязные, слипшиеся волосы обрамляют ее бледное лицо с закрытыми глазами. Дыхание у нее тяжелое, с хрипами. Я сажусь на краешек кровати. Лора открывает глаза. Я кладу на тумбочку сетку с фруктами:
– Вот, принес тебе. Поправляйся скорее.
– Это ты! Да кроме тебя и некому, – тяжело, медленно, но с улыбкой говорит, а точнее, шепчет Лора. – Увидеть бы сейчас папку с мамкой, да сестренку. Мы в лесу, на хуторе жили. Солдаты нас всех схватили, посадили в машину и увезли. Меня и сестренку в детдом отправили, а папка с мамкой пропали. Я больше их не видела. Сестра вскоре умерла. От болезни. Не знаю, от какой. Лет двенадцать мне было, когда я стащила из кладовки туфельки и продала. Есть очень хотелось. Хорошие туфельки, крепкие. А потом из-за этих туфелек сбежала из детдома. Испугалась! Искать их начали. И пошло, поехало! – Стопарик замолкает. Предчувствие, страшное предчувствие холодом пронизывает мне грудь.
– Как твоя фамилия? – в волнении спрашиваю я. – Настоящая фамилия!
– Да, Гена, тебе нужно знать мою фамилию, ведь меня и хоронить-то кроме тебя некому. Нет у меня на земле никого. Запомни, я Лариса Ивановна Кречетова.
Я едва удерживаю рвущийся из меня нечеловеческий вопль. В памяти мгновенно проносится хутор под Валдаем, хозяйка, ее муж-дезертир и две их дочки.
– Кто, почему нам определил такую вот жизнь? Чья воля заложила нам такое будущее? А может, прав цыган? И я действительно нарушил закон Рита о чистоте рода и крови. Он ведь сказал перед смертью, что даже если я это сделал по незнанию, мне все равно не простится. Кровные заповеди! Не договорив тогда, цыган захрипел и упал лицом в землю. Нет! Это ты, Макошь, со своими дочками нам такое наплела?
– Гена, ты виноват в том, что не поддержал Лору, когда твоя поддержка ей была так необходима.
– Неправда, я хотел ей помочь. Я ей дал денег и отправил к дяде.
– Ты решал все умом, а ум склонен прикидывать… Ты избавился от нее! А что, если я дам тебе возможность помочь ей? Согласен?
– Согласен!
– Кстати! Ты не нарушал закон Рита. Тебя полюбила богиня Карна. А уж она-то какой угодно может принять облик, не только цыганки! Но любовь богини для смертного – это всегда испытания. И вы порой даже не можете разобрать, где наказания, а где испытания. Испытания порой вам кажутся тяжелее наказаний!
Пламя охватывает Макошь, и она исчезает, а я вижу трех женщин с бледной кожей и длинными шелковистыми волосами. Откуда-то, будто с небес, начинает литься необыкновенно красивая музыка. Женщины со смехом окружают меня и, взявшись за руки, танцуют. В какой-то момент они разом опускаются на снег, и на них появляются мохнатые шкуры. Пылающий костер освещает уже трех волчиц. Звери укладываются на снег и своими телами согревают меня. Я засыпаю.
Когда я открываю глаза, солнце стоит уже высоко. Возле меня никого нет. А я, как сполз вчера по стволу в снег, так и сижу. Однако, приглядевшись, я замечаю собачьи следы. Откуда здесь собаки?! Это волчьи следы! Сон-то в руку. Но как я остался жив, как эти звери не сожрали меня?! И я снова отправляюсь в путь. «Интересно получается, – замечаю я. – Если я наступаю точно на волчий след – наст не проваливается и держит меня. Но стоит мне оступиться, как я утопаю в снегу». И я, не отдавая себе отчета, иду по волчьим следам целый день, а к вечеру натыкаюсь на охотничью избушку. В ней я обнаруживаю немного пищи, спички и лыжи-снегоходы. Трое суток я отдыхаю в этой избушке, а затем, подогнав по ноге лыжи, трогаюсь в путь.
Мороз не смягчается. Снег под снегоходами даже не скрипит, а визжит. Ветер, правда, чуть посвистывает между макушек деревьев, но здесь, на земле, тихо, и согнутые снегом ветки остаются неподвижными. Я смотрю на небо, прислушиваюсь и думаю: «Какое же сегодня число? Наверное, первые числа февраля. А день? Четверг, пятница, а может быть, суббота…».
Вдали я вижу широкую поляну, зелень хвойного леса, за ней видна узкая полоска реки. А перед лесом, у края этой реки, я замечаю что-то вроде дымка. «Точно, дым, жилье!» – ору я во все горло и спешу к реке. Но дорогу мне преграждает овраг с почти отвесными стенами и огромная ель, нависшая над ним. Перед оврагом стоит человек. Я вглядываюсь в него. Кажется, это мой взводный. Но на кого он похож! Густая борода оставляет видимым на его лице только красный нос и очки, бушлат изодран в клочья, валенки каши просят, чем-то перевязаны. Я провожу рукой по своим щекам. «Зарос не меньше. Бушлат тоже порван». Я подхожу к Воробьеву. Он, зло глянув на меня, кричит: «Опять ты!»
– Там, за оврагом, река, а за ней вроде бы жилье, – говорю я. – Надо перебираться на ту сторону.
– Якушин, не подходи ко мне! Я ненавижу тебя, слышишь!
– Товарищ старший лейтенант, вы что, спятили?!
– Ненавижу! – снова кричит взводный. – Уходи!
– Ты что орешь, дурак?! Ты соображаешь?! Ты сдохнешь здесь один.
– Уходи. Я не хочу от тебя никакой помощи! Уходи! Мне лучше смерть здесь в тайге, чем жизнь от тебя, можешь ты это понять? И я нарочно задержался с прыжком! – Все лицо у него покрывается крупными каплями пота, как слезами. Красная физиономия взводного всеми мускулами реагирует на каждое мое слово и движение.
Я подхожу к краю оврага, на дне из-под снега выглядывают гранитные обломки скал, сухой кустарник и едва угадываемый замерзший ручей. Я снимаю лыжи и креплю их за спиной. Меня очень сильно знобит. Все же сон на снегу без костра бесследно, видимо, не прошел.
– Слушай, ты, чокнутый! – цежу я сквозь зубы. – Черт с тобой, раз ты ненормальный. Но я все равно перетащу тебя на ту сторону. А уж на той стороне, если мы останемся целы, набью тебе морду, дураку! Разом дурь вылетит!
Я хватаю Воробьева за руку, ступаю на скользкий ствол ели и тащу взводного за собой.
Я делаю первые три-четыре шага, цепляясь за сухие ветви, торчащие из ствола, а потом делаю несколько шагов балансируя. Старший лейтенант продвигается за мной. Его рука влажна от пота. Теперь он сам держится за меня мертвой хваткой. Я не отрываю глаз от дальней темной полоски зелени, чтобы не смотреть вниз. Стоит посмотреть – упаду. Мы медленно продвигаемся по стволу, который кажется бесконечным. Воробьев продолжает крепко держать меня за руку. Дурнотный страх растекается по моим жилам, ноги начинают дрожать. И я уже прикидываю: «Идти дальше? Или лучше назад?» Оборачиваюсь и замечаю какое-то движение на покинутой нами стороне оврага, какой-то промельк среди зелени. И неожиданно неясные из-за дрожащего марева силуэты проявляются и становятся четкими и резкими на фоне снежного ослепительного сияния. Из-за еловой рощи один за другим показываются друзья моего детства – Володька Гриднев, Борька Дадонов, Колька Петреченко, Филька Николаев, Валька Красильников. Они одеты в черные сатиновые шаровары, белые майки и спортивные тапочки. Мои друзья бегут так, как бегали мы когда-то в детстве по утрам. Я хочу показать их старшему лейтенанту. Я кричу ему, но не слышу себя. Не слышу собственного голоса. Мой крик беззвучен. Бегуны приближаются к оврагу. Их бег красив, ровен, точно работа машины. И дышат они ровно, не тяжело. Лица ребят до ужаса отчетливы. Мне явственно видна каждая черта их родных лиц. Бегуны уже у оврага. Не замедляя темпа, они бегут по стволу ели. Я вижу широкий шаг, ровные взмахи рук, раскрытые рты, хватающие воздух, но звуков не слышно.
И вдруг звук включается – ровный бег друзей, словно четкий ход часов. Володька Гриднев, догнав нас, подхватывает меня и несет. Я с тревогой слушаю поскрипывание ствола под ним и тихий свист ветра. А когда он, опустив меня на снег, бросается догонять друзей, ветер начинает звучать уже протяжно и высоко, и тут на меня падает небо и всей своей тяжестью придавливает к земле. В мою голову врывается боль, закручивая и раскручивая какие-то пружины, втыкаясь в мозг сотнями острых щупалец, стуча молотками. Я весь растворяюсь в этой боли и, теряя ощущение жизни, превращаюсь в один больной нерв.
Когда же я прихожу в сознание, то вижу перед собой согбенную фигуру взводного, который тащит меня, привязанного к снегоходам, по льду реки. Он идет на вьющийся впереди дымок вблизи изгибающегося обрывистого берега. Дымок все ближе и ближе. И тут раздаются три выстрела, и, прорезая небосвод, на землю начинают опускаться кащеи. Они летят на огненных драконах. Один дракон красный, другой голубой, а третий желтый. Слышится треск, и Воробьев скрывается подо льдом. Следом за ним в образовавшуюся прорубь съезжают и снегоходы вместе со мной. Под водой мелькают драконы, но какие-то маленькие, и вдруг неожиданно пропадают, а вместо них появляются три волчицы.
Они выхватывают меня из ледяной воды и бросают в опаляющий волосы, сжигающий лицо и туманящий глаза пар, сквозь который я вижу бледнокожую светловолосую женщину. Она с таким старанием трет меня намыленной мочалкой, что ее обнаженные груди мячиками прыгают по мне. Заметив мой взгляд, женщина хохочет и кричит:
– Очухался парень-то! Как мои титьки почувствовал, так сразу в себя и пришел. Давайте, девки, заворачиваем их в шубы, перетаскиваем в избу и сразу кидаем на печь.
Взводного они кладут к стене, а меня с краю. Печь дышит снизу теплом. Пахнет молоком, хлебом и овчиной…
Много ли, мало ли времени проводим мы с Воробьевым в дреме, не знаю. Но, проснувшись, я сразу окидываю взглядом все видимое с печи, и первым делом обнаруживаю их – спасительниц. Они сидят за столом, головы их повязаны платками и одеты они в какие-то допотопные кофты, вышитые крестиком, и юбки в сборку. На ногах у них валенки с обрезанным верхом. И лица этих женщин мне кажутся знакомыми. Я точно их где-то видел, но где, вспомнить не могу. Они тихо разговаривают и чинят наше, уже выстиранное, обмундирование. Заметив меня, одна из них говорит:
– Насть, пора накрывать на стол, – и направляется к нам. – Надевайте, счастливчики, свою одежду. Вот вам ваши документы, и за стол. Повезло вам, что мы заметили ваши ракеты. Меня звать Инна, это Настя, а это Степанида, – указывает она на громыхающую ухватом полную женщину. По правде говоря, Инна с Настей тоже не страдают худобой.
Нас угощают солеными грибами, мороженой клюквой, щами, вареной картошкой, салом и мясом. Во время этого застолья Воробьев как бы невзначай интересуется у женщин:
– Не знаете ли вы, располагается вблизи какой-нибудь военный объект?
Инна со смешком отвечает вопросом на вопрос:
– Товарищ старший лейтенант, а вам не Алмаз ли нужен?
Воробьев, растерявшись, молчит. Ему на помощь приходит Степанида:
– Чего зря издеваетесь над мальчишками? Ребятки, вы уже на Алмазе.
– Как на Алмазе? – недоумевает взводный.
– Так! На одном из его объектов. А минут через двадцать за вами придет вездеход и отвезет на площадку.
– Идите пока за перегородку, нам переодеться надо. Вдруг начальство заявится, – просит Настя.
Вернувшись на кухню, я едва узнаю своих спасительниц. Старший лейтенант поражен, видимо, не меньше, так как стоит вытянувшись перед Степанидой, на которой погоны капитана. Инна и Настя, как и он, в звании старшего лейтенанта.
Вскоре начальство в лице полковника действительно приезжает на объект Степаниды, и ее команда, посадив нас в вездеход, прощается с нами.
Мы едем, а вернее плывем, так мягко движется машина. Двигателя ее почти не слышно. В машине тепло и уютно, мы сидим в удобных креслах. Обзор из кабины прекрасный, но я вижу только снег, валящий хлопьями, да темное небо. Мощные фары вездехода бьют во мрак и снежные вихри, и я не понимаю, как можно вести машину в такую погоду.
Водитель, хрупкий паренек, ничуть не волнуется. Кстати, он тоже мне кого-то напоминает. Чертовщина какая-то. Личность полковника, и ту я где-то видел.
Вездеход останавливается прямо напротив здания с освещенными, несмотря на поздний час, окнами. Прощаясь со мной, водитель вездехода восклицает:
– До новой встречи!
Взводный открывает дверь, и сначала я слышу громогласный хор густых басов, полных какого-то всеобщего ликования, а затем различаю поющих офицеров и солдат. Все они сидят за длинными столами.
Заметив Воробьева и меня, усатый с сединой майор, сидящий во главе компании, подзывает нас, усаживает рядом и объясняет:
– Мужики, мое подразделение, вот эти парни, сегодня сбили ракетой американский самолет-разведчик. И по этому поводу мы устроили праздничный ужин. Вы наши гости. – Майор встает и поднимает стакан. – Мы утерли нос НАТО! Ура, ребята! – И «Ура!» так громыхает, что через окно видно, как снежный вихрь, словно испугавшись, откатывается от здания столовой.
Потом поднимается старшина с утонченными чертами лица и пронзительно голубыми глазами:
– Братья! Материнский голос, отчий дом, родная речь, Отчизна! Мы русские, и наше первородство никто не может оспаривать! Я не жалую чужеземцев, не люблю иностранных слов и иностранных имен. Я не терплю в русских городах улиц, носящих имя иностранцев. Я вам хочу прочитать стихотворение Федора Тютчева «Наполеон». Оно очень точно передает мои чувства, которые я испытываю сейчас:
Сын Революции, ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил – и изнемог в борьбе…
Не одолел ее твой гений самовластный!..
Бой невозможный, труд напрасный!..
Ты всю ее носил в самом себе…
Два демона ему служили,
Две силы чудно в нем слились:
В его главе – орлы парили,
В его груди – змии вились…
Ширококрылых вдохновений
Орлиный, дерзостный полет,
И в самом буйстве дерзновений
Змеиной мудрости расчет.
Но освящающая сила.
Непостижимая уму,
Души его не озарила
И не приблизилась к нему…
Он был земной, не Божий пламень,
Он гордо плыл, – презритель волн, —
Но о подводный веры камень
В щепы разбился утлый челн.
За Русь, братцы! За асов, за нас! Ура! И снова ура!
После окончания празднества наши пути с взводным расходятся. Я направляюсь в казарму, а он в офицерское общежитие. Я иду так, как объяснил мне дежурный офицер. Путь оказывается не дальний. Сойдя с шоссе, я прохожу сотню метров, дохожу до забора из металлических прутьев, и вот они – одноэтажные серые здания казарм для солдатского и сержантского состава, прибывающего в Алмаз на учебу. Местный старшина, которого разбудил дневальный, то и дело протирая глаза и позевывая, выдает мне комплекты постельного белья, обмундирования и удивляется:








