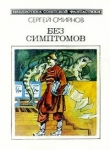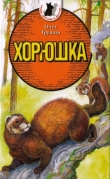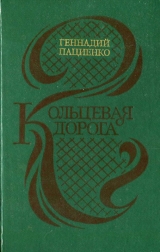
Текст книги "Кольцевая дорога (сборник)"
Автор книги: Геннадий Пациенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
В лесу
В Снегирином лесу мы гнули кусты и обирали орехи с макушки до низа. Иногда залезали на самый верх, держась за куст и пружиня его. Способов рвать орехи знали немало. Их подсказывали то высокий пень, то поваленное дерево вблизи орехового куста, по завалам же мы вообще умудрялись ходить как по ярусам, от одного орехового куста к другому.
Сквозь треск сучьев до меня донесся испуганный мальчишеский крик:
– Помогите!..
Я быстро спустился по пружинистой ветке орешника на толстый серебристый ствол поваленной осины. На другом конце его, не сводя глаз с чего-то, стоял дрожащий мальчишка Гордей, по прозвищу Конопатый, самый младший из всей компании.
– Что у тебя?
– Змея… – шепотом ответил он.
На поваленном дереве я увидел серо-желтую гадюку.
Скованный страхом, Гордей не знал, что делать. Прыгать с бревна было высоко, можно к тому же наколоться на сухие сучья. Идти по бревну вперед нельзя – Мешала змея. Косясь на гадюку, я начал осторожно отламывать ветку, стараясь при этом не оступиться.
Вытянув руку с веткой вперед, я медленно приближался к змее. Учуяв меня, она подняла настороженно голову.
– Спускайся на землю, – шепнул я мальчишке. – Прижму ее. Иди, не бойся.
Гордей медленно повернулся, дошел до конца лесины и с радостью спрыгнул. И уже под ореховым кустом закричал, предупреждая каждого, что на бревне змея и надо убегать отсюда скорее.
Всех словно ветром сдуло: каждый прыгал на землю, подхватывал свою сумку и бежал в сторону. И уже издали с любопытством ждал, что буду делать я со змеей.
Меж тем гадюка, чуть шевелясь, как казалось, смотрела на меня. Я стоял в оторопи на бревне и не знал, идти ли на змею с короткой хворостиной, что само по себе рискованно, или спрыгнуть в полузасыпанную с войны траншею. Повернуться и ступить на конец бревна я не решался. Хотя именно это и надо было сделать. Но я боялся, что гадюка при виде моей трусости ужалит. Ладно, решил я, уцеплюсь по-обезьяньи за гнутый орешник и спущусь на нем. А змея пусть остается: ее лес, ее места, она здесь хозяйка…
Однако ни одному из моих намерений не суждено было сбыться. Я услышал внезапно воинственный крик и увидел, как в бревно, на котором стоял я, полетели одна за другой палки и камни. «Да перестаньте вы!..» – хотел крикнуть, полагая, что таким способом ватага пытается мне помочь. Судя по всему, Гордей не только рассказал, но и показал место с гадюкой.
Теперь я боялся цепляться за орешину: камни и палки, летящие с той стороны, угодили бы в меня. Я успел лишь об этом подумать, как одна из палок ударила в лесину, отскочила и больно задела ногу. Я вскрикнул и полетел вниз, в траншею. Упал удачно и быстро встал на ноги, готовый карабкаться наверх. Но тут же увидел, как с огромной рогатиной к бревну приближается хромой здоровенный подросток Женька.
– Кто убьет змею, тому десять грехов простится! – прокричал он и ткнул рогатиной в то место, где находилась змея. Он провел палкой по бревну, и прямо передо мной в траву полетел изгибающийся «резиновый» жгут. При виде его все бросились от траншеи, обдирая одежду и наживая ссадины. Потом же все разом осторожно и подошли.
Где упала змея – я не заметил. Она мелькнула перед моими глазами и скрылась в крапиве, росшей на дне траншеи. С небывалой прытью я начал выбираться, но края были песчаными и осыпались. Вдобавок сумка с орехами зацепилась, и, освобождая ее, я некоторое время промешкал. И в это-то мгновение почувствовал резкий укол в щиколотку левой ноги: но то мог быть и сухой сучок, и крапива, и колючая проволока. В эту минуту мне было не до размышлений.
Да и кто из мальчишек обращает летом внимание на ушибы, синяки, ссадины! Я присоединился к ватаге, и мы подались от орешниковых зарослей в сторону мшаника, через который предстояло выйти на лесную дорогу к дому.
– Сашок, – сказал мне через минуту Женька с сочувственной серьезностью. – сними штаны!..
– Зачем? – простодушно спросил я, на всякий случай взглянув на свои матерчатые брюки: вдруг порвал. Но штаны были целыми.
– Не там ищешь, Сашок… Загляни внутрь. Небось от страху…
Мальчишки, угождая Женьке, захохотали. Все, кроме конопатого Гордея. Я неожиданно ощутил полную беспомощность и растерянность, не зная, что сказать в ответ Женьке. Слишком неожиданной показалась мне насмешка. Решимость и обида захлестнули меня. Я бросил сумку с орехами наземь, подошел к Женьке и расстегнул брючный ремень.
Мальчишки присели от смеха. Теперь они уже хохотали над нагловатым Женькой. Хохотали, падая, приседая, хлопая и толкая друг друга.
Я застегнул спокойно ремень, уменьшив его после лазания по орешникам на одну дырочку, перекинул через плечо сумку и первым побрел по мшанику на дорогу.
Я шел и то отходил от случившегося, то, наоборот, горел им. У меня было странное желание выбраться на дорогу и пойти одному домой. Все ощутимей наваливалась тревога и беспокойство. Привыкший к вороньему крику, я почему-то вздрогнул сейчас, когда стая ворон пролетела над лесом. Идти по мхам мне становилось до крайности трудно. Ноги как будто сделались ватными, я спотыкался. То, что я осмеял заводилу Женьку, не должно было пройти мне сегодня даром, но сейчас и это было безразлично. Кое-как я преодолел мшаник. Земля потвердела, вокруг лесных болот потянулась за мшаником полоса почти непролазных зарослей. Дорога ждала нас в нескольких сотнях метров.
И здесь-то, в зарослях, я явственно ощутил, что левая нога набухает и что я уже почти волочу ее. Страх затмил сознание. Остановился, пропуская вперед всех, и поднял штанину. Спереди на щиколотке ноги краснели три маленькие точки. От них по ноге шла опухоль, туго и воспаленно толкалась кровь.
– Тебе больно? – услышал я рядом голос и быстро опустил штанину.
Гордей поправлял сумку:
– Давай помогу. Держись за меня. Скоро дорога…
Откуда бы знать ему, что мне больно?.. Мало ли что с ногой, ну, расцарапал, ушиб, подвернул, вывихнул – как догадался он о моей боли? Скорее всего я повредил ногу, падая с бревна, и сгоряча не почувствовал. А может, и растянул…
– С чего ты взял, что мне больно?
– Я точно знаю… – замялся он. – Тебя змея укусила, – сказал он, уверенно и спокойно глядя в лицо мне.
– Врешь ты, Гордей. Чепуха!..
– Вот смотри, – показал он на три красные точки с капельками крови. – Это ее укус. Когда мы с бабушкой брали чернику, ее тоже укусила гадюка. За палец. Было вот так, как у тебя. Я запомнил. Рука долго болела. Бабушка едва не умерла…
Сказав об этом, мальчишка тут же умолк. Мне же, как никогда, захотелось жить. Это что же, я не попаду в Снегириный лес, а поля, а дороги, а моя удочка, школа, книжки – все это будет мне недоступным?
Ну нет – я должен и буду жить. Назло судьбе выживу. Я выдернул проворно ремень из брюк, и мы взялись с Гордеем зажимать ногу выше колена. Ремень врезался в опухоль, почти скрылся в ней, но зато, полагал я, змеиный яд не подберется к сердцу, не убьет его. И я выживу, вновь буду ходить с мальчишками в заброшенный Снегириный лес.
Так, опираясь о плечо Гордея, я сделал несколько шагов и понял, что до деревни мне не дотянуть. Да что до деревни – выбраться хотя бы на дорогу, а там видно будет. Боль усиливалась с каждым шагом, нога немела, и я уже совсем не ступал, а волочил ее, опираясь на палку и на плечо Гордея.
Голоса ушедших вперед слышались за буреломом, у самой дороги. Стиснув зубы, я упрямо продолжал двигаться. Нет-нет да и закрадывалась мысль – а вдруг уйдут мальчишки, оставив нас? Или все же, как это часто бывало, усядутся на лесной травянистой дороге и будут ждать…
Если уйдут – придется туго. Домой я один не доберусь: расстояние немалое.
Я ступал по кочкам, цеплялся распухшей ногой за коряги и бурелом, проваливался в мох и, с болью выдергивая ногу, брел, покрываясь потом, вперед, к дороге.
Мальчишки ждали. Они сидели и вылущивали орехи. Их рвали в лесу наперегонки – побыстрее да покрупнее. Теперь же орехи вылущивали, чтобы не нести домой лишнего. Я опустился в стороне на траву, вытянул негнущуюся ногу и перевернулся на спину, лицом к небу. Гордей с кем-то перешептывался: вероятно, рассказывал о случившемся. Я видел небо, верхушки елей. Пахло нагретой смолой и папоротником. Умиротворенная предвечерняя тишина и эти запахи расслабили меня.
Однако почему я лежу? Почему теряю драгоценные минуты, в которые боль и опухоль только усиливаются, а яд продвигается выше? Надо брести скорее к деревне, а там уж спасут, вылечат.
Я поднял голову, встал, оперся на палку. Молчаливо и одиноко побрел по дороге. Ватага с каждым шагом меня нагоняла. Я двигался, опираясь на палку, и палка была мне в эти минуты другом. Оттого что никто не сокрушался, не думал упрекать Женьку за издевку, я вдвойне ощущал свое одиночество.
Мальчишки приближались. Женька нагнал меня первым.
– Знаешь, мы лучше пойдем наперед и скажем, чтоб за тобой прислали телегу.
Я промолчал: дело ваше. Голоса быстро затихли за лесными дорожными поворотами. Пусть спешат со своими орехами – тем настырнее и упрямее буду в одиночестве я. Добреду наперекор всем.
Гордей тоже исчез. И я сразу забыл о нем. Зачем ему со мной оставаться? Подался, и ладно. Подобно хилому утенку, он пробовал поотстать, тянуться позади, но Женька крикнул, и он присоединился.
Ничто теперь меня не отвлекало. В притихшем предвечернем лесу я был один. Даже здоровому человеку до темноты не поспеть в деревню. Сумка с орехами била по боку, мешала идти. Я бросил ее под куст, заприметив место. Вернусь, заберу как-нибудь. Но облегчение вскоре пропало. Боль и тяжесть навалились снова. Хотелось остановиться, прилечь на покрывшуюся росой траву и лежать не шевелясь, ни о чем не думая…
Времени минуло достаточно. Телеги все не было. Женька не сдержал слово, промолчал в отместку, иначе бы отец уже появился. Остальные же, вероятно, и не догадывались, о чем говорил со мной Женька с глазу на глаз.
Я приближался к приметному у дороги большому камню. За ним лес сменялся полевыми кустарниками, и на дороге нет-нет да и появлялись люди. У самых домов, где сходится несколько дорог, начнется густая, плотная пыль. По ней-то я и приду к себе.
Я поравнялся с валуном и услышал чье-то робкое покашливание. Наверху его, поджав колени, сидел Гордей.
– Зачем ты здесь?
– Тебя жду, – ответил он, спускаясь с камня. – Давай сумку поднесу.
– Я ее в кусты забросил.
– Зря, – сокрушился он. – Хочешь, сбегаю. Скажи, где?
– Ты все равно не найдешь.
Посылать мальчишку за сумкой я не мог, понимая, что он залез на валун от страха, иначе пошел бы навстречу. Кусты, сумерки и окружающая пустынность принудили его остановиться и ждать. Гордей спустился с камня, и мы поковыляли по дороге вдвоем. Я шел осторожно, опираясь на подставленное плечо, Гордей – держась за мой пояс.
Вскоре мы услышали стук телеги. И не со стороны деревни, как ожидали, а из леса.
Кто-то нагонял нас. Лошадь ступала неспешно. Телега покачивалась в колее с одного бока на другой. Мы сошли с дороги и остановились чуть в сторонке.
– Тпру-у-у!.. – Мужик в телеге натянул вожжи, заваливаясь на спину. – Тпру-у-у!
Телега остановилась.
– Хотите, чтоб подвез? – спросил мужик, пристально глядя на нас.
– Хотим! – ответили мы в один голос.
– Садитесь, мастера ломать орешник!
Мужик в телеге был заметно навеселе.
– Его змея укусила, – сказал быстро Гордей.
– Ишь, хитрецы какие! – захохотал мужик. – Насквозь вижу мазуриков. Обленились.
– Его правда змея укусила! – заступился Гордей.
– Лучше под ноги надо глядеть, когда орешник ломаете. Чего стоите? Садитесь! – проворчал мужик.
Мальчонка от радости встряхнул сумкой, и по дну ее, по самому низу, костяшками отозвались орехи.
– Давай торбу!
По-видимому, это был лесник, судя по низким дробинам и неразъезженной, в отличие от колхозных, телеге. Сидел он на скошенной траве, положенной небрежно и вдоволь. Колхозный возчик к траве отнесся бы по-другому: ни один клок не рассыпал бы.
Мужик взял у Гордея сумку-мешок, подержал, потряс ее на весу, словно прикидывая, много ли мы нарвали, и, решив, что мало, распорядился:
– Садись на траву, ко мне поближе!
– Скорее! – заметался Гордей, помогая мне взобраться на телегу.
– До перекрестка подкину, а там и сами дотопаете, – буркнул мужик. – Мне в другую сторону, – добавил он.
– Может, до деревни довезете? – попытались мы уговорить лесника.
– Ну, разве до первой хаты, – согласился он.
Я очнулся уже дома. Лежал на кровати, мучимый ознобом и жаждой. Рядом в тревожном нетерпении стояли родители. Смутно понимая, что внизу прохладнее, я попросил положить меня на пол – на еловую свежесть вымытых накануне досок.
Однако легче от этого не стало. Я то и дело впадал в забытье. Мне виделись ползущие отовсюду змеи… Они никогда не добрались бы ко мне на кровать, но на полу могли ужалить еще раз. Меня снова перенесли на кровать.
Но и здесь я продолжал метаться от воображаемых змеиных туловищ, напоминающих пастушьи кнутовища. Пока меня доставят к доктору, змеи, размышлял я, успеют наползти в дом из Снегириного леса. Воображал, как спускаются они в подвал дома и появляются затем в щелях на полу, нацелив на меня свои ядовитые жала…
Боль и бред изводили меня.
Болел я долго. Временами мне виделась поляна с тихо стоящим орешником, крупные гроздья сами просились в сумку. Где-то за окнами кричали ребята. Тоскливо становилось от этого привольного и веселого крика. Орехов в то лето было так много, что ватага ходила в Снегириный лес почти ежедневно. Гордея в лес родители после случившегося не пускали. Боялись. И он с нетерпением ждал, когда я выздоровею. Вдвоем с ним мы запаслись бы орехами на целую зиму…
Я лежал и досадовал. Все сильнее влекло меня в знакомый лес. В нем я знал одно заветное место и рассчитывал побывать там с Гордеем.
Постепенно я начал ходить на самодельном костыле. Однажды Гордей принес слипшиеся в газете конфеты. Я стал отнекиваться: негоже старшему брать у младшего. Но лицо Гордея было таким участливым, а душа его, понял я, искала себе другую родственную и созвучную душу, которая бы не покинула его в трудный и страшный миг жизни.
Мы часто обсуждали с Гордеем наш предстоящий поход в лес, к неизвестному другим месту. В стороне от тропинки набрел я однажды на такие ореховые кусты, что нам хватило бы обирать их несколько дней. Поляна была без бурелома, сухой и чистой. И главное – ее не знала ломавшая, сокрушавшая орешник мальчишеская компания.
Мало-помалу я начал шевелить пальцами, пытался сгибать ногу, хотя отек все еще оставался. Ходить я мог, только держась за что-то. И все это время около меня был Гордей. С его помощью я выбирался во двор и с захолонувшим сердцем глядел на солнечный убывающий мир лета. И еще на дальнюю-дальнюю, темно-сизую кайму Снегириного леса и дорогу к нему. Что-то происходило там, что-то делали, творили в лесу мальчишки – ведь не одни же орехи рвали они?.. Рвали без меня и Гордея…
Меж тем надвигалось неумолимое первое сентября. Гордея ждал третий класс, меня – пятый. В деревне и окрест жизнь заметно поугомонилась. Поубавилось птичьего щебета и детского гвалта. Птицы в большинстве улетели. Дни стояли сухие, теплые, солнечные. Покой и тихое блаженство царили на полях и в воздухе.
В такие дни я не мог оставаться дома. Костыль уже отбросил и каждый раз уходил от дома все дальше. И в какую бы сторону ни подавался, все поглядывал на кайму Снегириного леса. Проходив как-то часа три кряду, я убедился, что могу дойти до леса, побывать на заветной поляне и вернуться назад с орехами. Тренировки не пропали даром. Дело было теперь за Гордеем. С утра он – в школе, а если пойти после уроков – поздно, не успеем вернуться.
Воскресенье – Мой последний свободный день перед школой. Там вовсю уже шли занятия. Значит, отправляться в лес надо в субботу. Мы посоветовались с Гордеем и решили: я пойду на поляну пока один. Узнаю, есть ли орехи, а в воскресенье, если дождя не будет, подадимся с ним вдвоем. За это время орехи могли осыпаться. Но тогда на песчаной чистой поляне их можно будет собирать прямо под деревьями. И я принесу вдоволь и себе, и Гордею.
Утром я побрел низом деревни, по стерне и скошенному отавному лугу, к заветному Снегириному лесу, дальний вид которого притягивал, манил и звал меня. За время, что я болел, в лесу, должно быть, немало переменилось: в нем всегда что-то меняется, а в первые дни осени – в особенности. В эту пору лес стоит нетронутым, не зная, что делать со своим добром, кого одарить им. В самом неподходящем месте вдруг натыкаешься на крепыш-боровик, да такой величины, какой не попадался прежде за целое лето.
Давно уже позади деревня. Хрустально-чистое небо, в просторах стога и скирды, связанный в снопы лен – необъятная, головокружительная свобода… И ты один в этой покойной сентябрьской необъятности. Как-то доберусь я обратно? Главное – не зацепиться, не растревожить больную еще ногу в лесных зарослях. Отек спал, но иногда, резко ступив на твердое, я чувствую боль. Но я не полезу в повалы и буреломы. Буду идти старой лесной тропой почти до самой поляны.
Лес вырастал, надвигался, как великан, распахнувший огромные полы тулупа, чтобы сомкнуть их, как только ты в него ступишь. В колеях затравенелой дороги – вода, по ней плавает иссохшая, покоробленная листва. Вода отстоялась, по-осеннему чиста и прозрачна.
Вот и вошел я под полог леса. В тени держатся холодок и свежесть. Где-то над лесом раздается крик ворона – пустынный и чуть тревожный.
Лес затягивает меня, как затягивает человека вода. Боязно и любопытно. Но это пока что начало, еще тянется дорога, по которой, хотя и редко, все-таки кто-нибудь пройдет или проедет. Дальше мне надо сворачивать на тропу, я угадываю ее между кустов и деревьев. Трава на тропе не примята. Это радует: значит, никто не набрел на поляну. Тропу проложили в военную пору к передовой линии – копытами лошадей и солдатскими сапогами. За десятилетия она почти заросла. Прошлая жизнь на ней давно минула, новая же до сих пор не привилась.
И только досужая ребятня летом ходила сюда. И шла она не столько за орехами и ягодой, сколько за приключениями, в поисках на былой передовой разного ржавого и давно истлевшего в лесных песках и болотах военного скарба.
Со страхом сворачиваю я на заброшенную, заросшую тропу. Что-то ждет меня сегодня в чащобной глухомани? Над лесом опять кричит одинокий ворон. Крик его звучит для меня предостережением. Сбоку темнеет поваленный старый дуб, за ним, чудится мне, кто-то спрятался. Не спускаю глаз с темного за деревьями громадного дубового пня. Я готов уже вернуться, не идти дальше, но поляна… Если бы не она и не орехи, обещанные Гордею… Ведь они пропадут, осыплются, никем не тронутые. На затерянной поляне просторно и солнечно, нет зарослей – листья ландышей да осока на песчаных местах.
Она должна быть уже рядом, и ноги сами несли к ней. Кусты орешника стояли здесь и словно ждали меня в немом удивлении, увешанные отяжелевшими гроздьями. Теплынь и солнце кругом. Ни ветерка, ни дуновения. Свисают заветные гроздья. Рви, сколько можешь унести. Никогда и нигде не встречал я таких крупных орехов…
Но, странное дело, в абсолютном лесном безмолвии, в полном безветрии слух ловил на поляне непривычные шорохи, какие-то звуки. Казалось, лес силится мне что-то сказать, посвятить в свою тайну, предупредить, предостеречь. О чем?..
Я не спешил рвать орехи. Стоял, пытаясь постигнуть настороживший меня лесной шепот и шорох. Вокруг как будто сыпался, невидимый тек песок. Я напрягся от непонятного ощущения и предчувствия. Не ветер ли трется тихо в листве орешника? Запрокинул голову, листва на кустах орешника не шевелилась. Она скорее сама вслушивалась в едва уловимый шелест лесной поляны.
Я присел, и шипение стало отчетливей. Не примусь за орехи, пока не разгадаю этого шелеста-шепота, не выясню этого странного, шепелявого звука, навязчиво и упорно стремящегося мне что-то поведать.
Вскоре я заприметил, что осока на сухой песчаной поляне отчего-то шевелится. Кто-то трогал ее у самой земли, терся, невидимо передвигаясь от одной травины к другой. Так, бывает, шевелится под водой тростник от прикосновения рыбы. Но в лесу ничего подобного мне не встречалось.
Я взял небольшую палку, осторожно раздвинул осоку. И онемел от ужаса. По всей нагретой поляне ползали, шипели, шуршали, терлись друг о друга десятки змей. От взрослых я слышал о так называемых змеиных свадьбах, о местах, куда сползаются они чуть ли не из всего леса. Свадьба ли тут была и случаются ли свадьбы в эту пору, я не знал ни тогда, ни теперь. Но то, что поляна кишмя кишела змеями, было очевидным.
Я боялся сделать хотя бы шаг. Ступить мне было буквально некуда. Меж тем змеи как бы и не замечали меня, продолжали шуршать и тереться на солнечно-желтой орешниковой поляне. Я осторожно шагнул назад, шагнул спиной, весь дрожа и цепенея от творимого на поляне змеиного шабаша.
Не помня себя, выбрался на тропу и в тряском холоде, с колотящимся сердцем, спотыкаясь и задевая больной ногой за кочки, хворостины, рытвины, понесся что было сил к дому.
– Где же орехи? – поинтересовался наутро Гордей, пока я отлеживался с разболевшейся не на шутку ногой.
Что мог ответить ему? Вздохнул и сказал, что разболелась нога и я не добрался до леса.
– Жалко, что орехи там остались, – огорчился Гордей. О змеиной поляне я умолчал. Не хотелось, чтобы у Гордея пропало желание бывать в Снегирином лесу и одному искать солнечную поляну с орешником.
…Уже взрослым я услышал однажды поверье, что укус змеи делает человека несчастным. Змея ворует якобы счастье. Я долго размышлял над этим: так и эдак прикидывал, примерял услышанное и ничего не понял. Махнул рукой и забыл о поверье.
Но иногда кажется, во сне тормошит меня мальчишка самый меньший из всей нашей лесной компании, легонько трогает за плечо, и я слышу, как говорит он: «Вставай, в лес пойдем, я отыскал поляну. Идем скорее, пока там никого нет».