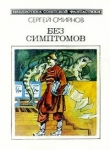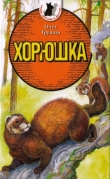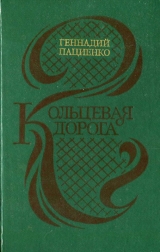
Текст книги "Кольцевая дорога (сборник)"
Автор книги: Геннадий Пациенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Родион даже привстал:
– Постой, ты про мой станок, что ли?
– А про что же, мил человек! Конечно, про твой станок, от которого тебя отстранили! Вот ты уже сколько переживаешь?
– Подожди, Дементий, ты, пожалуйста, по порядку. Я что-то ничего не пойму.
– Масло в твой станок было залито нечистым. С песком, понимаешь? Обнаружил я это после доклада комиссии. Конечно, я должен был немедленно доложить, отыскать виновного! И тогда тебе станок немедленно вернули бы, сняли бы всех дохлых кошек, которых на тебя навешали.
– Ну и что же ты не доложил?
Дементий широко развел руками:
– Вот-вот. Догадка-то у меня появилась, а доказательств никаких. Дай, думаю, еще посоображаю, факты сопоставлю. А время шло… А тут еще как вспомню, что Сипов нас застукал с бутылкой, так и опустятся руки. И другая поговорочка приходит на ум: поди докажи, что ты не верблюд…
– И все-таки надо, надо доказывать, что ты человек, – с невольным отчуждением отозвался Родион. – Но песок… Песок в масле… Тьфу, черт, будто на зубах он у меня хрустит… Откуда он в масле взялся?
– Бак с маслом знаешь? Кран внизу. Отвинтили кран, налили масла, а потом его в станок… – Дементий склонил голову над столом, добавил таинственно: – А на дне бака… бракованные детали Агафончика. А до бака он их в противопожарный ящик с песком – так сказать, перевалочная база… Вот какая она, цепочка…
Родион, облокотясь о стол, долго тер пальцами лоб.
– Да, история, – наконец сказал он. – А знаешь, я догадывался. Но как говорят, не пойман – не вор. А взяться за дело, докопаться, доказать – не хватило характера. И выходит, что бездействовал на свою голову. Но дело не в этом, пусть даже это был бы не мой станок.
Дементий вскинул руку, указывая на Родиона пальцем.
– Вот, вот оно! И у тебя тоже! Ох, смотри, Родион. Не делай в жизни больше ни одного шага по этой дорожке! Спокойствия ты себе этим не обеспечишь. В хате с краю нет спокойствия. Все равно жизнь заставит рано или поздно мучиться! Даже если бы и не твой станок… Ты прав. Важно то, что песок проклятый завелся. Я уже не о натуральном. Я о песке в душе Агафончика, а там, глядишь, и в твоей душе. Вот это противно и даже преступно.
Дементий выдернул руку из кармана пальто.
– На. На память возьми. Не знать бы таких ремонтов…
Небольшая, шероховатая, с отколотым основанием деталька перешла к Родиону. Сквозь хмель настойчиво и пытливо смотрели серые глаза Дементия, пока разглядывал и повертывал Родион детальку.
– Не понимаю… – произнес он, недоумевая и удивляясь еще сильнее.
– Что ж тут понимать, молодо-зелено. Нашел, когда масло спустил. Кулачковый валик – это в масляном насосе.
– Есть, кажется…
– Не кажется, а точно! – не терпел Дементий, если не знал кто станка. – Он-то и полетел. Режима не вынес. Только не думай, что я это самое… – вертел он у виска пальцами.
– Да ты что?
Родион молчаливо слушал. Казалось, не пили. Голова вмиг стала ясной. Дементий не унимался:
– Я, быть может, хочу порой больше твоего, чтоб вокруг забуранило, взбурлило, чтоб, как в симфонии – тихо, тонюсенько, а потом ка-а-ак дернет!
Молчал Родион, продолжал Дементий:
– Существует один, утвердившийся давно принцип, некая мода. Пришел человек руководить на новое место, сразу же переманивает к себе тех, с кем он прежде работал. Был директор в другом месте. Вдруг – перевели к нам. За ним – пришел Сипов. Тот в свою очередь привел Агафончика. При такой поруке обеспечен покой. Всякая сосна своему бору шумит. Уж туг не попрешь особо. Думаешь, не знал я о сверхплановых сиповских деталях? Знал как член завкома. И термитчики знали, получая одновременно за вредность и за перевыполнение. Знали и побаивались, вдруг я скажу? А я не сказал.
– Потому что пил с ними.
– Это ты брось!.. Пил по дружбе, а не по корысти. Кстати, бутылка та была ихняя – за ремонт конвейера.
За время знакомства их ничего подобного с Дементием не случалось. Никогда еще не был таким он. Не скоро, видать, уймется. Памятно и надолго сорвался.
Из-за столов, справа от входа, на шум к ним подошел Горликов:
– Здравствуй, Дементий, – с какой-то усталой раздумчивостью сказал Горликов. – Здравствуй, Родион. Не перебил ли я вам беседу?
– Нет, Алексеич, – с глубоким вздохом облегчения ответил Дементий. – Ты пришел в самый раз. Понимаешь, угадал. Я честно, без подвоха. Поговорить нам, брат, надо, серьезно поговорить.
– Давно пора, Дементий. Хорошо бы не здесь.
– Да, да, не здесь. А хочешь, поедем ко мне?
– Что ж, поедем. Я только на полчаса покину вас. С директором сейчас виделся. – Глянул на часы. – Договорились через пять минут встретиться внизу. Хотя поздно уж…
– Нет, не поздно! Мое сердце говорит – не поздно. А точнее сердца ничто мне времени не подскажет. Ничего нет точнее сердца!
– Проводи его, Родион, – кивнул Горликов.
Вдвоем с Дементием вышли.
Фонари, словно бы ощупью, освещали улицу. Зима началась настоящей метелью. Разгульно носилась метель вдоль домов, лепила в лицо, взметала белой полой. Ни автобусов, ни троллейбусов вблизи. Удобней было отправить Дементия на такси. За углом находилась стоянка.
Насквозь продувало, а голове Родиона все равно жарко… Машины не было. Неподалеку прохаживался постовой. Дементий взял Родиона под руку и ходил взад-вперед, чтобы не мерзнуть. Стали на ветру, покуривая, и двое подростков.
– В тебе я узнал, Родион, себя, но того, который должен был сделать что-то, да не успел – МОЛОДОСТЬ ЖДАТЬ НЕ СТАЛА!.. Как не ждет опоздавших поезд, так и молодость: никогда, поверь, ждать не будет. Самую малость задержится, и пошла, понеслась себе дальше.
– Ты много работал, Дементий. Ты долго работал. Так долго, так много в завкоме был, что стал бояться. И знаешь почему?
– Ну скажи.
– Ты привык, ты боялся не попасть туда. Эта-то гирька и оборвалась теперь у тебя. Вот и все, что хотел я сказать.
– Правда. Но лишь отчасти.
Приближаясь, мигнул зеленый глазок машины, и Родион с Дементием поспешили к колонке в шашечках.
– Мы первые! – направились подростки к машине.
Однако негодовать Родиону с Дементием не пришлось.
Постовой оказался рядом. Махнул, приглашая садиться.
– Лишнего я наговорил сегодня, – оправдывался Дементий.
– Ничего, ничего, – утешал Родион.
Назвав адрес, Родион договорился с шофером. Однако сесть в машину Дементий не торопился, продолжал рассуждать и на улице. Таксист в нетерпении просигналил. Сквозь опущенное стекло в машину несло снегом.
– Вы что, закаляться вздумали? – проворчал он.
– Я, брат, давно потрескался от закалки, – заметил Дементий. Водитель посигналил вторично. Родион еще раз назвал адрес. Втолкнули продолжавшего говорить Дементия.
– Трогай! – сказал тот, садясь и подбирая пальто.
Машина сразу же растворилась, пропала в густой снежной завороти. Ветер трепал по краям крыш поземку. Заснеженные, засыпанные вдоль улиц деревья походили на развешанные кружева, которыми махал ветер. Хорошо, что подвернулась машина. Дементий был в летних туфлях, и лишь Родион знал, что ноги у него обгорелые.
Брел Родион к буфету один.
Казалось, мела не метель, а шумел неподалеку где-то прибой, с волн которого срывал ветер пену и бросал за воротник хлопьями. И хлопья охлаждали, отрезвляли распаленную голову. Ветер лепил упрямо. И так же упрямо хотелось идти навстречу метели.
На пороге ждал Горликов.
– Проводил?
– Проводил.
– Посидим. Долго же вы расставались.
– Машин не было, – сказал Родион, не зная зачем.
За столиком – никого. Пил Горликов мало. Больше о чем-то устало думал, слегка покраснев лицом. Рядом с ним и сам кажешься забывшимся и отрешенным. Но Горликов заговорил, как если бы разговор был только что прерван:
– Через два дня уходить…
– Извините. Я слегка приложусь. Что-то голова трещит, – сказал Родион.
– Пожалуйста. Только почему слегка? Давайте выпьем как полагается. Мы ведь мужчины?
– Вот уж точно – без пол-литра не разберешься, – проговорил Родион, улыбаясь. – А вам куда уходить?
– Как куда? На пенсию. Отдыхать.
Одет был Горликов во все вязаное. Серый домашний джемпер, поверх кофта вязаная, нитяная, и будто бы сам человек – весь из петель и ниток. В словах нет-нет и блеснет мысль-рыбешка, но чтобы рыбешку за улов посчитать, приходилось долго и терпеливо выслушивать Горликова, словно бы вязавшего себе новую кофту.
– Через два дня уходить.
– Что ж, будете сидеть теперь в сквере на свежем воздухе, – рассудил Родион. – Играть в домино, разбирать в домовом комитете дела, стоять в очереди за вечерней газетой…
– Нет. – Горликов стукнул по столу ладонью. – Нет. Кто научил тебя так понимать мою жизнь? Кто?
– Просто я это видел, каждый день видел, проходя е работы и на работу.
– Видел?
– Да. Видел.
Родиону уже не хотелось больше ни о чем говорить. А голос Горликова то слабел, то крепчал, как волна приемника, голос, схожий с дождем по осени, под который с печалью думается.
Выдержка… Вместе с усталостью и раздумьями покидала она Родиона все чаще. Боясь расстаться с ней окончательно, он гнал в эту минуту ненужное и слушал Горликова.
Однако продолжалось это недолго. Горликов заговорил, зачастил, и Родиона словно бы подменили – мигом насторожился.
Я, парень, не строил Магнитки и Днепрогэса, но жил и работал с людьми всю жизнь. Переделал, переточил, переплавил бог знает сколько. Я сотворяю из металла нечто пригодное, и этот процесс, в свою очередь, делает из меня пригодного человека, из тебя, из других – из всех и каждого. Если хочешь знать, это расход сил зовется жизнью. Он не каждому по плечу. Далеко не каждому!..
– А как же те?
– Кто?
– Кому не по плечу.
– Живут по-своему. Ну как-то иначе. По-другому пытаются найти себя. Где у человека не хватает в своем деле ума либо таланта, он начинает хитрить. И будь здоров хитрит. Тут два типа есть. Одни – прямые, другие – скрытые, утонченные, живущие на полулжи, полуправде. И мы создаем им отчасти условия. Ведь как бывает. Вот слушай. Купил я однажды на рынке полбанки меда. В саду на ночь поставил банку в блюдце с водой. Муравьи утром сновали, друг на дружку карабкались, но вода не пускала их к сладкому. На второй день кто-то по неосторожности положил на блюдце чайную ложку, да так, что стала та небольшим мостком к банке. И что же, этого мостка было уже достаточно. У банки сразу задвигались два плотных потока. Один к меду, другой – обратно…
Для меня, Родион, люди так и делятся на земле. Есть люди – пчелы, заполняющие мир сотами. И есть – умудряющиеся выдавливать из всего плохое, даже из сот. И вот еще что: не давай себя каждому перемалывать.
– Переламывать?
– Нет, именно перемалывать. Понятно? Объясню. Не все на заводе я был. В молодости на одном комбинате, помню, дробили и терли мы сплавленный по реке лес, выжимали щелочи, спирт, словом, все соки…
– Спасибо, – перебил Родион. – Понимаю. Только я не боялся сроду любой работы.
– Любой?
– Любой!
– Вот это и плохо, если человек годен на любую работу. Я решил, Родион, весной уехать.
– Уехать… Куда?
– В село. В деревню. В глухую деревню. Пенсии мне везде сполна хватит. А общественная работа моя там будет нужнее. Заодно и сам еще кое-чему поучусь у людей. На земле поработаю. Мне что? Мне доживать. Но и дожить надо со смыслом!..
Если же хочешь знать, директор был прав, переводя тебя к нам. И Сипов был прав. Обе стороны были правы. Ты подумай как-нибудь наедине. Подумай. И ты прав. Все здесь правы. Люди ближе и ближе к доступному. Ну а потом, что дальше? Существует предел всему. У тебя нет квартиры? Да, нет. Но однажды все это будет. И как поведешь ты себя потом, после этого? Успокоение – это не путь к счастью.
К столику подошел директор:
– Алексей Алексеевич, а не засиделся ли ты? Нам вроде бы в одну сторону. Поедем-ка?!
– Поедем.
Горликов как-то охотно и разом поднялся и направился с директором к выходу. Во дворе он остановился:
– Петр Сергеевич, зайдем к тебе. А то ведь скоро на пенсию уйду, так и не поговорим с тобой по душам.
– Что ж, в конце года человеку положено говорить о прожитом.
– А в конце жизни – и подавно.
Они прошли сквозь снежную улицу к заводоуправлению, поднялись в директорский кабинет. Уселись.
– Ты знаешь, что мне не все равно, кто после меня останется, – начал Горликов.
– Надо думать.
– Именно думать! Иначе…
– Что иначе?
– Даже такие старательные и правдивые натуры, как ты – потеряют авторитет.
– Это почему же?
– Опираясь на Сиповых. Заручаясь ими.
– Это первое?
– Да. Это первое.
– Перестаньте, Алексей Алексеевич! Сипов да Сипов! Он работник, понимаете, раа-абот-ник!
Горликов положил осторожно свою руку поверх директорской:
– Извини, но это толкач! Прежде всего.
– Допустим. Нужны и такие.
– Я не корю тебя, Петр Сергеевич пойми! Я делюсь как товарищ нелегким собственным опытом. И горькой, я бы сказал, полынной этакой мудростью. Хочу, чтоб ее горечь хотя бы немножко коснулась бы и тебя. Что с того, что ты директор, если за цифрами не разглядишь душу. К молодым тянись, к их помыслам. Это есть в тебе. Хороших парней набрал. Но и без толкачей не обошелся. Ах, да что говорить!..
Горликов поднес к глазам руку.
Лицо директора посуровело, отяжелело, осунулось.
– Верно ты говоришь, – вздохнул он. – Только сказал поздновато. Не встретился мне такой человек раньше.
– К молодежи, к ней ближе. Ты это умеешь. Давай ей ход, верь в нее, чтоб и она это чувствовала. Сразу легче пойдет все. Тогда и толкачи тебе не понадобятся.
– Ты хочешь, чтобы я с ним расстался? С Сиповым?
– Я хочу, чтобы вы расстались, если так громко можно выразиться, с сиповщиной. Никак не пойму… Ведь хорошо, замечательно, что ты, когда пошел к нам, – молодых рабочих за собой позвал. Хороших парней набрал, бывших солдат, в армии прошли закалку. Ну а Сипов, зачем Сипов за тобой уволокся? Что это за хвост?
– Да, хвост, это верно. – Директор подошел к окну, долго смотрел в темноту. – Надо рубить хвост. Атавизмом это называется. Ты не думай, я кое-что понял, не без твоей науки, не без науки рабочих. Я специально поставил для себя психологическую задачу: разберись, почему рабочие невзлюбили Сипова. В сущности, не такая и трудная задача. Гораздо сложнее понять, за что я его ценил? Хороший толкач? Умеет, особенно в дни штурмовщины, добиться своего? Да, для штурмовщины он был подходящий человек, и то не совсем. Там ведь тоже душа нужна. А речь идет о том, чтобы штурмовщину изжить, а душу оставить. Вот почему Сипов должен уйти, а ты остаться…
– Что ж, Петр Сергеевич, я подумаю. А сейчас, если разрешишь, я пойду. Мне сегодня еще предстоит разговор с одним очень нужным мне человеком. С бывшим другом…
– С бывшим?
– Да.
– Вернуть хочешь?
– Сделаю все возможное.
– Удачи тебе, Алексей Алексеевич. А Сипов мне далеко не друг…
– Важно понять, что он вам в чем-то был врагом.
Директор подошел к Горликову, поправил его галстук.
– За прямоту спасибо, Алексей Алексеевич. Большое спасибо.
Они сидели допоздна в огромном директорском кабинете. Было грустно и тяжело от понимания друг друга.
Вдвоем они и пошли домой по предновогодней метели.
* * *
Родион был один. Мог все осмыслить за этот вечер, взвесить. Пришли тишина и сумерки. Думалось о Штареве, Горликове… Великий Чехов изрек: «Счастья нет и не может быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном…»
Больше счастливых – больше доброты в мире.
Быстро, однако, запомнилось это вычитанное. Но несмотря на это, никогда не давало оно прямого ответа, точного заключения – в чем были счастье, цель, радость. Оно просто заставляло об этом думать. Одни счастье ловят, другие – всю жизнь идут к нему. И нет конца пути этому. Может, в том и состоит оно, счастье, чтобы всю жизнь идти, всю жизнь искать его.
Пора было вставать, выходить на улицу, звонить Лариске. Оставаться в буфете не имело смысла. Вокруг нарастали шум и галдеж.
Несколько минут всего удалось Родиону посидеть одному. Легонько пошатываясь и извиняясь, к столику подошел, а потом и присел Агафончик.
– Не выпьешь? – спросил он.
– Не выпью.
– Со мной не хочешь?
– Вообще не хочу.
– Сложное, Родион, у тебя было лето. Ты прости меня. Прости, Родион!..
Родион опешил. Не знал, что и говорить: Агафончик просил прощения – за что?
– Не переживай за меня, – сказал он. – Не переживай! Считай, залетела горячая стружка. Ну обожгла, рубец оставила. И теперь ее можно вытряхнуть. Я ее, Агафонов, если хочешь знать, вытряхнул. Давно вытряхнул.
– Родион, зови меня просто.
– Как?
– Сергей. Просто Сергей.
– Ладно, Серега.
– Знаешь, давно хотел признаться тебе. Еще в раздевалке. Помнишь то утро, когда говорили о футболе. Я не думал, что Сипов пойдет к директору. Я одному ему сказал. И все. И больше никому. Разве знал я, что так получится. А Сипов – взял и сказал директору…
– Да о чем ты?
– Я видел, как брали стаканы. Видел, куда пошли. И сказал Сипову. Он все. Дурак я, ребята, дурак! Это Сипов. Он предупреждал меня и о каждом рейде по цеху. И я успевал убрать брак. Носил в пожарный ящик с песком, а когда утихало – в бак большой опускал. Думал, навсегда хороню. Это мои были детали. Их позже нашли в цистерне. Сказали Сипову. Но он замял дело. Я знал, точно знал, что ты догадываешься. Боялся, что ты пойдешь и расскажешь. А ты не сказал, спасибо тебе. – Агафончик всхлипнул. – За квартиру спасибо. Пойдем к нам прямо сейчас?!
– Лучше на новоселье. Или уже было?
– Будет. Обязательно приходи. Дурак, ох дурак же я был. Привык к этому Сипову. И жизни другой не знал. И не умел оставаться один в ней, куда Сипов, туда и я… Все делал как ему лучше. Я ребятам только что рассказал. Простили. И ты прости.
– Желаю тебе, Серега, добра так же, как и желал. Знаешь, что тебе мешало получить квартиру?
– Ну?
– То, что ты уходил, увольнялся часто.
– Спасибо. Может, и так. А правда, Родион, что после каждой болезни внутри человека остаются рубчики? Это мне жена говорила.
Родион рассмеялся:
– Если бы видел, – сказал бы! Пойду я. Ждут. Счастливо оставаться!
– А ты знаешь, почему я признался тебе? – спросил торопливо Агафончик, наклоняясь поближе к лицу Родиона. – Уж больно честный ты парень, светишься как-то. Хорошо светишься. Гонору нет, зато честь есть, честь все в тебе чувствуют. Ну и я тоже почувствовал… Не думай, что я уж такой… Агафончик, и все. Я хочу быть Сергеем Александровичем Агафоновым.
– Если хочешь, значит, будешь, – уже примирительно сказал Родион. – Все. Устал. Пойду домой.
На улице падало, кружило, мело и мело снегом.
Время от времени Родион опускал в карман пиджака руку, шарил там, комкая и перебирая рубли и монеты, пока не находил, не нащупывал среди них детальку – небольшой кусочек металла с отколотым основанием. Теперь-то он понимал, почему замялось дело с деталями. Агафончик мог бы сознаться. И тогда Сипову непоздоровилось бы.
Однажды Родион видел девчушку, пытавшуюся поймать в сачок мотылька. Не так ли и взрослые по-детски пытаются иногда поймать свое счастье. Каждый один раз в жизни ловит его подобно ребенку.
Сжимал в руке Родион детальку – до судорог, до хруста пальцев, пока металл не врезался, пока не становилось вдруг больно. Сама собой рука разжималась тогда и, не успев отойти, вновь сжимала ставший теплым обломок с отколотым основанием. Высокие дни… Сколько их было и сколько еще будет в жизни. Ни счастью, ни радости без них не бывать.
Он шел сейчас с обломком детали к телефонной будке. Шел сказать Лариске лишь несколько слов, – о том, что всегда надо откликаться на зов о помощи, всегда надо верить ему.
И все забыть, все оставить, пока слышится тебе этот зов.
КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ
Красные пометки
Уходя, он так яростно, громко хлопнул дверью, что посыпалась штукатурка, а с ней и все, что было нажито, прочувствовано и как-то все же устроено…
Хорошо начинать жизнь сначала только в мечтаниях. Сама же она, реальная, движущаяся по своим, не всегда и известным тебе законам, может и не прислушаться к стуку одного человеческого сердца, и поступить даже наперекор ему.
На родине неторопливо и обстоятельно обходил он в этот раз городище: нетронутая густая трава, папоротник, иван-чай… Ровная же гладкая площадка с лужайкой представляла собой середину городища. Именно здесь, по преданию, некогда стояла небольшая церковь, которая будто бы в момент богослужения провалилась «сквозь землю», полная молящегося народу. И еще долго вроде бы слышалось из-под земли глухое церковное пение. Жившая в деревне бабка Филена, по рассказам односельчан, бегала девчонкой сюда, чтобы лечь с другими ребятишками на землю и чутко, с нетерпением вслушиваться: что там, под землею, по ту сторону света. По словам самой бабки, «не единожды» слыхивала она подземные голоса, крестясь после и ужасаясь своим воспоминаниям.
Церковная легенда волновала Григория Одинцова, и почудилось ему, стоящему на краю городища, что и в его собственной жизни оборвалось, рухнуло нечто серьезное, способное ровно бы на молитву, гревшее прежде душу и укреплявшее ее на радость и оптимизм. Что-то провалилось теперь в самой же душе, опрокинулось в невозвратное, навсегда будто ушедшее.
Кончилась между ним и Алиной любовь, и он перестал думать о жене как о единственной и прекрасной женщине. «Любовь есть сон, а сон – одно мгновенье, и должен же когда-нибудь проснуться человек», – вспомнились грустноватые тютчевские прозрения. Но здесь, на городище, думалось только о возвышенном, четко разделявшем суетный быт и вечную философию сошедшего с лица земли прошлого, оплодотворенного зовом предков и будущего.
Ушло, казалось, чувство к Алине, и нет ни его продолжения, ни отражения, ни обновления… И что делать с потраченными годами и что – с будущими, отведенными для осознания поступков и полноты жизни?
Перед глазами на фоне реки и огромной осенней родины возникло внезапно лицо Алины, как бы молчанием вопрошавшей: «Ну что, брат, как будем жить дальше?» Осень отгорала, лес заметно темнел, река гляделась скучной, как и прошлая их с Алиной жизнь. Вдобавок зарядил затяжной дождь, совсем стало невмоготу, и Одинцов, вместо дома, вдруг направился в местную сельскую библиотеку, куда постоянно захаживал еще будучи школьником. Библиотека в добротном здании сельсовета поманила его и сейчас.
Сиротливо стоял с краю полки голубоватый пятитомник Бунина, изданный когда еще Одинцов был юношей. Он взял в руки последний том, прочел алфавитный указатель – и целое море благородства, изящества, человеческого обаяния нахлынуло на него: последнее свидание, последняя осень, редкие встречи, и ветер, и дождь, и мгла, как были они сейчас созвучны его душе, ушедшего, убежавшего от жены человека!.. Хотелось скорее остаться наедине с книгой, и он заторопился домой.
Поставил на электрическую плитку чайник, сел за небольшой с вытершейся краской стол, за которым когда-то делал уроки, и принялся за чтение.
Воспоминания Бунина о Льве Николаевиче Толстом…
На полях книги – пометки-галочки, проставленные хорошо отточенным красным карандашом и заметно выцветшие от времени. Сколько лет им? Судя по всему, неведомый читатель находил для себя в воспоминаниях нечто родное, созвучное, захватившее его мысль и воображение. Иначе как могла бы рука потянуться к карандашу?
И еще подумалось: откуда бы в его деревне взяться такому вдумчивому, взыскательному читателю?.. Пометины красным карандашом подчеркивали наиболее важное, как раз то, что в последние дни и волновало Одинцова.
Например, отметка против суждения Бунина о непреходящем детстве в каждом воспитывающем себя человеке: «Вообще, то прекрасное, что я встречал в детстве, отрочестве, молодости, кажется, никогда не удивляло меня – напротив, у меня было такое чувство, точно узнал его уже давно, так что мне оставалось только радоваться встрече с ним». Одинцову показалось понятным и близким это состояние непреходящей духовной наполненности.
Неведомый читатель задумывался о бессмертности прекрасного, а как понять красоту, если никого не любить, если думать, что все женщины одинаково далеки и безразличны? Красная галочка как бы летела и на сокровенную мысль Толстого: «Смерти нету! Смерти нету!» Но более всего взволновала Одинцова отметина на странице, где шел рассказ о встрече двух великих писателей, когда Толстой спрашивал еще молодого Бунина:
«– Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда».
Нечто очень далекое и знакомое мелькнуло разом в сознании после этих слов, будто стоял теперь Одинцов перед человеком, с которым когда-то встречался, и вдруг не может никак признать… Красные отметины зарябили в глазах, сердце же всколыхнулось незнакомой радостью, и Одинцов на весь дом воскликнул:
– Бог ты мой! Да ведь это мои пометки, мои школьные царапины!
Красные пометины на полях бунинской книги оставил в юности он, обдумывающий бытие! Уже тогда интересовал его смысл жизни, коренные ее вопросы. Вспомнилось и то, как поразился он в ранней молодости толстовском мысли о том, что свою единственную никогда нельзя оставлять одну. «С любимыми не расставайтесь…» – неожиданно мелькнула в уме строчка из другого, советского уже писателя, возможно пришедшая от мысли Толстого.
Вот она, непреходящая истина, а стало быть, и красота. Мог ли Одинцов сейчас честно ответить себе: все ли сделал по совести, чтобы не оставлять Алину, не спасовал ли он, сегодняшний отпускник, перед юностью м началом молодости, когда в руках-то ничего и не было, кроме этой вот книги и красного карандаша?
Еще раз прочел он воспоминания и заново как бы прошел дорогой своего далекого духовного поиска, еще раз представил себя – того, чистого, совестливого, мечтающего о гармонии жизни, ждущего великой всеобъятной любви, на которую был способен.
Куда же все подевалось? Почему исчезло во времени, стерлось бытом и суетой, мелочными уколами жизненных обстоятельств? Огромная махина времени будто подмяла его, сделала раздражительным, невнятным, чрезмерно рассудочным.
Юношей в своем духовном поиске он ушел дальше, значительно дальше, нежели теперь, не сумевший подняться над обыкновенной семейной неприятностью…
Красные пометины своими живыми, искренними голосами разбудили его и силой крепнущих воспоминаний, укоров и прозрений подтолкнули к мысли о том, что жизнь и счастье его, как и определяющее «место под солнцем», в основном зависят от его с Алиной умения жить и любить. И в этом умении, в этом искусстве непреходяща и его роль.
За своим школьным давним столом Одинцов снова и снова перечитывал томик, ставя невольно новые галочки там, где открывалось близкое и волнующее.
И словно бы тоже участвовал в разговоре двух великих писателей.