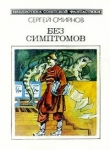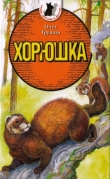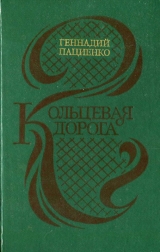
Текст книги "Кольцевая дорога (сборник)"
Автор книги: Геннадий Пациенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Оставалась бабка Максимиха. Посвечивая фонариком, Степка потрусил к ее дому. Постучал.
– Кто там? – спросила не сразу.
– Это я, бабка.
– А кто ты?
«Признавать, старая, не хочет», – подумал Степка с обидой.
– Да я это! Степка Ефимихин.
– Нет у меня, Степочка, ни бутылочки, ни наперсточка.
– Да при чем тут бутылочки? Я по делу!
– По какому? – отворив дверь, спросила Максимиха. – Гляди, о притолоку не стукнись.
Дом ее был словно пустое в голом лесу гнездо. Крыша протекала, весь он осел и как будто согнулся от времени вместе с хозяйкой. Под окном шумела береза, лепила мокрой листвой в оконные стекла. На стене тускло вырисовывались рамки с фотографиями.
– Помоги, бабка, с коровой неладно… Хотел выдоить молоко на пол, да почему-то не удалось.
– Господь с тобой, Степочка. Грех-то какой – доить на пол!
– Ну, заладила. Не надо мне молока. Сроду не пил.
– В сенях-то у вас ведерко малированное стоит. В него и подои, а я маслица собью.
– Не надо мне его!
– Так уж и не надо? Иди подои в ведро. Корову загубишь.
– Лучше сама сходи. Я дров потом привезу.
– Ну да… ну да, – без обиды вздыхала бабка Максимиха. – сам попробуй… – И спросила: – Что-то давно не видать тебя?
– Дел полно.
– Надумал, поди, что?
– Трактор ремонтирую.
– А я решила – Мать вспомнил.
– Я мать и не забывал, – сказал Степка со сдержанностью в голосе.
– Забыл, Степочка, забыл, – вздохнула бабка Максимиха. – Сорок-то дней не прошло, а уж забыл.
Слова ее разозлили Степку. И он выпалил, что это его личное дело и пусть оно бабку не волнует.
– Как же не волноваться, Степочка? Как же не волноваться-то… Родную-ю мать помянуть надо… – Бабка говорила не переставая.
Степка же мигом сообразил, представил с отчетливой ясностью, что в глазах бабки он остался пока что «выпивохой», «каголиком». И что бы он сейчас ни говорил, ни возражал, как бы ни спорил – бабка про каждый день его знает, каждый день взвешивает. И от этой, только что пришедшей догадки в нем закипела, забилась решимость. За живое задетый, он молча шагнул за порог.
Обижаться на Максимиху, конечно, не следовало: на горе да на беду старуха непременно пошла бы. Самый близкий человек после матери. Значит, понимала – ничего серьезного с коровой нет.
Отыскав в сенях подойник и перевернув его, чтоб дождь не накапал, Степка пошел в хлев. Снова устроился, примостился подле коровы. Потянул несколько раз за соски, и белая струя с тугим звоном ударила в днище. Корова стояла притихшая. И Степка враз догадался: всю жизнь мать доила ее только в подойник, и корова привыкла к звуку струи о дно. Парное теплое молоко пробудило в нем голод, как когда-то вынутый из печи материнский хлеб.
Пожалуй, два существа, он да корова, сильнее других скорбели сейчас о матери. Им не хватало ее.
* * *
Угрюмые тучи утром ползли почти по крышам. В саду ветер сломал яблоневый сук, положил в палисаднике георгины с уцелевшими бело-красными на макушке цветами. На соседней опустевшей усадьбе сломало ветлу – старое толстое дерево. Давным-давно перебрались соседи куда-то. После их отъезда дом Степки оказался на улице крайним.
Улица была не из самых длинных: десятка два домов наберется. Но уезжали с нее, казалось, чаще, чем с других, отчего она становилась год от года короче. Место, где жили соседи, перешло под выгон. Ветла была последней приметой бывшего подворья. Но вот и ее не стало…
Степка редко топил печь. Завтракал, обедал и ужинал где доводилось. Сегодня затопил печь и сделал себе яичницу. И это было первым делом, которым он начинал день.
После завтрака взялся тесать во дворе высокие колышки. Воткнул их в землю, пообочь цветов, потом поднимал кусты и привязывал, как это делала прежде мать, прижимал куст к колышку. Выпрямлял. Так простоят георгины до заморозков. Мать частенько срезала их ножницами, добавляла мяты и ставила в стеклянной банке на крышку приемника.
Бабка Максимиха плелась по воду, из-под платка поглядела в сторону Степки: что-то делает? Из трубы избенки ее тянуло густым дымком, стелющимся по-над крышей – сырой ольхой топила. «Надо бы ей заранее нарубить дровишек, пусть бы сохли, а там и трактором привезти можно», – невольно пожалел Степка Максимиху.
Бабка поставила ведра, завернула к его дому. Прошла в избу, ничего не сказав, не спросив о корове. Она процедила молоко, разлила его по крынкам, вымыла, подмела, словом, доделала то, что обычно не успевал Степка, спеша к трактору. Так же молча и вышла Максимиха. Пока же она была в доме, Степке казалось, что бабка все время о чем-то думает, и то, что она в доме делает – только помогает ее неторопким раздумьям. И когда она на него посмотрела, Степка весь напрягся. Бабка и мать были подругами, многое одна от другой переняли. И он насторожился.
– Я денег тебе, Степочка, принесла, – спокойно сказала она. – Вот. Мне, Степочка, не к спеху. Ты только похорони меня, как умру. Больше-то некому. Этим и вернешь долг.
Степка опешил. Его выручала старая одинокая Максимиха. Он знал, что она сберегала, откладывала по рублю на свои похороны от пенсии, только эти деньги и были у нее. Бабка Максимиха ему верила, как поверила сорок дней назад мать. Помянуть человека, чтобы не был забыт он сразу, – для бабки было вековечным смыслом и долгом, ради которого все на время уходило на второй план.
– Спасибо, – проговорил обескураженно Степка. Отказаться от услуги Максимихи, пренебречь ее святой добротой – означало обидеть старуху. – Я обязательно верну. Обязательно!
Степка отнес деньги и положил их под крышку приемника. Когда вернулся в палисадник, у калитки ждал его Лешка-сосед. Степка продолжал проворно обтесывать колышки.
– Цветы, что ли, продавать думаешь? – не выдержал Лешка.
– Купи.
– Сено купил бы.
– Я и цветы тебе не продам.
– Это почему? – насторожился Лешка.
– Пригодятся… – сказал Степка загадочно.
– Да я в шутку. Не серчай! Пришел сказать тебе. Вчера Зойку видел в городе. Передавала, что утром сегодня будет. Насчет поминок поговорить хочет.
Лешка предлагал продать сено не зря: выведывал, собирается ли Степка уехать. Потерять в колхозе работника, и не какого-нибудь, а механизатора – дело не шуточное. Хотя и славился Лешка как любитель выпить, однако вел хозяйство исправно. После бражничания умудрялся купить то ружье, то лодку, то просто разные мелочи, годные при умелых руках в домашнем хозяйстве. Ни ячмень, ни рожь на своем огороде не сеял.
– Трактор-то скоро пригонишь? – спросил он.
– За дровами тебе?
– Калым есть.
– Обойдутся без трактора!
– Как сказать… Машина – она всегда нужна. Лучше меня знаешь. – Лешка посмотрел на дорогу. – А ветлой могло крышу твою задеть. Толстая больно – с дуплом. На нашей улице завсегда что-нибудь ветер ломает. Летось на моей березе макушку хрястнул, теперь вот – ветлу. На тех улицах все ветлы целы. Лип, дубов много. На себя ветер берут. Только так, иначе бы все перекрошило. Удачно упала ветла. На улицу. Трактором бы ее зацепить, отволочь: к твоей калитке не подойти теперь, не подъехать. Судьба наша тоже, как эта ветла. Живешь, а что внутри тебя – не знаешь, пока не схватит…
Лешка говорил и не мог понять, что сделало сегодня Степку не таким, как всегда. Слушал и как будто не замечал Лешку: следовало подаваться куда-то в другое место. Лешка заторопился к магазину. Болела голова – состояние хорошо Степке знакомое.
– Знаешь, приходи-ка в субботу ко мне, – сказал он. – И лучше всем семейством.
– Это зачем?
– Мать поминать будем.
– Ты всерьез? – с явной почтительностью проговорил Лешка.
– Ну а как еще!
Лешка преобразился:
– Имей в виду – Много будет.
– Вряд ли.
Почему это вряд ли?
– На кладбище шло не густо.
– Чудак, тогда не до похорон было. Уборка, то да се – хватали, пока погода. А сейчас придут. Мне-то лучше знать. Готовить на стол кого позовешь?
– Бабку Максимиху. Зойка приедет.
– Если посуды не хватит, у нас взять можешь. Далеко не ходи, – как-то сразу перешел Лешка на деловой тон. – Достанем, найдем что надо.
К магазину, конечно, Лешка не направился: скрылся у себя в доме, чтобы поведать жене о предстоящих поминках. А уж через ту деревня мигом узнает.
Степка с ножовкой в руке взялся распиливать поваленную поперек улицы ветлу. Сломанное дерево высилось возом опрокинутого сухого сена. Степка пилил ее – последнюю память соседей. Расчищал дорогу.
Пилил, пока незаметно не подошла к нему прямо с поезда Зойка. Он не видел, как появилась она и стала подле ветлы, удивленная хлопотливостью брата, ожидая, когда он сам заметит ее. Степка оторвался, поздоровался.
– Ну, как тут у тебя, Степа?
– Все нормально.
– На два дня вырвалась. Не отпускали. Говорят, что там поминать – не воротишь. А я отвечаю им: верно, не воротишь; мы с братом да с соседями не столько поминать намерены, сколько сравнить себя с матерью, с ее жизнью. Может, отвечаю, для того и еду, чтобы свою жизнь понять лучше. Для человека не безразлично, что будут думать о нем после смерти. Выслушали. Отпустили.
Степка не вставлял своего слова, не поддакивал, воспринимал все с какой-то горестно-тихой сосредоточенностью. Сестра же торопилась выговориться, выложить, что назрело у нее в суетливой жизни и что не терпелось высказать, пока шла она ранней дорогой с поезда.
– Может, с утра в магазин сходим, – говорила она, – пригласим людей, пока на работу не разошлись. Денег, Степа, я с собой привезла немного. Как у тебя?
– Мать же оставляла, – спокойно ответил Степка. – В доме лежат.
И принялся допиливать ветлу, освобождая дорогу, что вела на большак, в даль, за деревню.
Соловьи под дождем
– Ты знаешь, – говорил старший, укрывая от дождя голову куском полиэтиленовой пленки, – ты знаешь, когда я в этих местах учительствовал, мне рассказали об удивительном свойстве наших берез. До сих пор не пойму, чем и объяснить это. Деревенские пастухи не раз подтверждали его.
– А что это за свойство? – спросил, не утерпев, младший.
– Когда приходится попадать в такие вот ситуации, как мы с тобой, надо искать березу. Недавно прочитал одно стихотворение, вот послушай:
Увидишь: дым курится над сосной,
Поникнул тополь, рухнул дуб могучий,
Березку ж гром обходит стороной,
И молния не бьет ее из тучи.
– Слышишь, «молния не бьет ее из тучи»?!
Дождь хлестал по лицу младшего грибника, удивленного тем, что узнал и услышал он от своего друга. Пораженный, стоял под дождем, забыв о лежащем в корзине берете, который взял в лес на всякий случай.
– Ну, что смотришь, что стоишь? – прокричал ему весело старший. – Давай искать ее, нашу красавицу – березку. Под ней-то надо и переждать нам грозу.
– А может, назад к косарям пойти? – неуверенно предложил младший.
– До них далековато. На нас нитки сухой не будет!
Они окидывали взглядом местность, вертели головами и всюду натыкались глазами на одинаковый, густо сросшийся орешник. Ни в поле, ни над кустарниками не возвышались вблизи березы. Сверху косыми струями хлестал дождь, небо озарялось грозовыми вспышками, то самое небо, которое еще недавно было для грибников ясным и чистым.
Они вышли из дома утром. То один, то второй повторял: «Какой день! Какой день!..» И долго никто не встречался им. Никто, казалось, и не живет здесь и никогда не жил. И тем неожиданнее было увидеть вблизи дороги, на лесной поляне, избенку, вовсе не похожую на лесничью сторожку. Из трубы тянулся ровно и тонко дым, жерди и бревна подпирали стены, старая крыша – будто шляпа с обвислыми полями.
Собачонка с белым подгрудком залаяла на голоса грибников, и тотчас же из-за ограды выглянула пожилая женщина с низко опущенным на лоб темным платком, в поношенной серой юбке и старом мужском пиджаке. Она задержала недолгий взгляд на чужих и снова принялась за прерванное во дворе дело.
О лесном этом домике грибники знали: в нем жила дочь умершей недавно восьмидесятилетней старухи Башкатихи, не пожелавшей в тридцатые годы переселяться в деревню.
Странным казалось двум приезжим из большого города людям это одиночество, эта заброшенность в лесном краю, где за год, кроме егеря, едва ли появлялся кто. Соток двадцать картошки да грядка лука у дома были единственным здесь богатством. В огороде торчала, как пугало, одетая на колья изношенная одежда.
– Она самогоном живет, – сказал младший. – Я от кого-то слышал: гонит и продает лесникам.
– Если и так, то ей только на хлеб хватает, – рассудил старший. – Лесников здесь – раз-два, и обчелся. Я другое слышал: она грибы солит и в городе продает. Этим вроде кормится, зарабатывает на одежду. Любопытно, как они с матерью в войну уцелели?.. Ведь здесь самое пекло было. Десять месяцев фронт держался.
И оба стали рассуждать, что и до сих пор есть еще на земле подобные глухие уголки, и сколько их – неизвестно: велика Русь…
Сосняк при дороге вскоре сменился сырым олешником: старым, с шершавой корой, обычно растущим вдоль речек. Между сосняком и олешником просматривалась просторно выкошенная делянка. На краю ее виднелось глиной обмазанное, осевшее до земли строение, наполовину скрытое густой лебедой и полынью.
– Прежняя хата Башкатихи, – пояснил седоватый грибник. Исподволь и незаметно он все больше тянулся рассказывать, но умолк, видя у заброшенного жилья незнакомых людей.
Две большие березы да столик под ними наводили на мысль, что и здесь жили когда-то и человек любил посидеть под березами, глядя на летнюю дорогу у дома. Столик был с прогнившими досками вокруг ржавых гвоздей, выбеленный дождями, рядом две жердочки для сиденья.
У дома стояла с поднятыми оглоблями телега с сеном. Малый в солдатских штанах лежал на нем, прикрыв лицо соломенной шляпой и взгромоздив на дробины босые ноги.
Под старыми, уцелевшими с войны березами, за вкопанным столиком сидел лет пятидесяти мужчина в глубоком раздумье. На столе перед ним стояли пустые миски: отобедали косари.
Какая-то мысль осенила мужчину, задержала взгляд, остановила мускулы лица, до черноты загорелого. Она так овладела им, что он не обратил внимания даже на грибников, неловко потоптавшихся почти рядом и затем тихо побредших дальше.
В прохладе болотных зарослей дорогу перебегал ручей, с полугнилыми, разбухшими бревнами и камнями посередине. Судя по сваям, это была когда-то речка, что легко угадывалось и по омуткам, видневшимся кое-где сквозь кусты, а теперь заросла.
В самом ближнем бочажке из воды торчала корзина – «снасть» для карасиной ловли. Поодаль в лесу слышались мальчишечьи голоса, по-видимому, это и были рыбаки. Завидев усевшихся на камнях грибников, мальчишки притихли, явно не расположенные выдавать в глухом месте, в этой текучей, еле заметной лесной воде свою маленькую радость – редкую окрест рыбалку.
Грибники не засиделись, пошли дальше, чтобы не смущать ребятню. За ручьем на сухом взлобке они увидели неподвижно лежащего ужа, с двумя красными крапинками на голове. По легкому движению приподнятой головы можно было понять, что уж жив, но почему-то не переполз людям дорогу: то ли обрадовался им, то ли хитрил, таясь и выжидая.
Пообочь заросшей стеги все чаще стала попадаться земляника. От устоявшихся сухих дней ягода запеклась: земляничный дух – только и можно было сказать о ней. И грибники, оставив корзины, начали собирать ягоды. Они рвали их, обходя поляну за поляной. Было редкое пиршество для обоих. И оба хорошо понимали это.
Лес, земляника, откуда-то возникший в невидимой дали звук грома и, наконец, женские: голоса, кого-то зовущие, совсем раззадорили их, и грибники откликнулись.
На стеге появилась бойкая молодуха.
– Наших тут не видели?
– Какие они из себя, ваши-то? – ответили ей вопросом.
– Да двое мужчин.
– Мужчин видели.
– Где?
– С телегой, у того глиняного дома. – И грибники показали в сторону кустарников.
– Не наши те. Мой муж егерь, а то – косари из лесничества. К мужу сам Сутокин приехал, знаете?
Сутокина они, конечно, не знали, но для семьи егеря Сутокин был, очевидно, фигурой немалой. Это же разделяла и сама женщина, бойкая и разговорчивая, губы и пальцы которой были в чернике.
– Как же не знать Сутокина? Председатель охотнадзора! – И уже, как своим, поведала тише: – приехал на выходной, может, кабанчика, говорит, на шашлычок подстрелим. Забрались сюда, а мой-то возьми да угости, как водится. Так и про кабанов оба забыли. Пойду искать. Ленька-а-а! Степан Иваны-и-и-ич!..
Сворачивая за земляникой, грибники натыкались на взгорьях, заросших лесом, на груды камней, встречали одичалые яблони, островки лип, кленов, но всего больше – сирени и тополя.
Старший, удивляясь, спросил самого себя: откуда взяться тут тополю? И сам же себе ответил, вспомнив, что когда-то жили здесь люди, в километре-полутора друг от друга. И что еще в молодости перед войной хутора кое-где оставались. И камни от фундаментов домов в граве еще замечались, островки деревьев и побеги яблонь-дичков от прежних садов. Грибники угадывали места былых усадеб по выемкам от подвалов, по кустам шиповника, розам и небольшим аллейкам.
И старший, вспомнив, сказал, что в часе ходьбы отсюда за лесом должно быть селение, одно из красивейших до войны мест, славившееся грибами, речкой, мельницей, на которую осенью хуторяне везли на помол урожай. Там же чесали они и шерсть, из-за чего с охотой держали много овец. И что уже когда хутора исчезли, он прожил в этом селении лето, работал в пионерском лагере, будучи в ту пору учителем. И вздыхал, что война изменила здесь жизнь, навела свой «порядок».
– Давай туда сходим, речку посмотрим? – предложил он. – Ах, какая там речка!.. Давай сходим, а? – И они свернули на тропу, еще более заросшую и оттого узкую.
В небе неожиданно громыхнуло, потом сильнее и ближе, но за деревьями, кустами, зарослями небо далеко не просматривалось, и, надеясь, что дождь пройдет стороной, оба грибника шли не спеша в сторону речки. Ветер гнул и мотал деревья, срывал листву, ломал ветви.
По расчетам, до речки уже было немного. Под мостом с мельницей они устроятся и переждут вихрь, дождь – любую непогоду. Старший помнил эти места…
Шумело, колосьями кланялось до земли ржаное поле. Тревожно-синяя туча стороной стремительно продвигалась из-за леса к реке. И пронесется ли она, прольется ли над их головами, или тучу расколошматит вихрь – не угадать сейчас. Ветер и туча сливались воедино.
Со сдерживаемой тревогой грибники продолжали путь, пока не выбрались к речке. И остановились, словно бы не речку увидели, а вышли на погост – к давно умершим… Оба умолкли, слушая, как ветер рвал листья и гнул кустарники.
Речка заросла ряской, пахла тиной. Среди зеленой кипени лета напоминала безнадежно больную. И как больную навестили ее те, кто знал речку веселой, радостной, светлой. Не понять было даже, в какую сторону текла она: маленьким-маленьким водоворотиком билась, наподобие вымученной улыбки, словно говорившей: извините, что таков вид.
А мельница, мост… Их не было. Хотя кое-что сохранилось – по одну и по другую сторону. Уцелели сваи, столбы, соединенные кладкой из двух осиновых бревен и шаткими перилами. Из воды под кустом проглядывали остатки ржавой колючей проволоки, которой, вероятно, перегораживали речку, когда здесь проходила линия фронта в войну. О мельнице же, о шумливом радостном водяном распаде возле нее, о близком плесе, гулком мостке – ничего не напоминало. Увиденное, казалось, привиделось средь белого дня, как случайное недоразумение, как развеянная кем-то мечта.
К месту, где была мельница, вела сейчас выкошенная стега, взамен наезженной широкой дороги, о которой можно было судить по двум выступам от каждого берега с остатками пожеванных временем, водой обглоданных старых бревен. И густые заросли ольхи и лозы сомкнулись и плотно сжали речушку, являя такое запустение, такую забытость, что уже ни косить, ни даже взглянуть здесь вширь было невозможно. Заросли сомкнулись прочно, чтобы их выкорчевать, понадобилось бы много лет. Судя же по заброшенности, приниматься за эту землю было сейчас решительно некому.
Маленькие деревеньки в полтора-два десятка домов, именуемые бригадами, в которых, кроме старух, было по одному-два работника, еле управлялись с колхозным скотом и полями. На много верст одна от другой были эти деревушки, столь далеко, что и в сухую-то летнюю пору, и то лишь в сенокос, появлялись здесь люди. Недолгий стрекот комбайна да гул трактора будили в конце лета и осенью эту мертвую тишину.
Все исчезло, отодвинулось, ушло разом с бывшей мельницей.
– Бог мой! Ручей-то и есть та самая речка, в которой я до войны купался!
И пожилой грибник, словно чего-то испугавшись, сутуло побрел от реки обратно на выкошенную тропу, не переставая сокрушаться и качать головой.
Второй, ничего не говоря, поплелся за ним.
Вернул их к прежнему состоянию мигом обдавший, окативший как следует ливень. Седая голова сокрушавшегося грибника побурела, расчесанная струями ливня. Молодой обогнал его и скорее ринулся в плотную гущу кустов, сел с ходу на корточки, втянув голову в плечи.
Ветер меж тем крутил и заносил струи то сбоку, то спереди, и когда рядом присел и пожилой грибник, они быстро достали со дна хозяйственной сумки прозрачный кусок полиэтилена и подняли над головами, держа за края.
Но вода все-таки попадала за воротник, и скоро оба успели промокнуть.
При каждой вспышке, после которой раздавался удар грома, грибники озирались по сторонам: нет ли рядом высокой заветной березы, и не находили, не видели ничего по-настоящему ствольного, высившегося над глухим кустарником.
Как только ливень ослаб и перешел в ровный, хотя и сыпучий дождик, они выбрались из-под куста и по едва заметной мокрой тропе подались искать лесную дорогу к своей деревне.
Шли, рассуждая, что если бы не свернули они смотреть речку с мельницей, от которой и в помине ничего не осталось, то, возможно, и добрели, попали бы прежде дождя домой. Наверняка поспели бы, утешал себя каждый, хотя внутренне и не очень-то верил в возможность дойти до деревни сухим.
Вокруг светлело, точно по небосводу натягивали огромную прозрачную крышу. Потом светлеть перестало, заметно утихомирилось, и только дождь с устоявшейся равномерностью струил и струил. Колдобины на дороге были полны водой, и грибники, до нитки промокнув, ступали по ней уже без разбора.
Они миновали участок лесного хозяйства, где от войны не уцелело никакого леса, те же редкие ясени, дубки, березы, а больше лоза и ольшаник, относилось к лесничеству скорее по давнему правилу. Охранять здесь пока было нечего.
Когда грибники вышли в поле, увидели покрытые муравой две дорожные развилки. Пошли вправо. В прежние годы этой тропки не было, ее, вероятно, проложили сквозь кустарники как прямой, более близкий путь трактористы.
Грибники несли пустые корзины и рассуждали, что прошедшие до этого небольшие дожди не могли напоить землю, а потому и за грибами они пошли рано.
Путаясь ногами в мокрой мураве, задевая плечами ветви кустарников, осыпаемые дождем и капелью с деревьев, промокшие и продрогшие, они понуро глядели то под ноги, то вперед на незнакомую им округу.
Время шло, а «прямая» дорога что-то и в самом деле не появлялась. Кругом были трава, мокрые одинаковые кусты и дождем наполненные две тележные колеи. Теперь, спустя время, оба не сомневались, что свернули они не туда, «не в ту степь».
И когда наконец вышли из зарослей, сразу поняли, что расстояние до деревни удлинилось: кустарниковая дорога пошла по наезженной глинистой насыпи, где ноги скользили и расползались.
Они пошагали в сторону своей деревушки. Дорогу, настолько изъезженную и разбитую, мог потерять теперь разве что абсолютно незрячий.
Уже от деревни, разметавшейся на раздольном пригорке, оглянулись назад и увидели как некое диво: солнечную полоску неба за лесом. Дождь почти прекратился.
– Это ничего – до нитки раз вымокнуть, – рассуждал младший. – Это даже полезно…
Пожилой соглашался, говоря, что после такого случая недолго и простудиться. И мокрые, они прошли по уличным лужам к знакомым избам.
Сияло закатное солнце. Ничего не нарушало устоявшегося после дождя сырого тихого вечера. Влажный воздух казался парным.
Грибники были односельчанами, но жили в столице. И когда в зимнюю пору младший позвонил своему другу и они встретились, оба первым делом заговорили о минувшем лете.
– А помнишь большие березы у дома Башкатихи? – сказал седой.
– Конечно!
– Что-то все-таки было в них… Ей-богу было что-то в том грибном дне и покинутых старых березах. Ну, такое, как бы тебе сказать… – морщил он лоб и щелкал пальцами, – что-то… – И, не находя точных слов, он мучился и напрягался.
Молодой же сидел, слушал и, как бы очнувшись, вдруг встрепенулся и, вспомнив, сказал:
– А мне слышались тогда соловьи, поздние соловьи, под дождем, певшие в тех уцелевших старых березах. Я совсем забыл, честное слово, когда шли мимо, я отчетливо слышал соловьиное пение!
– А я что-то не помню.
– Ручаюсь, что в тот раз соловьи пели. Ручаюсь! И как еще пели!
И он начал подражать, щелкать языком, и присвистывать, и даже цокать, отчего оба рассмеялись.
Потом же, на время притихнув, вдруг задумались – каждый о своем.