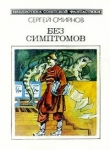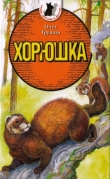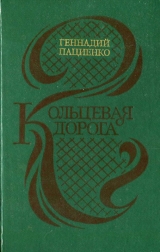
Текст книги "Кольцевая дорога (сборник)"
Автор книги: Геннадий Пациенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Так вот, Родион. Ни одна липа там не растет как вздумается. Их непременно обрежут, завяжут или там отпилят верхушку, залепят, словом, заставят расти, как это необходимо.
Дементий был в майке, вернее, в голубой тенниске. Он убеждал Родиона в том, чего, по-видимому, толком не понимал и сам, что-то он сегодня не договаривал, скрывал, чего боялся сам… Он явно не хотел, чтобы Родион себя отстаивал. А возможно, и затевал он нечто, о чем не хотел прежде времени говорить. Такое водилось в характере Дементия.
Кто хоть однажды работал в цехе, тому хорошо ведомо, как от нечаянно кинутого взгляда на замершее за окном дальнее облако, от взгляда на почерневшую от непогоды тучу, на веселую во дворе возню воробьев появляется желание оказаться тотчас где-нибудь на лугу, обновить душу… Желание это приходит, когда долго-долго не видишь простора неба, зеленых далей, озерной волны либо дымно-белого облака…
Камень, железо, асфальт, гул да грохот делают душу усталой. Как необходим отдых усталым рукам, телу, голове, глазу, так необходим и душе он. В луговой отстоявшейся тишине стройнее выглядят тогда и разрозненно бродящие мысли.
Родион молчал, а Дементий был занят куревом. От столовой направился к ним Горликов. Дементий сразу заторопился, начал прощаться.
Мастер шел к Родиону, желая что-то сказать. А что? Стружек и невывезенного мусора Родион не оставил. Приходил и уходил каждый раз вовремя. Поводов для нареканий не давал, да и не стремился к ним мастер.
– Убегать, поди, собираешься? – спросил Горликов, вероятно полагая, что у Родиона с Дементием как раз и шла речь об этом.
– С чего бы, Алексей Алексеевич, – спокойно ответил ему Родион.
– Мало ли с чего. Посмотрел я на тебя не так либо работу не по душе дал. – Мастер говорил и медленно двигался меж рядами станков. Шел к своему столику. Родион – следом, не зная: идти, остаться ли. Горликов махнул: иди, мол.
– Нужен мне позарез человек, – сказал он. Родион подумал, что надо где-то что-то срочно убрать, передвинуть, переставить, вывезти, и заявил, что он готов пойти сделать что надо.
Мастер же почему-то не торопился, тянул, снимая с крючка халат. Надел халат, посмотрел некоторое время в глаза Родиону, словно соображал, прикидывал, что за парень появился в его цеху, способен ли он на более важное дело, чем катать тачку.
– Тут нам привезли станок один. Надо расконсервировать. А потом… поставить кого-то работать к нему. Во-о-он, – показал он рукой на токарный универсал. – Пойдешь?
Незнаком с таким.
– Дело – лучший учитель, – сказал Горликов. – Была бы охота. Так как, согласен?
– Здесь, Алексей Алексеевич, надо доучиваться.
– Научим! – Горликов подошел к такого же типа станку, попросил Родиона подать заготовку. – Смотри, как надо ее крепить. Теперь подводишь. Ставишь скорость. У вас там скорости постоянные?
– Да.
– Здесь же на каждую операцию своя. Включаешь.
Особой сложности Родион не заметил. В общем-то все понятно, если вникнуть. И в наладке и в чертежах – ничего особенного. На полуавтомате еще не токарь, полуавтомат многое за тебя делает. Родион не без зависти смотрел на тех, кто работал здесь. Что он мог? Быть старшим, куда пошлют?
Подивилась бы Лариска, увидев его за таким станком, – еще как подивилась бы. Хотя и уверял Горликов, что дело несложное, но Родион-то знал: несложно потому, что прежде работал на схожем станке. А поставь-ка на такой станок новичка – долго потеть придется.
– Так как? – спросил Горликов, видя его замешательство.
– Спасибо. Только кто же отменит приказ директорский?
– А его и отменять не надо.
– То есть как не надо?
– А так. Буду закрывать тебе наряды как токарю. Посдельно, пока срок твой не кончится.
– Дайте подумать.
– Подумай. Скажешь погодя.
– Ладно, Алексей Алексеевич.
Сердце Родиона радостно забилось. Стать за настоящий, новый, универсальный токарный – лучше не придумаешь. Вот нос утер бы!.. Сердце ровнее забилось: надо еще, чтобы никто не знал, что стоит он за этим универсальным токарным, иначе… попадет и ему, и старику Горликову. А узнают. Все равно узнают. Не Сипов, так кто другой пронюхает – хуже наделаешь. Найти бы мудрую голову для совета. Рассказать про разговор с мастером…
Тем временем Горликов сел за конторский свой стол, подписал несколько нарядов – день к концу близился, отложил ручку, позвал опять Родиона:
– Забыл сказать, – мастер улыбался, видя впавшего в раздумье Родиона. – Задание тебе на завтра. Рядом с прежним цехом твоим есть куб, то бишь бак масляный. Надо его перевезти подъемником сюда. Будем из него заливать в станки масло. Ясно?
– Ясно-то ясно, да куб тот механического цеха.
– Теперь наш, а им – новый. Мы ведь ремонтники, нам и старенькое сгодится. Понял?
– Как не понять.
– Только сделайте это с утра. Меня не ищите – буду на дирекции
* * *
Поспорил с Сиповым – и уже неуверенность, боязнь дать повод придраться, и вот удивительно – как ни остерегайся, а рано или поздно – оступишься, придерется Сипов.
Знает об этом и он, помнит, кто и когда был с ним резок, знает, будешь ходить оглядываясь. Дело само по себе прошлое, пустяковое, а до сих пор покоя не давало.
…Стояла в разгаре весна. Вылущивались тополиные почки, и асфальт в городе был усеян их прилипчивой чешуей. Устоялись надолго яркое солнце и ситец неба. Метался ветер, подхватывал тополиную чешую, кружил стрекозьими крыльями, заносил в окна цеха.
В полночь в такое время особенно почему-то душно. К рассвету заметно свежеет, и тогда ни о чем другом, кроме кровати, не хочется думать. Плетешься к общежитию едва-едва. Так бывает после работы в ночную. Не легка она в цехе, где не остывает голова от станочного гула. В полночь, под утро не кончается день здесь. И даже этого длинного дня в конце месяца не хватает, с каждым разом ощутимей и ощутимей накапливается в теле усталость.
Из-под резца тянется, падает горячая стружка на дно станины. Выгребать некогда, станина доверху набита дымящимися витками.
Еще несколько штук, еще десяток деталей… От чрезмерно нагретого резца стружка порой крошится, мелкой крупой хлещет из-под щитка и, дымя, попадает в одежду или ботинок, впиваясь горячим крошевом в кожу.
Беда, коль встрепенешься и сразу начнешь стружку вытаскивать. Раскаленное крошево пристанет, прилипнет плотнее, усилит ожог. Вытерпи, не шевелись, и кусочек горячей стружки быстро остынет в складках одежды. Потом, в раздевалке, вытряхнешь его. К этим ожогам, напоминающим мгновенный укол, со временем привыкаешь. И только однажды, позже, заметишь, что руки покрыты шрамами-завитушками. Отметины на всю жизнь.
В одну из весенних ночей завершали работу. Уже вымыли руки, переоделись. Миновали конторку Сипова. Мастер дремал, положив подбородок на кулаки, но, услыхав голоса и шаги, мигом встряхнулся:
– Куда это?!
– Как куда? Домой.
– Спа-а-ать?
– А почему бы и нет? Смена-то кончилась.
– Останьтесь. Ну на два часа.
– Все равно много не сделаем. Выдохлись.
Видя, что уговорить не удастся, Сипов сказал:
– Смотрите не подведите!
– Не подведем.
И действительно, назавтра достигнут предел, после которого корить себя вроде бы не за что.
Цех сразу оказался первым. Получили все вскоре премию. Носился на радостях Агафончик. Скрывая хромоту, важно шествовал Сипов. Родиону вручили флажок ударника.
И это было хорошо, потому что наступал новый месяц, цвела вовсю весна, и все так же манило во двор вечернее небо. Там, во дворе, зовущ и крепок был в курилке запах смородины.
И опять просил Сипов:
– Остаться надо, ребята.
– В начале месяца-то?
– Надо, ребятки, надо. Пусть у нас лучше задел будет, – убеждающе и просительно обращался Сипов к работающим во второй смене.
– Да на кой он черт, задел этот? Месяц в кино не были.
– И я не был. Что же делать… – И совсем тихо Сипов добавил: – Учту, не обижу… – намекал то ли на прогрессивку, то ли на премиальные.
Как странно – оставаться после работы в начале месяца. Оставаться в полночь. Можно, разумеется, остаться и поработать. Одно непонятно – задание сделали, а суета осталась, издергала в два счета.
Спросили Сипова. Спросили, долго ли будет продолжаться так. Хотел отмахнуться: дело, мол, важное – не каждый поймет. Но, подумав, пояснил:
– Один станок на ремонте, в другом подшипники отчего-то греются…
– Дополнительно смену вводите.
– А кого ставить? Кому в ней работать? Да некому, кроме вас!
– Не вечные мы.
– Ну вот. Не вечные! Понимать производство надо. Этих же не пошлешь, – показал на двух подростков, принятых после школы. – Такое натворят – за месяц не расхлебаешь. Весь запас резцов пустят в расход.
– В караул бы ваших подростков зимней ночью – мигом бы дурь соскочила.
– Бог с ними, – рассуждал Сипов, – с этими подростками. Скоро их призовут. А нам с вами работать надо. Работать еще лучше. Ведь мы теперь первые, ударники. И должны сделать потому больше прежнего.
Что ни говори, а рассуждает Сипов правильно. Подростков в самом деле поставить нельзя. Парни такие волосы отрастили, что когда наклоняются к станку, кажется, вот-вот волосы намотает. В перерыв они краской вымажут кнопки, подсунут под руку ветошь с деталью, заклинят дверцу шкафа либо принесут в цех лягушку. Привяжут ее за лапку к деталям так, чтобы контролеры боялись и лишний раз не подходили бы к детали.
Есть, видать, люди, к кому поздно приходит зрелость, кто по выдумкам и проказам остается долго мальчишкой.
Бес надоумил Родиона в тот момент, когда Сипов и без того был на взводе, сказать тому, что станок на долгий ремонт могли не ставить, обошлись бы текущим ремонтом. Сипов поначалу слушал, кивал, поддакивал, а потом коротко бросил враз:
– Подошло время – поставили. Порядок есть порядок. Не нами установлено, не нам и менять.
Разговор, наверное, и забылся бы вскоре, как только приступили к делу, но откуда-то взялся Агафончик, качнул черным беретом и подлил масла в огонь:
– Приучили ребятушек оставаться. Приучи-и-или. Так вам и надо!
Выходило, если бы не Родион да еще двое-трое таких же демобилизованных и до работы прытких парней не оставались бы, и все шло бы ладом.
Агафончик подзудил и быстренько отошел к себе – мол, думайте без меня. Мое дело подсказать, а там сами глядите. Некоторые тут же задумались: не приучили ли Сипова в самом деле?
После обеда мастер обычно ходил по цеху, задерживаясь время от времени у станков, пока шальной виток дымящейся стружки не вырывался и не летел в его сторону. Тогда шарахался от стружки в сторону и почему-то сразу же уходил в свою конторку, где с невозмутимым спокойствием стругал ножичком яблоко. Не любил Сипов горячей стружки, не терпел ее, и стружка вроде бы тоже Сипова не терпела. То ли когда-то она обожгла его, то ли Сипов вообще был непривычен к ней.
Совершая после перерыва обход, Сипов протянул Родиону резцы:
– Возьми. Дополнительные.
– Нехорошо выходит, – начал было Родион. Но Сипов мигом насторожился:
– Что нехорошего-то?
– Ударник вроде я, – Родион кивнул на флажок, – а приходится перерабатывать, прихватывать. Люди что скажут?
За гулом станков приходилось кричать, и Сипов отозвал Родиона к окну, где гул был слабее:
– А сознательность? Где ваша сознательность? Неурядицы свойственны в любом деле, на каждом предприятии.
К окну потянулись другие. Шумели одни вентиляторы, оставленные на миг станки ждали своих хозяев. Появился и Агафончик, с ходу забалагурил:
– Что за шум, а драки нет?
– Вот, – кивнул Сипов на Родиона. – Опять выкинул коника.
– Для тебя же мастер старается, чтоб заработал, – проворчал укоризненно Агафончик, – а ты?
– Помолчи-ка, – осадили быстренько Агафончика.
– Мог бы отгул попросить, – бросил Агафончик уже примирительно.
– Да разве дело в отгулах? – не остывал, не успокаивался Родион. – Пойми ты!
– А в чем, по-твоему, дело? – Агафончик откинул прилипшую на лбу прядь и ждал, уставясь на Родиона. Вынуждал сказать то, что скажет в их смене не каждый, но о чем наверняка многие думали.
– А дело, откровенно говоря, в извилинах. Кое у кого они не так выгнуты; Надо уметь работать, а не за стул держаться.
– Это уж слишком, – проворчал Агафончик.
Рядом заметили:
– Известно, не каждый может остаться. Особенно те, кто учится. Хлопот полон рот.
– Ну, друзья мои, – развел Сипов руками, – учиться следовало вовремя!
И тут Родион не выдержал, сказалось, наверное, напряжение от бессонных ночей:
– Учиться, Анатолий Иванович, никому нелишне. Даже вам. А относительно комбинаций одно сказать надо, делайте их, укладываясь в рабочее время. На чужой спине да в рай…
Пыл Родиона перекинулся на других:
– Ведь правильно говорит!
– Да что правильного?
– Трудовой кодекс читали?
– Читал, – кивнул Сипов. – Знаю не хуже вас.
– Вот там и сказано.
– Что там сказано?
– Сверхурочные разрешены только в исключительных случаях.
– Наш случай и есть исключительный.
– Да в чем же он исключительный?
– Мы делаем детали на экспорт? И не имеем права не отправить их в срок. Понимаете вы или нет?
– Понимаем.
– С нас семь шкур снимут, – вразумлял Сипов.
– Почему с нас? С кого надо, с того и снимут.
– Вы лучше посмотрите, что делается за нами. Хватали, старались, ночей не спали, а для чего?
– Кто это сказал «для чего»?
– Я сказал. – Родион ждал – вот Сипов обрушится на него, но, видя, что тот молчит, продолжал: – Я сказал. Сделанное нами сверх плана часто не идет на выход. Оно остается в цехе, на других операциях. От нас оно уходит, а потом застревает. Мы создаем завал. Посмотрите, сколько скопилось сверхплановой нашей продукции на шлифовке.
– А давайте посмотрим! – оживились собравшиеся, чувствуя, что он говорит не зря. – Давайте пойдем – посмотрим!
Не сговариваясь, подались в конец цеха, где сквозь проем в стене поступали детали после термитной обработки на шлифование. В термитном с ними еще справлялись, но как только попадали детали к шлифовальным станкам, образовывался завал. Их было слишком много – сверхплановых, лежащих штабелями, неделями ждущих своей очереди.
Станки здесь пропускали ровно столько, сколько могли пропустить. И детали скапливались, напирали, как лед у речного моста.
– От себя, только бы от себя! А там – трава не расти. Надо писать, говорить на собрании – показуха, черт знает что! – Галдели, шумели и порешили на первом же собрании рассказать все. Термитчики тоже хороши: перевыполняли, помалкивали.
Сипов молча глянул и тут же ушел. Разошлись и остальные. Вгрызались резцы. Падала, на лету остывая, стружка.
В машинном гуле живо стоял в ушах каждого разговор. Было над чем подумать. Сделал бы кто прибор такой, чтобы могли вымерять им люди плохое и доброе, браковать ненужное. И вручить, раздать прибор такой каждому, наподобие тех, что выдают солдатам измерять радиацию.
Собрания весной Родион не дождался. Оказался вскоре в цеху ремонтников.
* * *
Комната у Родиона на двоих. Но сегодня был он один.
Спал город, спало общежитие. А мысли цеплялись, как клочья тумана за оголенные сучья. Да, наивно, оказывается, было писать заявление, вынуждать до хрипоты спорить в душном кабинете людей, за смену и без того намотавшихся…
Гудели далеко за пустырями в ночной тиши тепловозы, стучали колеса вагонов.
Водители запоздало тормозили у перекрестка, и визг тормозов будил спящих. Все улавливает, вбирает в такие минуты сердце.
Поезда… По ночам их шум доносится к Родиону в комнату. Несутся из далей, зовут к перемене мест, подобно журавлиному кличу.
Так вот залетали гудки поездов к мальчишкам в деревню, заставляли прислушиваться к звукам, несхожим с другими, привычно окружавшими детвору звуками.
И оттуда, из минувших тех дней, явилась некая странная, поездами зароненная необузданность.
Ребенком однажды впервые ехал Родион с матерью в город. От станции до деревни, где жили – было километра четыре. Кустарниками и редколесьем уводила от деревни к поездам стежка. Беспредельным представал детворе этот путь и окружающее его по сторонам.
Стежка в сторону станции – единственная, *и помнилась потому лучше других деревенских стежек. Она уводила туда, где пахли густо прогретые солнцем шпалы, струясь, убегали вдаль рельсы…
По дороге в город радостно распахивалось из окна вагона неизведанное, неразгаданное мальчишками. Здесь ничего нельзя было пропустить. На речке, в лесу, в поле у стада мальчишки долго будут друг другу рассказывать об увиденном.
Вот мимолетно показался у пригорка аэродром. На земле самолеты напоминают опустившиеся угловатые облака. Завидя их, Родион приникал всякий раз вплотную к окну, будто надеялся постигнуть тайну тайн – на кружение над землей, кружение в небе…
Сколько потом ни приходилось ездить этой дорогой, с нетерпением всегда ждал он того момента, когда мелькнут за пригорком в ряд стоящие самолеты. Надо успеть их увидеть, надо схватить самое важное по пути в город. «Ус-петь! У-видеть!» – поторапливали обычно колеса.
И приезжая в край детства, ждет и теперь он на станции проходящего поезда, от которого мигом тают накопившиеся усталость и горечь.
Родион узнал к поездам дорогу. И в знойные дни лета, когда рассеянно сновали в синеве облака, убегал на станцию в одиночку.
«Та-та, та-та, – наперебой стучали, неслись здесь, пели колеса. Дальше быстрее: – Без тебя, без тебя, без тебя! – И наконец протяжно: – Обла-ка, обла-ка… об-ла-ка…» Беспокойное, взбудораживающее и манящее нес в себе их стремительный бег и грохот. Какая-то запрятанная сила в тебе начинала ему отзываться. Метаться, биться, рваться наружу.
Поезда уносились. Быстро затихали колеса. А Родион стоял под откосом, слушал, как не унимается в душе рвущаяся к ним сила. И вместо деревенских стежек, над полями рассеянных облаков – замелькали в жизни степные стройки, общежития, города, палатки, армия…
С поездами оживала в дороге юность. И как журавля, отбившегося от стада, звали и звали они теперь по ночам в дорогу. А однажды летом, когда Родион до устали нагулялся по загородным полям, глядя как взвивается и журчит над своим гнездом жаворонок – ему привиделся во сне шедший с небывалой скоростью поезд. И так же скоро над ним неслись громадные облака. Они увлекали все, что попадалось на их пути. Жаворонок запутался и, силясь скорее выбраться, пронзительно закричал. От его крика Родион вмиг проснулся. Крик напомнил ему вой станка… Полежал, вслушиваясь в дальний тепловозный гудок, и сам себе показался вдруг остановленным поездом…
* * *
Да, наивно было сегодня спорить, вынуждать сидеть в душном кабинете людей, за день и без того намотавшихся. Сдвинулось в жизни привычное, и подкрались незаметно раздумья об уходе, об отъезде…
После работы Дементий посоветовал Родиону не уходить, а ждать вместе с другими заседания завкома. В пустом коридоре среди поблекших плакатов, графиков, стендов собралось несколько человек, чьи заявления по различным причинам должны были разбираться. По очереди вызывали каждого. Подождать было просто необходимо – обсуждались сразу два дела: жилье и характеристика в институт.
Будь поблизости, – предупредил Дементий и скрылся за дверью. За окном тревожно вспыхивали дальние зарницы, перемигивались с искрами проводов над троллейбусами.
Из-за духоты дверь не прикрыли, и разговор завкома проникал отчетливо к ожидавшим. Обсуждалась первой тихо и мирно воскресная поездка в колхоз. За ней – квартирный вопрос. Говор тут пошел громче. И немудрено: из каждого цеха отстаивали своих.
Кроме Дементия, были Сипов и Горликов, голоса которых пока не слышались. Вскоре зачитали заявление Родиона, написанное так, как подсказал ему в свое время Дементий. Он же и подкрепил заявление своей резолюцией, поэтому на замечание директора, что доводов несколько маловато, Дементию пришлось выступить.
– Ну что парню писать? Жениться намерен. В институте учиться хочет. Надо квартиру дать.
Позвали Родиона.
– Живешь в общежитии?
– В нем.
– Сколько работаешь?
– Два года.
– Жениться твердо намерен?
– Твердо.
Дементия и Родиона выслушали. Многие согласно закивали: дело, мол, ясное, тянуть нечего – утвердить. Пусть себе женится, потомством поскорее обзаводится.
Спрашивал больше директор, лишних вопросов не задавал. И сердце Родиона колотилось, готовое вот-вот вырваться. Ему доверяли, на его стороне были. Понимали! Посовещались завкомовцы, побалагурили.
– Проголосуем тогда?
– Надо, надо.
И когда уже потянулись вверх руки, словно бы нехотя, взял слово Сипов. Заговорил неторопливо, одновременно вытирая платком лицо:
– Конечно, жилье дается нуждающемуся…
– Это известно, Анатолий Иванович.
– Минутку! Я никого не перебивал.
– Не мешайте, товарищи, – заметил директор.
– Однако из нуждающихся, – продолжал Сипов, – предпочтение отдается лучшим, кто проявил себя в быту, на общественной работе, производстве. Если рассматривать Ракитина с производственной точки зрения, то многим известно, что переведен он в разнорабочие. Решайте. Мое дело проинформировать.
Заговорил Горликов. Он вскинул руку, но прежде помолчал, настраивая внимание:
– Он что, этот станок, прямо так взял и поломал?
– Сжег подшипники.
– Как же он жег их?
– Станок не выключил.
– Не скрою, – взял опять слово Горликов, – рассуждает Анатолий Иванович вроде верно. Разнорабочим Ракитин – Месяц. Но до этого-то он работал у вас! И как работал! Вымпел, Доска почета. Было или не было, Анатолий Иванович? – спросил Горликов.
– Было.
– То-то же. Я предлагаю квартиру будущим молодоженам дать в одном из очередных наших домов. Далеко отодвигать, на мой взгляд, не следовало бы.
– Как, товарищи? – спросил Дементий, ведший собрание.
– На очередь, чего уж тут.
Проголосовали. Разом со всеми потянулась вверх и рука Сипова. Следующим разбирали заявление Агафончика, просившего квартиру на улучшение. Агафончиком называли его только в цехе да в курилке. Здесь был Агафонов Сергей Александрович. Кое-кто колебался – давать или не давать, и Сипову пришлось выступить. С Агафоновым он проработал столько, что «дай бог каждому». Но сколько – Сипов не сказал. И везде с жильем не везло Агафонову, в последний момент что-нибудь да срывалось, мешало получению.
– Неужели такое вот и сейчас, а, товарищи? – вопрошал Сипов.
– Трехкомнатную многовато… – возражали ему.
– У него мать живет.
Агафончик молчаливо сидел, зажав меж колен руки, полагаясь не столько на авторитет завкома, сколько на доводы Сипова. От этих доводов зависело теперь его дело.
– Товарищ Агафонов, – обратился директор, – мать где живет?
– Со мной она.
– Да-а… Трудный случай. Нет сейчас трехкомнатных.
– Вы мне лучше дайте однокомнатную. Я в нее мать поселю, – подал идею Агафончик. – Ее потом обменять можно будет.
– Однокомнатную, а где она? – встрял Дементий.
– Их и гак мало, однокомнатных-то.
– То-то и оно. Придется потерпеть немного.
– Как же быть… Вы что-то хотите сказать, Ракитин? – спросил директор. Родион встал, и все обернулись в его сторону. – Отдайте мою квартиру матери Агафонова.
– А вы?
Стало тихо. Так тихо, что машинистка даже притаилась вроде цикады.
– Подожду нового дома…
Кругом загомонили, закашляли:
– Что, товарищи, дадим Агафонову квартиру, намеченную Ракитину?
– Дать, конечно, раз уступил.
А как было не уступить. Задержала память Родиона разговор в курилке о житье-бытье Агафончика. Помнилось, как кто-то сказал, что живет Агафончик в общей квартире. И никакой такой роскоши, никакого богатства – живут, как могут. Маленькая уступка проявилась внезапно, выплеснулась сама собой. Он был разнорабочим. Он был наказан. И вряд ли имел теперь право получать эту квартиру.
Последним вопросом разбирали характеристики поступающих в институты. Отзывы давались представителями цехов. Начали выяснять, кому характеризовать Родиона. Решили выслушать и прежнего и нового мастера.
– Как вы, Анатолий Иванович? – обратился директор к Сипову.
– Дело коллектива. Сейчас у Ракитина другой мастер…
– Не возражаю, – ответил Горликов, – пусть поступает.
– Не возражаете-то не возражаете, но ведь человек-то наказан, понижен, – поступок-то налицо! – высказался Сипов.
– Какое уж там! – бросил Дементий.
– То-то и оно, совместная выпивка сделает что угодно. – Сказав это, Сипов, как говорится, подрезал Дементия начисто. Многие заинтересовались, о какой такой выпивке речь?
– Да, было дело, в саду в перерыв как-то… – пояснил Сипов, не вдаваясь в подробности. Видеть Сипову довелось одному, и теперь он даже досадовал, что проговорился об этом и приходится давать разъяснения. Начали спрашивать, как так Сипов узнал про это… Затевался непредвиденный разговор. Чувствовалось, что знает о выпивке и директор, постаравшийся потушить ненужное любопытство.
– Характеристику выдать следует, – подытожил он. – И выдать обязательно. Но после того, когда кончится срок наказания. Вы не обижайтесь, товарищ Ракитин, такой уж порядок. Мы ценим вас, но, сами понимаете…
– А не поздно ли будет? – заметил Горликов.
И вновь заговорил Сипов:
– На другой год поступит. Пока характеризовать нечего: человек наказан, а мы его в институт, так выходит? В конце концов не перевод в разнорабочие помеха. Пьянка, вот что! Никакого права не дает она характеризовать положительно.
– Вы повторяетесь, Анатолий Иванович, – прервал директор. – Вопрос и так ясен. Я думаю, Ракитин правильно нас поймет.
Дементий заметно сник, как-то сжался, ушел в себя. Не легче сделалось и Родиону. Сидел как в воду опущенный. Одна пустота в душе.
* * *
Он не пошел сразу домой, в общежитие. Повернул к станции, к вокзалу. Сновал и толкался там, глядел, как садились в очередной поезд люди, как ждали они в вокзале своей дальней дороги, и ощущал с ними беспокойство отъезда.
Влекла его сегодня дорога. Тянуло к забытому перестуку колес, запаху шпал, угля, мазута, к густому напористому ветру ночных просторов. И если бы еще легонько подтолкнул кто, уехал бы Родион тотчас же. Но с ним рядом никого не было. Скошенным лугом тянуло с подстриженных днем газонов. Редкие окна светились огнями. Над городом плыла луна, от ее света зелень улиц становилась темнее.
За полночь он вернулся в общежитие. Коридоры, лестницы, переходы – отдавали здесь долго не убранными вагонами дальнего поезда. И только сильней бередили.
* * *
Куб-цистерну взялись перевозить с утра. На заводе уже и позабыли, когда и кто ставил этот огромный бак. Он был высок, и когда заполнялся маслом, заправщики взбирались по лесенке. Отодвигали крышку и опускали от стоящей рядом машины шланг – сливали масло. Повернув внизу кран, брали и несли смазку к станкам.
До конца масло никогда не сливали, предпочитая добавлять его, как только уровень приближался ко дну. Эту цистерну-бак ни разу не трогали, не смотрели с тех пор, как установили.
Теперь надо было ее переместить, передвинуть к ремонтному цеху. Горликов попросил Родиона помочь, именно попросил, а не приказал, ибо обязанности Родиона сводились к заботам внутри цеха. Работа была несложная. С утра ждал наготове подъемник и двое рабочих. Бак-цистерну подковырнули ломиками, подложили слеги, пропустили под днищем трос. И когда оторвали ее от земли и она накренилась, словно бы пошатнувшись, внутри ее каменисто громыхнуло раз-другой, перекатилось, ударилось о стенки и стихло…
– Странно…
– Что странного? – спросил Родион в свою очередь.
– Камни какие-то… Откуда?
На весу начали выравнивать куб-цистерну, и опять громыхнуло в кубе, опять отчетливо плюхнулось в остатки жидкости, взболтнуло ее – и успокоилось.
– А может, кирпичи?..
– Что бы ни было, – сказал Родион, – а придется достать. Смазка грязниться будет.
Проверить следовало во что бы то ни стало. Будут брать масло и не догадаются, что лежат на дне кирпичи.
В глухом месте задворка цистерну перевернули. Потекла смазка, за ней выпали на землю, а потом и посыпались – одна за другой… детали.
Родион взял одну, повертел в руках, торопливо протер и глазам не поверил: детали были из его прежнего цеха. С его линии даже!
– Не твои ли, Родион?
– Не мои.
– Ловок же кто-то. Ловок! – восторгались рабочие и водитель подъемника. – Ну век не догадаться.
Родион повертывал детали: углубления на них, а точнее, пазы-канавки, были почему-то в песке. Значит, песок оставался и на дне цистерны… Он видел брак, кем-то вынесенный из цеха и спрятанный в бак-цистерну. Брак, сделанный в его старом цехе от неправильно закрепленной фрезы.
Фрезерные канавки тянулись не прямо, а вкривь. Дело оказалось серьезным: детали составляли сумму немалую. Утаить их нельзя было. И Родион решил известить Горликова, поговорить с Дементием. Не идти же ему было к Сипову.
* * *
Как-то накануне праздника в составе контрольной дружины довелось обходить свой цех. Смотреть, вычищены ли станки, убрано ли вокруг них как следует. Подле тумбочки Агафончика лежала опилками присыпанная стопка деталей, оставленная словно бы невзначай, но явно наспех. Из нее торчали концы деталей. Родион не остановился, и группа не задержалась – прошли мимо. Решил потолковать с Агафончиком с глазу на глаз. Как-никак соседи же. Он так и сделал, когда обход завершился.
Агафончик, однако, успел исчезнуть. Исчезла и стружка, и с ней стопка деталей. Агафончик вскоре вернулся и растерянно смотрел на стоящего у станка Родиона. В молчаливом замешательстве Агафончик взялся протирать тумбочку, не решаясь заговорить первым.
– Вынес?
– Что вынес…
– Давай начистоту! У тебя лежал брак. Только что.
– Какой брак? Сделанное лежало.
– Сделанное ты сдал. А брак присыпал опилками.
– Бра-а-ак?
– Да. Брак.
– А что же не говорил, когда лежал он? Что молчал?
– Жалел. Тебя, всю смену жалел. Позора не обрались бы.
– На мушку берешь, Родион. Не было здесь брака! Не было!
– Ладно, черт с тобой, – произнес Родион в сердцах. – Попадешься, пеняй на себя. Тебе же хуже будет.
На такой поворот Агафончик не рассчитывал. Он надеялся, что Родион пойдет к мастеру, к учетчице, будет наводить справки, и внутренне приготовился отнекиваться и спорить. То, что Родион не стал ни того, ни другого делать, Агафончика смутило. И он не знал, понимать ли действие Родиона как доброту или ждать какой-нибудь поздней каверзы.
Родион угадывал его состояние, хотел сказать даже, что ничего он не замышляет, а хочет лишь одного: чтобы в смене их обстояло все хорошо. Но объяснить это не смог, не та была минута, не то состояние.
Родион чувствовал, разговора не получилось. И не получится. Кто-то предупредил в последний момент Агафончика об их обходе… И Агафончик успел брак присыпать опилками.
Но куда так быстро мог он детали спрятать? Как проглотил. Неужели спрятал, не выходя из цеха? Что-то было в этом даже занятного. В детстве, поди, Агафончик лучше других играл в прятки. Любопытства ради узнать бы, что за тайник существует в цехе, о котором и в голову другим не приходит. И которым ловко пользуется Агафончик. На душе очень скверно, будто именно он сподличал. Надо было все-таки что-то предпринимать. Высказать свои подозрения? А если окажется, что Агафончик все-таки не виноват, хотя это маловероятно. Но попробуй докажи. Надо просто присмотреться. Выходит, он должен шпионить? Но при чем здесь шпионство? Подлость есть подлость, и если терпеть, ничего не замечать – значит, быть самому мерзавцем. Однако действительно мог спрятать в бак детали и кто-то из сменщиков. Опустить днем детали в бак не каждый решится. Только ночью можно такое сделать. С Агафончиком же дело происходило днем.