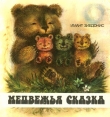Текст книги "И лун медлительных поток..."
Автор книги: Геннадий Сазонов
Соавторы: Анна Конькова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Русские ходоки, беглые самоходы
1
Брал с собой Мирон Апрасинью на ярмарки. Она готовилась к ним заранее, сдерживая нетерпение и радость, – редкий мужчина брал свою жену в разноцветную, горячую круговерть ярмарки.
Нет, то были не торжки, то открывалась сказка. То было пиршество, распахнутость, необозримость и бездонность тайги и рек, дары земли и солнца, груды сказочных богатств других земель.
Просторно, лихо, хмельно и богато на площадях Верхотурья и Ирбита, Пелыма и Гарей раскидывались звонкоголосые, разноязыкие ярмарки. Из таежных урочищ, с верховьев Конды, Пелыма и Туры, приезжали охотники-манси с длинными ножами у поясов. С обских песков, с Ваха, Казыма и Северной Сосьвы с невозмутимым спокойствием и достоинством являлись охотники и рыбаки ханты, татары с Иртыша и Приишимских степей, черноликие бухарцы из Тобольска, коми – зыряне и пермяки, вотяки, чуваши и мордва стекались на ярмарки, каждый в своей одежде и обычаях. Оленеводы, зверовики-соболятники, медвежатники, гуртовщики, укротители диких коней, рудознатцы, кузнецы и золотых дел мастера, скорняки и гончары-скудельники, резчики по дереву и металлу раскидывали в рядах свой товар.
У евринца на ярмарке кружилась голова, колотилось сердце – все притягивало, тревожило и радостно пугало: и празднично гудящая, глазастая, языкастая, тысячерукая, локтистая толпа, что по-доброму оскаливала зубы и хитро прищуривала глаза, и звон колоколов, и ржание коней, и сотни густых запахов и нечетких металлических звуков, и буханье молотов о звонкую наковальню, и пронзительные крики офеней и коробейников.
Вот он, сладкий, хлебный ряд, – бог ты мой, пряники печатные, медовые, маковые да бублики, баранки и сушки, калачи и куличи, леденцы и сладости, пироги с рыбой – муксуном да нельмой, пироги с мясом, ягодой, грибами и тут же сизые горы лука и чеснока, желтые горы репы и брюквы, морозной белизны капусты. А вот возы с салом говяжьим, а сало-то в бочках, кадушках, лагунах, ушатах, сало свиное да медвежье, сало баранье – в караваях, шарах, масло коровье – не масло, а спелые тебе луны глядятся из блюд и мисок. Купцы и торговцы сало, масло покупают-продают возами, а конопляное, ореховое – из кедра, льняное и подсолнечное – кадушками да бочками. Мед – невиданное, странное лакомство для тайги-конды, густой, тяжелый мед в кадках, в берестяных чуманах и туесах, в горшках, в деревянных ведрах. Сусла, квасы, хмельная, пенистая медовуха-брага, парящие пельмени, пышущие жаром гречневые блины, горячие шаньги – господи, чего только не раскинулось в рядах у кипящих ведерных самоваров! На разные голоса, разными языками зазывались на пиршество, обильную жратву и питие люди, и поглощались пирожки и кулебяки, расстегаи и колбасы. А рыбы-то… рыбы! Тяжелые пласты карасей отливают густой позолотой, груды желтоглазого окуня и язя, щука в поленнице, обская селедка-ряпушка да сосьвинская селедочка «тугун» – царская рыба в бочонках, нежная да сладкая. Со всех бескрайних краев свезли промысловики рыбу – с Северной Сосьвы, Иртыша, Тобола, Оби навезли осетров, да живьем, да семгу с Печоры, да омуля с Тазовской и Гыданской губ, нельму с обских песков, подводы с красной и черной икрой. А рядом горы мехов, пышные, легкие, и казались они теплыми, отдавали они блеском и чистотой. Связки белок, горностая, выдры, соболя, куницы и кидуса, шкуры медвежьи, росомашьи, лосиные и волчьи…
Апрасинья глядела во все глаза, слушала во все Уши, чуть прикрыв лицо платком, – ей вовсе нестрашно, если русские да татарские мужики видят ее глаза и губы, пущай смотрят, ее не убавится. Но, слушая, не все понимала, видела – не во все верила. Попробовала мед – слад-ко-о! Взяла детям, а евринцы принялись ворчать на нее – только денежку испортила.
– Я брусники наемся, а Мирону малины запасла, – отрезала Апрасинья. – А дети наши никогда мед не лизали. И не лизнут, ежели евринец за полушку удавится.
– Эт-то я-то удавлюсь?! – поразился Илья Чейтметов. – Ну, Апраси-нья! – И купил, не торгуясь, самый пузатый и самый жаркий сияющий трехведерный самовар.
– А я бисеру накупила, – похвасталась Апрасинье жена Кентина и развернула тряпицу, где сверкал разноцветный бисер.
– Это здорово, – ласково ответила Апрасинья. – Когда-нибудь великий бог Торум наградит тебя сынами, а сейчас учи девок своих узорам, а это моим сынам и мужу, – с затаенной гордостью сказала Апрасинья и вынула из кожаной сумки тонко высверкивающие голубоватые, как льдинки, ножи. – Мирону моему подарок!
И когда женщины вокруг хватали ткани, зеркальца, иголки и ленты, Апрасинья покупала топоры, суровую нитку, дратву, свинец и порох.
– Как мужик! – щебетали щеголихи, протягивая серьгу через ухо.
Апрасинья с любопытством рассматривала русских попов с длинными волосами, даже заходила в сверкающую огнями церковь и слышала рев диакона, но ничего не поняла. Ее ослепило, ее оглушило, напугало, но не внушило трепета. В Пелыме ее больше поразила лавка с деревянными расписными ложками и сверкающей посудой, и два дня она мучилась без сна, пока не решила попросить Мирона купить ведерный самовар и огромное медное блюдо – не устояла ее душа перед такой невиданной роскошью. А то, что ей рассказывали о Христе дьячки, пономари, богомольцы, сознание не принимало, все скользило мимо, как талая вода в открытую реку. В самой вере запретов-грехов было во много раз больше, чем в язычестве, и все какие-то мелкие грехи-грешочки, словно рыбья чешуя, меленькая, обильная и прилипчивая. Как, человек с ног до головы грешен? Почему он рождается из греха? Великое таинство нарождения, цветение и зачатие плода греховно? Да пропади пропадом такие боги и их служки, если они проклинают человеческую и материнскую любовь.
– Грех, – фыркнула Апрасинья, – любить мужчину – грех… Любить-то грех? Любовь страшнее огня и сильнее воды. Она громче грома и тише тишины. Все живое выходит на любовь. На зов волка выходит волчица. Трубит лось, и среди диких скал бьется олень за свою важенку. Медвежьим ревом ревет любовь на медвежьих кровавых свадьбах. И она – грех?.. Нет, женщина все-таки крупнее и счастливее мужчины, – рассуждает Апрасинья. – Ей дано больше – не только счастливость любви, но и счастливость рождения ребенка. Женщина счастлива, и, значит, она – грешна?!
Не поняла, не приняла душою Апрасинья постные, обескровленные заповеди церковного бога, но почуяла в них холодную опасность. Дун-дун-дун, дон-дон-дон… дин-дин-дин… – в неустанном, монотонном, ежедневном проникновении эти заповеди, расплывчатые повеления, словно истачивали костяк души… Бог даст, бог возьмет, бог спасет – он милосерден, он велик и всемогущ, он покарает и наградит царствием небесным… А что же сам человек?
– Нет, – отвергает Апрасинья. – Это вера людей, потерявших знание о себе. Вот сама – что я знаю? Знаю я охоту. Маленько знаю зверя, рыбу, птицу. Могу кого-то приручить для хозяйства. Знаю травы и могу, хоть не всегда, помочь человеку. Знаю оленя и его детеныша. Знаю сеть, куда и как ее забросить. Брось меня одну с детьми, без Мирона, найду огонь и выживу. Другого я ничего не знаю. Но знаю одно – как выжить! Сегодня, завтра и много дней вперед. А дальше не знаю… Наверное, не надо того знать, ибо, узнав, можно бросить жить сегодня…
И сама, не зная почему, по какому-то внутреннему движению она жалела русских женщин, тонколиких, изможденных, в темных вдовьих платках, в скорбности застывшего горя. Русские женщины приходили из Леушей, из Нахрачей, приходили они из Пелыма, за сотню немеренных верст. На узких спинах, на узких плечах, завернув потертые монетки в узелок тряпицы, шли они и тащили за плечами короба и узелки, мешки и мешочки с солью, с крупой и сахаром, порохом и дробью, чтобы обменять у фартовых охотников на сушеную рыбу – урак, на сушеное мясо. Не за пушниной шли эти женщины, не за прибылью, не за выгодой они шли крупу меняли, и дробь, и чай, и муку. У них были тягучие слова, тягучие, словно стон, песни и сухие горячие глаза. А иных Апрасинья презирала – те торговались. Они бились за каждую полушку, хватали мужчин за шабурины и падали на колени. Они молили и заклинали своими богами: «Дай рыбы! Дай мяса!» А мужчины словно не понимали по-русски, хотя ездили на ярмарки. Мужчины знали по-русски, и уже многое знали – с кем торгуешь, перед тем не падай, не молчи вывернутым пнем. Купец, тот часто и не торговался, глядел в глаза добро и весело. Просто никто еще не знал, что он уже купил все на корню, оптом. Купил даже завтрашнюю, еще не добытую шкурку, купил жирующую на плесах рыбу.
…Менялась жизнь. В прежние времена манси почти не знали, что такое деньги. Держали в руках монетки, разглядывали двухголовую свирепую птицу. Пересыпали в ладонях монетки, на которых проступало чье-то лицо, и не понимали, какая же сила затаилась в звонких, как льдинки, металлических кружочках. То, что стояло за монетками, все время менялось: вчера за монетку можно было купить пуд соли, а сегодня лишь двадцать фунтов. Постоянной ценностью, постоянной мерой оставалась пушнина, и она гнала манси в неизведанные, заповедные урманы, и она приводила сюда русских купцов. Ох как она была дорога при отце Максима! Но разве купцы платили охотнику полную цену? О Великий Торум! Ты же видел, боже небесный, какие крохи, какую мелочь давал купец за драгоценную шкурку соболя, бобра и выдры! Почти вся пушнина, что добывали охотники-вогулы, шла в уплату ясака. Но ведь сколько шкурок обманом отбирали мелкие служивые люди. Тот «поклонный ясак» шел за пазуху сборщиков, дьячков, чиновников. Нет, конечно, не все они воры, но когда и половина людей ворье, жить страшно! О! Сколько уходило пушнины в жадные руки, утекало из казны.
А теперь на российских просторах все больше и больше нарастали сила и могущество рубля. Ясак можно было вносить или пушниной, или деньгами. И тяжел был тот налог, камнем падал он на плечи и многих валил с ног – по полтора рубля с каждой ясачной души. Зверя повыбили в ближайших урочищах, и тот пугливо прятался в труднодоступных урманах, охотники все дальше уходили из селений, а все лето без отдыха готовились к охоте: ставили охотничьи избушки – вор-кял, готовили слопцы, кулемки, западни; вьюком, а в основном-то на плечах затаскивали в глубину урманов продукты на зимний сезон. Целых сто пятьдесят копеек с каждой ясачной души! А в Тобольске – не в Пелыме и не в Самарово – пуд ржаной муки стоил одиннадцать с половиной копеек, пшеничной – двадцать две с половинкой, пуд говядины – сорок пять, а пуд сливочного масла – один рубль семьдесят копеек! Вот что такое ясак в сто пятьдесят копеек, а когда в семье восемь – десять душ, а кормилец один с двумя-тремя помощниками из старших сынов – нет, не останется ни одного свободного дня, все проглотят тайга, лес и болото. И год от года тяжелел и грузнел ясак, все труднее платить его, все глубже погружается в долги манси, все крепче сети торговцев и купцов. Торговцы все чаще приходят в Евру, но у каждого разная цена за шкурку…
– Почему, зачем манси платят ясак Белому царю?! – не однажды спрашивала мужа Апрасинья. – Это жертва земному русскому богу? Почему?
– Потому что жадный он, ненасытный, как Виткась – Обжора, – отвечал Мирон. – Все готов пожрать, как Виткась – Пожиратель Берегов.
– Да разве может один человек пожрать столько?! – удивлялась Апрасинья. – Какая же пасть у него, какая утроба?! Тем, что он берет из тайги, из рек и озер, можно накормить многие народы.
– Не знаю, какая у него пасть, – устало ответил Мирон. – Вон идет Ондрэ-поляк. Спроси его, только, наверно, не скажет – царь ему руки-ноги ломал…
Привыкли уже все в Евре к беглому Ондрэ. Молчалив он, но знают люди: много он перенес и повидал.
– Ондрэ, скажи, за что мы платим ясак русскому Царю? – недоумевает Апрасинья. – Почему год от года ясак все тяжелее? Почему у царя такая пасть, что пожирает всю тайгу и реки?
– То пасть не одного только царя, – ответил Ондрэ. – Целая у него стая. И в этой стае не люди, а волки… Царь тебе юрту поставил, Мирон? – и усмехнулся Ондрэ, словно насторожил хитрую западню.
– Нет, юрту мне царь не ставил. Отец и дед ставили.
– Наверное, он тебе коней подарил? Наверное, он тебе ловушки и капканы по урману раскидал?
– Да, царь тебе капканы по урману раскидал? Наверное, царь тебе речку Евру в берега вложил, наполнил живой рыбой? – зашипела, как рысь, Апрасинья. Сразу поняла она и побежала по следу Ондрэ.
Молча смотрит на Апрасинью Мирон, не понять ему, чего хочет его женщина.
– Нет, Евра извечно живет в своих берегах, – отвечает Мирон. – О том знают все – не может человек сотворить реку!
– Царь народил тебе тайгу и наплодил в ней зверя? – загремел Ондрэ-поляк. – И земли Конды и Пелыма тоже сотворил царь? Он кормит, одевает, он лечит твоих детей?!
Молчит Мирон. Верно, зачем ему такой царь, которого он сроду не знал, не видел и не хотел знать и видеть. Зачем ему такой царь, если не он сотворил тайгу, не он наплодил зверя. Зачем ему царь, если есть Шайтан – Пупий, невидимый бог?
– Род царя и приближенных его старейшин не в два, не в три, а, наверное, в семь раз больше, чем весь лесной народ манси, – задрожал, зажегся Ондрэ. – А род его главного шайтанщика, род церкви, семь раз по семь больше всех народов Пелыма, Конды, Сосьвы, Оби и Казыма. А слуги? А стража? О, пся крев! Разве хватит у народов сил платить ясак всей этой ненасытной стае? Царские верные слуги есть и среди русских, и среди татар, и среди поляков, и среди манси. И отнимают они не только пушнину, мясо и рыбу. Они избивают мужчин, они насилуют женщин и продают людей, как скот, а из рабства рождается только раб, смирный и дряблый, как снулая рыба.
Не единожды рождались и в Мироне такие мысли, но еще смутно, как тени на вечерней заре, и скользили мимо, не цеплялись кривым сучком – протекали те мысли сквозь него, как ручей в дырявую морду – кямку. Он, Мирон Картин, черный ясачный человек. Навечно, навсегда, совсем? Ведь он свободен в тайге, в реке, на озере? Ведь он свободен, когда говорит со своими богами и те выслушивают его, ведь он свободен среди евринцев. Да, свободен, пока нет царских слуг, пока не пришла пора платить ясак…
И, словно увидев его мысли, Апрасинья безжалостно и тяжело сказала:
– Ты, Мирон, для меня самый дорогой, самый родной человек, но ты лесной человек, ясачный вогул. Судьба твоя – работать и лесовать на Белого царя, который на весь твой народ смотрит, как ворон на падаль…
– А что же делать, Апрасинья? – помолчав, проговорил Мирон. – Что делать, пришлый Ондрэ? Ты должен знать ту власть, что держала тебя в железе, как дикого зверя?
– Наверное, и русские жили когда-то так, – ответил Ондрэ. Он было зажегся, а сейчас остывал, говорил тяжело, держась за сердце. – Наверное, многие из людей русских охотились в своих урманах, вскрывали землю и вынимали из нее плод. Но среди них незаметно появились те, кто захватил власть, вызнав тайну, как править народом. А чтобы править народом, нужно Высшее Знание. И оно, Знание, нужно для того, чтобы стать свободными, не покоряться насилию. Мирон, ваши дети должны узнать тайну знака грамоты. Апрасинья, ваши дети должны знать счет! Тогда они узнают, что находится в глубинах рек и земли, кто живет в дальних странах. В познании – радость и свобода! Вот что нужно делать – выходить к свету из темных урочищ!
2
Две зимы тому поселились в Евре два самохода – беглые люди. Откуда они бежали, не сказывали, махали рукой на восход солнца и, сцепив зубы, отвечали одно: «Каторга…» И показывали изрубцованные спины. На запястьях – отпечаток железных браслетов.
– За што тебя в железо одевали? – спросили старейшины, со всех сторон оглядев изодранного, опухшего от гнуса высокого самохода. – Пошто, как волк, на цепи сидел?
Беглый вытянул длинную, искусанную мокрецом шею, натужно сглотнул слюну, оглядел настороженную, недоверчивую толпу. Евринцы окружили самоходов молчаливой изгородью, дымили трубками. Русские мужики приходили в Евру каждое лето, но ватажкой, плотной кучкой, облавливали дальние озера и, заготовив Рыбу, кедровый орех, а кто-то и добыв дегтя, спускались по Конде на широких неводниках, иногда ставя пару. Но эти двое не за рыбой, не за дегтем пришли – просят поселиться… Ушли с каторги, а каторга – о! Из волости начальники приезжали, грозили штаны снять и выпороть того, кто беглым кров дает. Да после того и лица не покажешь… А эти с каторги убегли, помощи просят, но кто знает, что они натворили?
– Пошто, как волк, на цепи сидел? – повторили старейшины.
– За людей! – ответил высокий самоход. – Людям хотел помочь, крестьянам. Без земли их оставили, ясаком задавили… Глаза хотел открыть, а меня в Сибирь. И его, – показал он на своего товарища. – И его за то же…
– За людей… – колыхнулся сход. – Ясаком задавили… Помочь хотели – и за то на цепь?
Долго шумел сход. Между мужчинами налимом скользил круглолицый Кирэн – самый богатый он в Евре – и без умолку сыпал словами:
– Стражники придут, да! Урядник прибежит, да! Пороть станут, да! Они кто нам? Нет, не пускать! Пускай в другую деревню идут.
– Больные, совсем хворые люди попросили помощи, – поднял голос Мирон. – Крова, огня, пищи… Люди Конды и Евры никому не отказывали. Нет у нас такого обычая! Так я сказал.
Селянский сбор после горячих споров позволил самоходам поселиться на самом дальнем краю Евры, выделил им пай в реке, указал место, где построить избу. То была неширокая поляна, что открывалась ладошкой среди корявого березняка, а рядом раскинулось моховое, пушистое болото. Из болота вытекало два негромких ручейка, но несли они в себе чистую, процеженную через ольху и черемуху воду. Вот там дали беглым место и сказали:
– Появятся стражники – в Евре залают собаки. Тогда идите в лес. Мы вас не знаем. Скажем, живут просто так! Как птички живут.
– Совсем птички! – меленько засмеялся Кирэн, словно дробинками хлыстанул по листве. – Это такая птичка… шею тянет, оглядывается, как лебедь.
– За что же русский русского бьет? – потягивая трубку, спрашивала Апрасинья высокого темноусого самохода.
Тот сухо замерцал темными, ночными глазами и ответил резко, словно ножом протянул по железу:
– Белый царь и русских бьет, и не русских – всех, кто ему опасен, кто наперекор… А я не русский. Поляк! Анджей! – И Апрасинья уловила в его голосе столько тоски, что ей стало не по себе.
Темноусый повертел головой, словно освобождался от ошейника, без улыбки глянул на бегающих по молодой траве ребятишек.
– По-ляк?! – выдохнула Апрасинья. – Онд-же-ей… Ондрэ… Как так, почему ты не русский? Морда у тебя вся русская, – удивлялась Апрасинья. – И волос длинный, как у попа.
– Пся крев! – плюнул Анджей и отвернулся, забормотал быстро, словно шипел. – Иезус Мария… Какой такой поп, я врач… доктор… ну, лекарь, понимаешь…
– Ле-карь? Ага. А сам весь драный, в коросте, совсем сдохнешь… Ну а ты кто? Тоже, поди, не русский? – рассмеялась Апрасинья, разглядывая круглолицего, голубоглазого, чуть конопатого мужика с широченными плечами.
– Га! Га! – оскалил белые крупные зубы коренастый мужик. – Я з Украйны… – и чему-то своему засмеялся. – Мыкола я, Мыколка.
– Хохол он, – вставил Анджей и замерцал темными глазами.
– Кто он такой – хо-хол? – пыхнула трубкой Апрасинья. Она обошла вокруг Мыколки и неожиданно для всех ударила того ногою под зад. Мыколка не пошатнулся, лишь оскалился. – Вовсе справный мужик! – решительно заявила Апрасинья. – Зачнешь баб наших портить – убьем. Женись.
– Давай жену! – захохотал Мыколка. – Не пустую давай. Пущай сынов родит! Плотник я и столяр, настрогаю самоедиков.
– Строгай! – позволила Апрасинья.
Не знала Апрасинья, что такое каторга, хотя жила в ней много лет, но то была ее материнская, выбранная ей самой каторга. А что она, каторга, для мужчин? Та каторга, о которой говорили как о великом непрошеном злодействе?
– Ты, Ондрэ, кого же убил? – спросила Апрасинья. – Шамана своего? Или чужого для тебя шамана? Скажи мне, а я отвечу всем женщинам Евры, что есть каторга!
– Га! – хохотнул неунывающий Мыколка.
Ондрэ курил кем-то поданную трубку, кашлял надсадно поломанной грудью и, хрипя, как запаленный конь, ответил:
– Каторга… Она не за убойство лишь. Она, как судьба, каждому за свое. Мне за понимание… – и надсадился, закачался, ломаясь вперед-назад в потоке кашля. – Ты, крупная вогульская женщина, жизнь нюхом чувствуешь?!
– Я, Апрасинья, Журавлиный Крик, чувствую, как пахнет падаль. Потому что я знаю, как цветут травы, – ответила Апрасинья. – Нюхом я чувствую все живое…
– Не нюхом, сердцем я жизнь узнал, – прохрипел Ондрэ. – Вызнал ее шаг за шагом, – и зашептал что-то по-своему, но так шептал, что Апрасинье стало страшно. Так она шептала, когда просила бога небесного и великого бога Шайтана спасти искалеченного сына. – Ты, мать Апрасинья, считаешь, что все живущее должно жить? Лишь потому жить, что движется, ест, пьет и говорит по-человечьи?
– А я – убил! – выкрикнул хохол Мыколка. – Пана своего убил. Дядьку вот его, – и через плечо пальцем показал на поляка.
– И вы вместе?! – поразилась Апрасинья. – И на вас не обрушилось небо?! Он же бросил в Царство Тьмы родимую кровь твою? Он другого племени и должен отдать свою кровь за пролитую.
– Там, – махнул на запад Анджей, – там все другое… Жизнь там вывернута наизнанку.
– А здеся мы побратимы! – засмеялся Мыколка. Он уже оттаял, успокоился, понял, что далеко ушел от цепей и кандалов. Не может ведь погоня добраться туда, куда сломя голову бежит, спасаясь, человек. Вот наберется он сил и уйдет. Уйдет в свои просторные степи, где полный ветер волнует ковыль на древних курганах.
– Давай мне бабу, – захохотал Мыколка и потянул к Апрасинье короткопалые сильные руки.
Дали Мыколке евринские мужики взаймы до лучшей поры три топора, дали два стареньких ножа, железную лопату и обломок русской косы. Запалил Мыколка костры на деляне своей и с Анджеем направил топоры, из косы сотворил строгальницу, из ножей Долото и стамеску, а из лопаты – во все глаза смотрели манси – сработал лезвие для рубанка. Целыми днями крутился на деляне Мыколка, а покашливающий поляк таскал из леса охапки мягкого волокнистого мха. Из березы наделал Мыколка деревянных ложек, из кедра нарезал глубоких мисок, Анджей сходил к князьцу в Сатыгу и притащил две ручные пилы, какие-то скобы и разные краски. Евринские мужики одним махом свалили три десятка лиственниц, и Мыколка принялся рубить русскую избу.
…А в другую весеннюю раннюю пору, когда затухали пожары таежных токовищ и в логовах затеплилось потомство, на черной смоляной лодке поднялся в Евру непонятный, пугающий мужик. Страшенного, дивного роста, костистый и длиннорукий, в черных нечесаных волосах и спутанной бороде. На дне лодки, на тугих мешках и дерюгах, вытянувшись, сложив руки на груди, вверх лицом лежал легкий и светлый, как паутинка, старикашка с крупным носом и пронзительными глазами. Наверное, они прошли бы мимо Евры, если бы не натолкнулись на сваи и мостки прошлогоднего запора.
– Стой! – повелел старик. – Причаливай, Васек!
Васек гребанул громадным, как осетровый хвост, веслом, и лодка наполовину выбросилась на берег. Мужик поднял и бережно вынес старика на лужок, бросил на мелкую траву овчину и осторожно положил его.
– Укачала меня речонка, – слабым голосом протянул старик. – Раздуй огонь, Васек, чаю согрей!
Васек быстро набрал плавника, высек искру и повесил над огнем закопченный чайник, будто вовсе не глядя на берег, куда собралась половина Евры.
– Что за народы там шумят? – не поворачивая головы, спросил старик.
– Вогулы, тятенька! – пробасил Васек. – Любопытствуют.
– Не татаре? – усомнился старик. – И русским духом не пахнет.
– Нет, тятенька. Дух от них вогульский, – ответил сын, вытащил из лодки два куля с зерном и усадил отца. – Пряник размочить, тятенька?
Старик похлебывал из глиняной кружки горячий чай, разглядывал евринцев.
– Бабы у них табак трубкой курят, – сообщил старик, – значит, купец сюды ходит. Гончарную поделку купец сюды не потащит, а кузне твоей, поди, навредил.
– Ништо, – махнул ручищей Васек. – Для кузнеца завсегда есть работа.
– Веди меня в поселенье, – тоненько крикнул старик, и Васек поднял его на крутой берег.
И евринцы увидели, как старичок спрыгнул на землю и, мелко перебирая ногами, побежал по Евре, а за ним валко вышагивал Васек. Они обошли селение, сопровождаемые толпой ребятишек; старик удовлетворенно крякнул, когда на берегу протоки, у кромки ельника, заметил глинистый обрыв. Ощупью, осторожно он потер глину, поплевал, снова потер, скатал ее в шарик и принялся вытягивать.
– Ну, как, тятенька? – Васек поднялся на взгорок и увидел бесчисленные блюдца озер, разделенные невысокими гривами.
– Остаемся! – порешил старик. – Идем к старшому.
– Понимаете по-русски? – обратился он к старейшинам. – Ага. По ремеслу я скудельник, Филей прозываюсь, а сынок… поклонись, Васенька… а сынок кузнец – ножи, топоры, подковы. И бондарь он! – Старик поднял вверх палец. – Понимаешь?
– Понимаем, – ответили старейшины, – ножи, топоры, подковы понимаем. А тебя – нет!
– Меня? – завопил Филя. – Меня, скудельника, гончара, ты не понимаешь? Покажь, Васек! – И Васек из мешка вынул отменную глиняную посуду.
– Живите! – решили старейшины. – Глядеть будем.
На селянский сбор женщин никогда не пускали. Решение схода старейшины самолично передавали Матери Матерей, а Апрасинья, перебрав их по косточкам, дотошно проникнув в их подноготную, уже передавала женщинам, если те решения касались нового или старого запрета. Но и без старейшин Апрасинья знала все и еще чуть побольше о том, что говорилось и решалось на сходах, ибо там обычно верховодил Мирон.
А Мирон ничего не мог таить от Апрасиньи. Мирон понимал, что любой закон, любое решение, которое принимает сход, как-то неуловимо, но всегда бьет по женщине. Грузнеет ясак – женщина спит меньше, дорожает шкурка – женщина спит меньше, дорожают порох и капканы – женщина спит меньше.
«Наверное, настанет время, – размышляет Мирон, – когда она заснет и долго не примет мужчину. А мужчина станет ходить собакой от юрты к юрте. Будет он искать женщину, что высыпается на лебяжьей постели, как жена князька Сатыги. Ведь она даже, говорят, денежку дает, кто ее в лес за кусты утащит».
А Мать Матерей, огрузневшая от силы Апрасинья, женила Мыколку на мансийке Сафроновой, на молодой вдове, что три зимы назад потеряла своего охотника в урмане.
– Не за-ради тебя, – сказала Мать Матерей. – За-ради ее. – Пущай родит светловолосых сынов, но пай им Евра даст. Помни!
– Га! – осклабился Мыколка. – Она родит, ежели ты коня мне дашь. Землю мне пахать да ржи с овсами сеять.
– Мирон, – осторожно прикоснулась Журавлиный Крик к плечу мужа, – он научит евринцев рубить крепкие русские избы.
Апрасинья дала Сафроновой своего старого доброго еще коня.
Старый Филя-скудельник с сыном Васькой Чернотой на берегу протоки поставили кузню. Поляк Анджей – Ондрэ Хотанг (лебедем его прозвали за то, что часто оглядывался, будто все ему погоня чудилась), поставил избу у неглубокого, но быстрого ручья, что впадает в круглое, как блюдо, озеро. Хворый был Ондрэ Хотанг, кашлял надсадно, видели евринцы: никогда уж не уйти ему в свою землю. На кусках бересты, на гладко оструганных дощечках красками, что научила добывать Апрасинья, рисовал он глухой и задумчивый лес, полный тайны и неразгаданной силы. Но лес тот – Мирон подолгу смотрел в раскрашенную бересту – мертвяще цепенел и наполнялся лютой злобой, холодом и недоступностью. Ондрэ накладывал на доску краски, и между медовых стволов сосен появлялись оскаленные морды, мохнатые хари с вывернутыми губами, а Хотанг все пришептывал: «Пся крев… Царь-освободитель… Дал ты волю… а землю дал?» И опять в лесу на кривых заросших тропах, что сторожат мухоморы, возникали крючконосые твари с перепончатыми крылами.
– Тьфу! Ы-ы-у-у… Ёлноер, – ругался Мирон. – Это не наш лес. Это душа чужого леса.